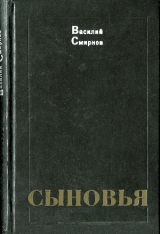
Текст книги "Сыновья"
Автор книги: Василий Смирнов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 18 страниц)
Усмехаясь, она обошла тополь кругом. Запрокинув голову, оглядела его веселую тонкую вершину, попробовала пальцами обеих рук обхватить дерево и не могла.
– Ну, уж такой тополище я рубить не дам. И загороду не трону… Пускай одворину прибавляют, – решительно сказала она.
Как не заметила Анна Михайловна роста тополя, точно так же не заметила она, как выросли ее сыновья. Не заметила она, и как подкралась к ней старость.
Волосы у Анны Михайловны побелели, она высохла, стала еще меньше, на лице прибавилось морщин. А ей казалось, что волосы у нее сроду такие, чуть с сединой, и толстая она никогда не была, и без морщин не живала. К тому же глаза у нее были по-прежнему черные, горячие, вся она была живая, торопливая, легкая на ногу, как в молодости.
– Какие мои годы, – откровенничала она иногда с Дарьей Семеновой в веселую минуту, – в мои годы еще ребят таскают.
Сыновья для нее были по-прежнему малыми детьми, за которыми нужен глаз да глаз. И хотя они учились в семилетке, в каникулы косили Подречный дол, почти не отставая от мужиков, хотя голоса у сыновей ломались, грубели, особенно у Алексея, а плечи угловато раздвинулись, она, мать, не меняла своего взгляда и не чувствовала перемены.
А сыновья, мальчишки, уже стыдились париться при ней в избе, в печи, и, когда зимой колхоз отстроил баню, отказались вместе с матерью идти мыться. Они пошли одни, и она видела, как ребята, по давнишнему обычаю парней, нагишом выбегали из бани, розовые, в крапе березовых листьев, валялись в снегу, ухали и стремглав летели обратно париться.
– Долго ли простудиться, – ворчала мать, когда сыновья вернулись из бани. – Насмотрелись у больших и туда же… в снег… обезьяны. Задохлите только у меня, я вас за ноги – и на улицу.
Под горячую руку она бралась, как прежде, за веревку, награждала сыновей оплеухами и подзатыльниками, но сыновья не бежали под кровать или на голбец, они покорно принимали материно учение и посмеивались, точно им было не больно. Вечерами, когда они гуляли по гумнам и задворкам около парней и девушек или сидели в избе-читальне и запаздывали, стоило ей выйти на улицу, разыскать их и приказать: «Марш домой, спать пора», – ребята послушно, как телята, шли за ней, а если Михаил и ворчал иногда, так больше для фасона.
– Ты, Михайловна, хоть бы орала потише, – говорил он, переняв у Семенова привычку звать ее по отчеству. – Чай, мы не глухие, слышим.
– Знаю я вас, – отвечала мать. – Не скажи, так вы до свету прошляетесь.
– Ну и что же?
– Ничего. Рано тереться по беседам. Вытри-ка сперва нос.
– Да он у меня сухой, посмотри, – дурачился Михаил. – Узнаешь знакомого?
Смеясь, Анна Михайловна щелкала его по носу.
XIX
После ужина, перед сном, Михаил любил «чудить». Кудрявый, быстроглазый и насмешливый, он представлял, как мать разговаривает с бабами у колодца, как молится, истово прижимая ко лбу сложенные щепотью пальцы.
– Вот уж и врешь, пересмешник, – сердилась Анна Михайловна. – На вас, безбожников, глядя и молиться-то разучилась.
Но это была неправда. Она вспоминала о боге часто, по большим праздникам ходила в церковь, хотя перестала говеть и, садясь за стол, иногда забывала перекреститься. Но, как прежде, молилась на ночь, твердо читая положенные по церковному уставу молитвы. Босая, на холодном полу, она подолгу стояла перед иконой, крестясь, шевелила губами, повторяя заученные с детства, непонятные, но как бы и нужные слова.
Сейчас, глядя на баловника Михаила, мать думала: хорошо это или худо, что сыновья растут без бога? Если послушать сыновей – выходило даже очень хорошо. Но ведь они несмышленыши. Что разумеют? Нет, без бога Анне Михайловне было бы как-то пусто.
Михаил представлял в лицах последнее колхозное собрание: Николая Семенова с его неизменным «сегодняшним днем», тараторку-балаболку Строчиху, горячего, вечно недовольного бригадира Петра Елисеева, постоянно сонного Ваню Яблокова.
Стоит Ваня у ворот,
Широко разинув рот,
И никто не разберет —
Где ворота, а где рот,—
пел Михаил сочиненную комсомольцами частушку, и мать от души смеялась, забывая все.
– Воистину, – говорила она, отдышавшись. – Дай ему волю в колхозе, он бы всех нас по миру пустил… А Петра не трожь. Петр Васильич справедливый человек… Ну, сердце горячее. Так ведь поди и у тебя не камень.
Преобразившись, Михаил, скосив глаза, угрюмо пробирался по избе, держась за стену. Шаркая подошвами и тяжело переставляя негнущиеся в коленях ноги, он выпячивал грудь колесом и задирал голову.
– Богородица, я не пью… я вып-пиваю… р-разница! – говорил он, останавливаясь перед матерью. – Что есть человек? Навоз. Удд-обряет для других землю… Не хочу. Выпиваю, потому ура-зу-мел смысл… Коля Семенов м-ме-ня в прорубь тол-кает. Иду, иду!
– Будет тебе, – отмахивалась Анна Михайловна, начиная снова сердиться. – Никогда мне Савелий Федорыч таких слов не сказывал. Жена при смерти – поневоле запьешь… с горя.
– Внимание! Алексей свет Алексеевич на уроке русского языка… отвечает на «отлично», – продолжает баловаться Михаил, вертляво подскакивая к брату, молчаливо уткнувшемуся в книжку. – Порадуйся на сынка, Михайловна!
– Брось болтать! – обрывает Алексей, захлопывая книгу. – Пролетишь завтра по геометрии.
Михаил урчал и сопел, в точности изображая повадки брата. Дар передразнивать у него был необыкновенный. Во всем он видел смешное, слова не мог сказать без шутки.
«Легкая у Мишки будет жизнь. Так и пройдет ее со смешком да шуточками, – думала мать. – Да и то сказать, время ноне такое… веселое. Смеху-то и песен в деревне приметно больше стало».
В школе Михаилу все давалось легко, он редко готовил уроки, надеясь на свою память и острый язык, и поэтому учился плохо.
Алексею, напротив, все давалось с трудом. Лобастый, угрюмый, он потел и сопел над учебниками, но зато не было случая, чтобы учителя на него жаловались. Он, как в детстве, был молчалив, застенчив и мешковат. Любил книги, газеты и, когда мать просила, охотно читал ей целыми вечерами. В другое время ему ничего не стоило завалиться с обеда спать и до утра не поднять головы с подушки.
Очень нравилось Алексею ладить что-нибудь по дому: то он чинил трехногую табуретку, то прибивал полочку на кухне или тесал из березового полена топорище. Однажды он загорелся страстью построить радиоприемник. Битый месяц точил по вечерам, стучал, пилил, вздыхая и посапывая. Он терпеливо сносил насмешки брата, говорившего, что заводы быстрей строят, и добился-таки своего. Деревянный неказистый ящик с медными кнопками и затейливой верхушкой был торжественно установлен на комоде, рядом с зеркалом. Раздобрившись, Анна Михайловна дала немного денег на антенну и пару наушников, и в избе стало пищать, наигрывать и нашептывать, хоть не больно громко, не так, как в читальне, но с некоторым усилием можно было кое-что разобрать, к удовольствию матери и еще большему удовольствию самого изобретателя.
Но как ни любила мать Алексея, она видела, что он некрасив, увалист, тугодум, что за Михаилом, который всем в колхозе нравился, ему не угнаться. Может быть, поэтому она благоволила к Алексею, всем своим характером и чертами повторявшему отца, иногда пекла ему наособицу лепешку-другую с творогом.
Огорчало ее, что он боялся ласки и, кажется, совсем не любил ее, матери. Все, что она делала для него, сын принимал молча, равнодушно. Михаил – тот хоть кипятился, ругался, даже ревел от огорчения, если его лепешка оказывалась не так румяниста, как у брата, или костюм ему был куплен в кооперации похуже. Алексею же было все равно: лежали перед ним залитые сметаной сочни с творогом или ломти черствого хлеба; был ли переплачен лишний червонец или не переплачен за хромовые сапоги с модными высокими каблуками.
– Истукан… хоть бы поблагодарил мать, одно слово ласковое сказал! – кричала, рассердись, Анна Михайловна.
Посапывая и диковато глядя голубыми глазами на мать, Алексей усмехался:
– Ну… спасибо.
– Тьфу! Точно клещами это «спасибо» из тебя тащишь. Да на что мне оно, коли не от сердца, чурбан?.. Вот погоди – помрет мать, спохватишься, да поздно будет.
– Такие молоденькие не умирают, – отвечал за брата Михаил и, подскочив, обнимал мать. – Па-азвольте, мадам, пригласить вас на тур вальса… Музыка! Пра-шу!
Мать вырывалась и, тяжело дыша, оправляя волосы, ворчала:
– Бесстыдник, в мои ли годы плясать… Марш на колодец за водой!
Зимой, простудившись, Анна Михайловна заболела. Превозмогая недуг, кашляя, два дня она бродила, кое-как управляясь по хозяйству, потом слегла. Ночью она бредила, звала мужа. К утру жар спал, она попросила мороженой клюквы и приказала позвать Дарью Семенову, чтобы подоить корову и истопить печь.
– Я сам подою… все сделаю, – ответил Алексей, не глядя на мать.
Михаил сбегал к председателю колхоза, и тот погнал нарочного в город за врачом. Вернувшись, Михаил растерянно побродил возле матери, попробовал вымыть посуду, разбил тарелку, мать побранила его, и он, обидевшись, ушел в школу.
– Иди и ты, – приказала мать Алексею.
– Не пойду.
– Ой, выпорю, Лешка! Не заставляй вставать.
– Спи знай, – грубовато ответил сын.
Анна Михайловна слышала из спальни, как он пошел во двор доить корову, как потом долго звенел подойником, неумело разливая молоко по кринкам, как затопил печь, неловко застучал кочергой и тихонько выругался, должно быть, опрокинув горшок с водой.
Мать задремала и, кажется, опять бредила, и спала долго, потому что, когда очнулась, в избе было сумрачно и она не вдруг разглядела сына. Алексей, горбатясь, сидел у нее в ногах, по щекам его текли слезы. Не замечая, что мать проснулась, он теребил одеяло, разорвал его кромку и, выщипывая вату, совсем как маленький шептал:
– Не умирай… мама… не умирай!
– Дурачок, – ласково сказала она. – Испугался?
Алексей вскочил и отошел к окну.
– И не думал, – ответил он, не поворачивая головы.
– А что шептал?..
– Приснилось тебе, – глухо пробормотал сын, выпрямился, заслоняя окно, и сердито, как бы пойманный в чем-то нехорошем, зазорном, закричал: – Да спи, пожалуйста! Надоела ты мне… вот уроки из-за тебя в школе пропустил.
Кутаясь в одеяло, Анна Михайловна беззвучно смеялась.
Вскоре привезли врача. Он был седенький, маленький, и Анна Михайловна сразу его узнала.
– A-а… беглянка! – тоненько закричал он еще с порога. – Что, опять в машину угодила?
– Никак, хуже, – слабо сказала Анна Михайловна. – Внутри моя машина испортилась.
– Замолола, замолола! – фыркнул старик, сбрасывая тулуп и потирая руки. – Хоть бы чаем угостила, чем страсти рассказывать… Самовар, старуха, живо!
Он нашел у нее воспаление легких, насмешил и измучил, ставя банки, напился чаю, охотно отведал молока и согласился переночевать. Ему постелили на двух сдвинутых лавках, но он попросился на печь, развеселив этим Алексея, долго и пустяшно болтал с Михаилом, научил его, между прочим, свистеть новую песню «Не спи, вставай, кудрявая» и потом так нахрапывал до десятого часа, что Анне Михайловне показалось – от одного этого храпа ей сразу полегчало. Уезжая, врач многословно и с удовольствием растолковал, что пить, что есть, как принимать лекарство, и строго-настрого приказал больной лежать в постели неделю. На прощание он раскритиковал в пух и прах Алексеев радиоприемник, выпил без малого полторы кринки молока и чуть не обидел Анну Михайловну, вздумав вынуть из кармана старинное портмоне, чтобы расплатиться.
Апиа Михайловна пролежала четыре дня, ее одолели безделье и скука, и она, не слушая сыновей, пошла греметь по избе горшками и кринками с такой яростью, так накинулась на заглянувшего проведать Николая Семенова, сердито требуя работы, что трудно было поверить, глядя на нее, будто она совсем недавно лежала как мертвая. Болезнь точно скинула с плеч Анны Михайловны десятка полтора лет. А может, тому была и другая причина, кто знает.
XX
Первого мая, торопясь на демонстрацию, Алексей, одеваясь, оторвал пуговицу на вороте праздничной рубашки. Он попросил поскорее пришить пуговицу. Брат нетерпеливо насвистывал под окошком, и не было сомнения: задержись Алексей еще на пять минут в избе – Михаил уйдет на площадь один.
Понимая это не хуже Алексея, сама давным-давно одетая в лучшее шерстяное платье, мать живо разыскала иголку, подошла к сыну, стоявшему перед зеркалом. Она потянулась к вороту рубахи, стала на цыпочки и не могла достать ворота.
Статный, высокий, словно тополь, стоял перед ней сын. Непокорный русый вихор свисал на лоб.
Анна Михайловна прижала руки к груди. Не мигая смотрела она горячими, влажными глазами на сына и не узнавала его.
– Да сядь ты, долговязый. Как же я тебе пришью? – проговорила она.
Сын наклонился, и она неловко отогнула ворот рубахи.
Руки у нее тряслись, иголка не попадала в просторное ушко пуговицы.
– Скоро ли? – сдержанно спросил Алексей.
– Сейчас…
Пуговица была пришита, а мать все не отпускала ворота рубашки и, не отрываясь, смотрела то на мягкий пушок над верхней губой сына, то на крутую, белую, как кипень, шею, на которой билась голубая жилка.
Потом она уронила иголку, оттолкнула сына в вздохнула:
– Господи, как время-то летит…
– Одиннадцатый час, – ответил Алексей, взглянув с порога на часы.
– Да не об этом я… – качнув головой, проговорила Анна Михайловна.
И весь день она не находила себе места. На митинге у могилы она подошла было вплотную к трибуне и, не дослушав речи Николая Семенова, ушла к бабам, невпопад отвечала им, часто озираясь вокруг, словно чего-то искала.
Ярко светило солнце. Шумели по канавам ручьи. Звонко распевали скворцы на липах. Пламенели флаги и знамена. От солнца, кумача, светлых луж под ногами, от нарядной одежды рябило в глазах. От речей, хлопков, песен стучало и замирало сердце.
Тяжело дыша и тревожно щурясь, Анна Михайловна бродила по площади. Она лишь тогда немного успокоилась, когда заметила среди молодежи русый вихор Алексея и услышала громкий смех, – взобравшись на ограду, Михаил, потешая народ, дирижировал шумовым оркестром девчонок и мальчишек.
Сразу после митинга состоялся традиционный выезд в поле. Не переодеваясь, празднично, народ двинулся с песнями и флагами за околицу. Заливисто ржали откормленные за зиму кони, тарахтели телеги, кричали ребята. А встречь народу, песням, телегам и лошадям из-за овинов выползали тракторы…
До самого леса, окуренного зеленоватым тонким дымком, лежало поле, как одна благодатная полоса. В низинах еще стояла вода, затопив темные, в колючках прошлогоднего жнивья, концы загонов, а на буграх уже было не вязко, почти сухо, и земля, просыхая, рыжела и осыпалась под ногами. Все пробовали нагретую влажную землю, мяли ее в ладонях и говорили, что самая пора пахать яровые. Трактористы, заглушив моторы, лазали по низинам, утопая по колена в воде и грязи, ругались на чем свет стоит.
– Наша ме-те-эс подрядилась у вас пахать землю, а не воду! – кричали они сердито.
– Где вода? Какая вода? Курица перейдет и хвоста не обмочит, – горячился колхозный бригадир.
– Трактор тебе, дядя, не курица… завязнет, – настаивали трактористы. – Ну-ка, сунься сам, выкупаешься по самое горлышко.
– А вы чего хотите? По сухонькому, как по дорожке, прокатиться?.. Ну и езжайте обратно, в свою ме-те-эс!
– Да у нас наряд… Давай справку, что пахать нельзя, повернем оглобли, пожалуйста.
– Я вам дам справку!.. Я вам поверну оглобли… так, что закачаетесь! – стращал Елисеев, закусывая ус.
Помирил Семенов, разрешив пахать где посуше.
– Сырые места на лошадях поднимем, – сказал он.
Анна Михайловна суетилась больше всех. Приказав трактористам начинать с ее участка, благо на нем воды не было, поругалась из-за этого с Петром Елисеевым и, настояв на своем, до устали бродила по загону, то и дело приседая и меряя глубину вспашки. А когда участок вспахали, и он лежал перед ней, точно блюдо с нарезанными ломтями свежедымящегося хлеба, и ей больше нечего было делать, она пошла за трактором на соседний загон.
– Выпила для праздничка, Михайловна? – спросил ее Семенов, когда они медленно возвращались с поля.
В кожанке нараспашку, в новых охотничьих, выше колен, сапогах, бритый и раскрасневшийся, он шел, по обыкновению, с непокрытыми, запутанными ветром космами.
– В такой день не грех и выпить, – сказала Анна Михайловна. – Да я и без вина пьяна, – добавила она.
– Что так?
– И сама не знаю, – рассмеялась Анна Михайловна, вбирая в себя благодатное солнце, далекую невнятную песню и дыхание теплой земли.
– Споем, Коля? – сказала Анна Михайловна.
– Можно. Запевай, я подтяну козелком…
Анна Михайловна помедлила чуток, остановилась. У ног ее, в придорожной канаве, чуть слышно журчал ручей. Она сторожко прислушалась к нему и, ощущая, как ответно журчит что-то в груди, подступает к горлу и сладко давит, запела тихо и протяжно, еле переступая ослабевшими ногами:
У меня, у молоды, четыре кручины,
Да пятое горе, что нет его боле…
– Вона! – удивился Семенов. – Я такой песни не помню.
– А ты послушай. Хорошая песня… Я в молодости ее певала.
И она продолжала слабым, дребезжащим голосом петь грустно и проникновенно:
Первая кручина – нет ни дров, ни лучины…
Другая кручина – нет ни хлеба, ни соли,
Третья кручина – молода овдовела,
Четвертая кручина – малых детушек много,
А пятое горе – нет хозяина в доме.
Песня совсем не передавала чувств, которыми была охвачена Анна Михайловна, напротив, она противоречила им, но песня напоминала что-то забытое-презабытое, столь далекое и в то же время знакомое, вдруг нахлынувшее с такой силой, что нельзя было не петь.
Я посею горе во чистом поле,
Ты взойди, мое горе, черной чернобылью,
Черной чернобылью, горькою полынью…—
почти шепотом закончила Анна Михайловна, и они долго шли молча, задумчиво шлепая по лужам. Потом Семенов закурил папиросу.
– Н-да-а… – протянул он. – Песня старая, а щиплет… – Он на ходу наклонился, мальчишески подмигнул и, обдавая запахом табака и водки, заговорщицки зашептал: – Вишневка у меня припасена… понимаешь? Запашистая. И опять же пироги Дарье удались. С одного взгляда дрожь берет… Заглянем? И песенок попоем.
Анна Михайловна зашла к Семеновым, выпила наливки, отведала пирога с мясом и яйцами, который действительно оказался очень хорош, увела хозяев к себе в гости, запотчевала и долго не отпускала, точно боясь одиночества.
Когда же она все-таки осталась в избе одна, ее вновь охватило беспокойство. Был тот тихий предсумеречный час, когда из углов наступает серая мгла, каждый шорох беспричинно тревожит сердце, спать не хочется, а зажигать огонь еще рано.
Анна Михайловна накинула на плечи вязаную шаль и вышла на улицу искать сыновей, чтобы звать обедать.
XXI
Вечерело.
На западе, в груде белых облаков, точно на пуховых подушках, укладывалось солнце, и полнеба еще горело полымем, а на востоке уже дрожала, как слеза, первая звезда. Отчетливо выступал на вечернем небе зелеными игольчатыми ветвями тополь, и легкая, прозрачная тень его, переломленная через изгородь, падала на гряды.
Становилось свежо. Кричали грачи на березах, угнездываясь на ночь. Из домов, мимо которых проходила Анна Михайловна, приглушенно доносились песни и гомон пировавших людей. На пустынной площади, у могилы, ребятишки забрались на трибуну и, подражая взрослым, болтали что-то и сами себе хлопали в ладоши. Со светелки избы-читальни была выставлена черная воронка репродуктора. Невидимый человек рассказывал, что делается на улицах Москвы. Анна Михайловна немножко постояла и послушала.
Где-то на задворках с ласковой грустью мурлыкала гармонь. Анна Михайловна повернула на нее, но гармонь смолкла, и, когда Анна Михайловна вышла за околицу, там никого не было.
«Точно в прятки с матерью играют… Вот не дам есть до утра, будете у меня вовремя обедать приходить», – мысленно пригрозила она сыновьям.
Она устала от бесплодных поисков, вернулась к избе-читальне и присела на крыльце. Тут из переулка вырвался смех. Анна Михайловна обернулась и не поверила своим глазам.
Впереди оравы парней и девушек шли ее сыновья. У Михаила на ремне висела чья-то гармонь, он придерживал ее локтем, а другой рукой крепко прижимал к себе девушку. Чуть поотстав от брата, шел Алексей. Длинная рука его лежала на девичьем плече. Потом шли еще парни, девушки, и все парами.
И мать не посмела окликнуть сыновей.
Прижавшись в простенок крыльца, она проводила их ревнивыми и гордыми глазами.
«Паршивцы… Поди уж целуются с девчонками… Женихи! – подумала она, усмехаясь. – С Минькой-то, должно, Настюшка Семенова идет… ровная. А у Леньки какая-то долговязая. Да кто же это?» И пожалела, что не успела как следует разглядеть в лицо сыновних зазноб.
Возвращаясь домой через площадь, она наказала ребятишкам покликать сыновей.
В этот поздний праздничный обед Анна Михайловна была молчаливой, притихшей. Перед лапшой она налила сыновьям по стопочке, подумала и перед жарким налила по второй.
– Без троицы дом не строится, – вкрадчиво напомнил Михаил, позванивая стопкой.
– Ничего, построим и без троицы… Малы еще вино-то лакать, – сурово отрезала мать.
Помолчала, посмотрела на сыновей и расплакалась.
– Есть не могу, когда ревут… – проворчал Михаил, вылезая из-за стола. – Да перестань, мамка, же!
Алексей рылся в шкафу, ища домашнюю аптечку.
– Голова у тебя не болит?.. Может, аспирину тебе? – смущенно спрашивал он мать.
– Валерьяновые капли… чучело! – подсказал Михаил и сморщился. – Да не вой, мамка, хоть для праздника.
– Ничего у меня не болит, – ответила Анна Михайловна. – А плакать мне не закажете… Я, может, оттого и плачу, что пра… праздник у меня сегодня.
Сыновья стояли сконфуженные, не зная, что делать.
– Идите… так я… пройдет. – Она махнула им рукой, утираясь фартуком. – Да идите же, говорят вам!
Сыновья помялись, ушли, она прибрала со стола, сходила во двор проведать корову, приготовила квашню на завтра и, вешая лампу на стену, по обыкновению взглянула на портрет Сталина, убранный краевыми лентами и сохранившимися от прошлого года, как живыми, бессмертниками.
Просто и понимающе отвечал Сталин на горячий взгляд Анны Михайловны.
Она легла, раздумалась и, как всегда, вспомнила о муже.
«Не довелось Леше порадоваться вместе со мной на деток», – подумала она в тихой печали и стала разговаривать с мужем и сама с собой.
– Ведь вырастила… видишь? Гулять пошли. Сыты, обуты и одеты… Чу, гармонь-то как наигрывает… Симпатий завели, подумай-ка!.. Кабы не Советская власть да не колхозы, пришлось бы мне, горемыке, по миру идти, милостыньку просить. Ну, спасибо… всем спасибо… Дом надо поскорей строить, не заметишь, как и женить время подойдет… Может, доживу, внучат потешу… А? Как думаешь?..







