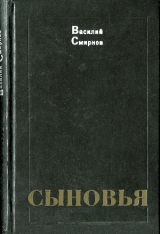
Текст книги "Сыновья"
Автор книги: Василий Смирнов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 18 страниц)
Часть третья

I
Славное выдалось лето в тот год, когда Алексей и Михаил окончили семилетку и стали работать в колхозе.
Еще не просох по оврагам и ямам рыжий ил, принесенный полой водой, еще распевали утром скворцы на тополе и молодой лист его был зелено-чист и мягок, только что зажглись радужным многоцветьем травы на волжском лугу, еще хоронились под кустами, в росистых местах белые бубенчики ландышей и держался их тонкий, чуть уловимый аромат, как жаркое марево задрожало над полями, перелесками, запахло дурманником, гарью, и пришло красное лето.
Палило солнце, и редкий день проходил без гроз. Но то были короткие, светлые грозы. Они налетали невесть откуда, шумели и гремели теплым ливнем и исчезали, словно таяли.
И невиданной стеной, сизой, почти вороненой, поднялись хлеба. Трава была по пояс и, отцветая, все еще росла, тяжелая, сочно-зеленая. Лен вытянулся такой, что все боялись, как бы он не полег. В лесу появилась пропасть грибов, ягод. Ребятишки шутя набирали по две, по три сотни толстокоренных белых, шапками и подолами таскали крупную сладкую землянику, синий, рано созревший гонобобель.
– Такого лета отродясь не помню, – говорила Анна Михайловна, и все соглашались с ней, что ничего подобного никогда не видывали.
Зерно наливалось прямо на глазах. По ночам, душным и темным, полыхали зарницы, словно кто-то мигал, приподнимая тяжелые веки, и всматривался, как зреют хлеба. Они стояли неподвижно, туманно-белые, сонно склонив набухшие колосья. На рассвете набегал ветер, и хлеба, просыпаясь, шелестели, выгибали восковые стебли, пробуя выпрямиться, и снова никли, роняя с грузных усатых колосьев капли росы.
Для Анна Михайловны этот удачливый год был особенно отраден потому, что бок о бок с нею работали в колхозе ее сыновья. Они уже не подсобляли, как прежде в каникулы, а по-настоящему, как взрослые, косили и убирали клевер, ни в чем не уступая мужикам, и Семенов завел для них отдельные трудовые книжки.
– Ну, вот и прибыло нашего полку, – тепло сказал он матери. – Дождалась, Михайловна, помощников.
– Дождалась… слава богу, – она перекрестилась, принимая книжки, и бережно завернула их в платок.
Она отнесла книжки в избу, положила вместе со своей на божницу, за иконы, где хранилось самое дорогое – два пожелтевших огарка венчальных свечей с помятыми пыльными бумажными цветами, свидетельства сыновей об окончании школы, мужнин кисет зеленого бархата, вышитый ею красным шелком еще в девичестве, бутылочка с крещенской водой и грамота, которой колхоз наградил Анну Михайловну за лен.
Любо было матери выйти с сыновьями в поле рано утром, по холодку, в горячую сенокосную пору. Еще с вечера сыновья наказывали матери будить их, как протрубит пастух. Но ей было жалко поднимать так рано ребят. Она доила корову, провожала ее до околицы, вернувшись, разливала молоко по кринкам, ставила одну, самую большую, на стол, осторожно доставала из горки два стакана и чашку, резала вчерашнюю подовую, с творогом, лепешку крупными ломтями. И только заслышав звонок бригадира, приневоливая себя и еще чуточку помедлив, будила сыновей.
Сонные, натыкаясь на табуретки, они одевались, немножко, прилику ради, плескались у рукомойника и, вялые, позевывая, лезли неуклюже за стол, нехотя пили молоко, чуть дотрагивались до лепешки. Мать присаживалась на краешек лавки, мочила в чашке корки, сердито и ласково косясь на ребят.
Сон бродил еще по их розоватым лицам, сковывал руки, заволакивал дремотой глаза. Алексей, посапывая, тер липучие веки кулаками, а Михаил, как в детстве, когда его будили рано, слюнил ресницы и все-таки клевал носом.
– Работнички… нечего сказать, – ворчала мать, – продрать глаза не можете.
– Я выспался, – сипло отвечал Михаил. – Это у меня что-то в глаз попало.
– Хоть раз правду скажи!
– Правду и говорю.
Напившись молока, Алексей молча вставал из-за стола, шел во двор. Он брал с повети свою большую косу-литовку, оставшуюся после отца, прихватывал заодно косы брата и матери, взваливал на плечо и уходил первый. За ним торопился Михаил, засовывая на ходу в карман, по ребячьей привычке, недоеденный кусок ватрушки. Анна Михайловна доставала брусочницу, оселок, запирала избу и догоняла сыновей в поле.
За Волгой, окутанной молочно-голубым туманом, поднималось солнце. Огромное, красное, оно еще не жгло, а только ласкало и светило, заливая все ровным светом. И каждая росинка в этот добрый час сияла махоньким солнышком на сизых стеблях колосящейся пшеницы-зимовки, на придорожной метелке, испачканной дегтем, на разлапой густо-зеленой ботве отцветающего картофеля.
Слышно было, как кричал на коров и хлопал кнутом пастух на дальнем лесном выгоне. За рекой, на той стороне, кто-то запоздало отбивал косу, сталь звенела тонко, прозрачно, как падающая вода.
Пожимаясь от свежести, позевывая, сыновья, сутулясь, шли навстречу солнцу. Косые дымчатые тени падали от них на обочину дороги, к ногам матери. Мать замедляла шаги, чтобы не наступить на эти светлые качающиеся тени.
По дороге встречались девушки, и сон слетал с сыновей. Степенно трогая кепки, ребята здоровались, сходились по пути к покосу с другими парнями, и у них начинался разговор, понятный им одним.
Анне Михайловне приятно было кланяться с девушками, с их матерями, отцами, слушать болтовню и смех молодежи, примечая, как зубоскалит Михаил с Настей Семеновой, хохотуньей, такой же маленькой, как и он, и всегда опрятно одетой, как молча переглядывается украдкой второй сын с Лизуткой Гущиной, и та, высокая, тонкая, покраснев, надвигает на глаза кумачовую косынку.
А когда подходили к клеверам, народ, торопясь, рассыпался по участку, и натачиваемые косы пели жаворонками. Михаил подлетал к Петру Елисееву, дурачась, брал под козырек.
– Товарищ командарм, бригада имени Анны Михайловны Стуковой на позиции, – докладывал он. – Прикажете начать наступление?
– Наступай, – одобрительно кивая, распоряжался Елисеев, пробуя заскорузлым пальцем лезвие косы, точно саблю. – Да смотри, ног не обкоси.
– В атаку! За мно-ой!.. – пронзительно кричал Михаил и, держа косу наперевес, как ружье, пригибаясь, бежал на край загона.
Алексей давно был там. Ребята спорили, кому закашивать первому.
– Да не все ли равно? – говорила им сердито мать. – Будет вам народ дивить!
– Нет, не все равно, – горячился Михаил. – Он меня всегда задерживает. Я быстрей кошу.
– По макушкам, – усмехался Алексей.
– Кто?
– Ты. Половину на корню оставляешь.
– Это у тебя под носом остается… Размахнешься в сажень, а скосишь вершок.
Алексей, плечом отодвигая брата, плевал на ладони, ловчее перехватывал косье. Точно пробуя косу, он осторожно окашивал вокруг себя и потом, откинув наотмашь правую руку, не сгибаясь, делал первый свистящий полукруг. Клевер покорно ложился охапкой ему под ноги, осыпая росу с мохнатых сиренево-красных головок, а старинная коса с золотым полустертым клеймом, длинная и узкая, свистя, делала второй размашистый полукруг, третий…
– Догоняй… богатырь! – отрывисто кидал Алексей брату, и тот ворча шел следом по прокосу, поспешно и коротко тяпая пяткой косы-хлопуши. Вал у него выходил жидкий, неровный, с непрокошенными краями.
– Не торопись… чище коси, – наставляла Анна Михайловна, идя последней и привычно, не сильно и не часто, но споро махая косой. – Ровнее бери… не дергайся.
– Как бритвой брею.
– Оно и видно, – отзывался Алексей, оглядываясь. – Тебе бы этой бритвой лысых брить.
– Пятки береги! – орал Михаил, нагоняя брата.
Умаявшись и попривыкнув, ребята косили спокойнее и лучше. Даже у задорного Мишки ряды выходили ровные, крупные и почти без пропусков.
Останавливаясь точить косу, мать подолгу любовалась на сыновей.
«Господи, ничего мне больше не надо, – думалось ей. – Наглядеться бы на них досыта и умереть».
Горячо и благодарно окидывала она взглядом поля, отягощенные зеленью; облитые солнцем, они раскинулись привольно, убегали под гору сплошной скатертью. Мать щурилась на блеснувшую из тумана серебряной подковой Волгу, на марево, начавшее струиться над головой. Прислушивалась к шороху и свисту кос, к говору народа, опять оглядывалась на сыновей, на просыхающие светлые валы, по которым ступали ее босые ноги. Она смотрела на весь этот знакомый и такой хороший мир, в котором жила, и не могла оторвать глаз от него.
– Михайловна, не отставай! – кричал сын.
Глубоко вздохнув, она наклонялась, чтобы прихватить горсть скошенной травы, обтереть косу, и, жадно вбирая хмельной, щекочущий ноздри запах, примечала: сквозь сухую, колкую щетину срезанных стеблей пробивались от земли бархатные крестики молодого клевера.
– Пострел какой, – бормотала она, – растет… Все растет!
А когда солнце начинало припекать, к ней подходил который-нибудь из сыновей и говорил:
– Ты, мама, иди… топи печку. Мы зараз одни управимся.
– Управимся, – подтверждал другой. – Припасай побольше лепешек да помаслянистей.
– Наработаете, так припасу, – усмехалась она и не шла, а летела домой, легкая, проворная, чтобы вовремя настряпать всего вволю сыновьям.
Она топила печь каждый день, и всегда в печи не хватало места для противней, горшков, кринок и плошек. Ребята возвращались с поля обожженные солнцем, голодные, ели, как пильщики, только поворачивайся мать, и она радовалась, подставляя им груду горячих румянистых сочней, блюдо картошки, плавающей в сметане, противень с дроченой, ноздреватой, истекающей маслом и ароматным обжигающим паром.
Больше, чем прежде, наводила Анна Михайловна чистоту и порядок у себя и жаловалась, что в избе повернуться негде, печь мала, в сенях второму ларю места нет, – видать, пришла пора ставить новый дом.
II
Сельский Совет не прибавил Анне Михайловне земли к старой одворине (прибавлять было не из чего, кругом застроено до отказа), а отвел новую, крайнюю к шоссейной дороге, идущей от станции в районный город. Всем взяла новая усадьба: и простором и удобствами. Зеленая луговина начиналась пригорком и отлого, узорчатым ковром дикой кашки, зверобоя, аграфены-купальщицы и одуванчиков бежала к шоссейке. Место было сухое, веселое.
Однако Анна Михайловна долгое время и слушать не хотела про новую одворину, грозилась пойти в райисполком жаловаться на сельский Совет.
– Как на отшибе… Поживите сами! – гневно кричала она в сельском Совете. – Что я, прокаженная или подкулачница какая, чтобы меня с родного места выселять? У меня на старой одворине и колодец рядышком, и тополь поди как вымахал, и капустник близехонько… и земля в огороде чистый чернозем, и на гуменнике я по три воза гороховины каждый год накашиваю… Не тронусь я, вот и весь сказ!
Убеждали ее всем правлением колхоза. Говорили, что обиды никакой нет, строится не одна она: где же старых одворин напастись? И так скученность в селе страшенная, беда, как случится пожар. Колодец ей выроют, луговину рандалем изрежут да многолетних трав насеют. Опять же, слава тебе, в колхозе на трудодни клевера много дают, за глаза хватит на корову.
– Смотри, не пожелает новый дом на старой одворине стоять… убежит на новую усадьбу без твоего спроса, – шутливо говорил Гущин. – Полно за гнилушки держаться!
– Да ведь курица и та свою жердочку любит, человек и подавно, – отвечала, сердясь, Анна Михайловна.
– Э-э, ноне и куры без насеста обходятся. В клетках сидят, по два раза, говорят, в день несутся… благо цыплят не выводить. Облегчение труда! Постой, скоро и людей в инкубаторах родить будут… Везде перемена жизни.
– Не желаю я никаких перемен.
– А нас и не спрашивают, – смеялся Савелий Федорович, ласково кося глазами.
Он за последнее время опять повеселел, зубоскалил, бросил пить, хоть жене его лучше не стало, кровь у нее шла горлом. Савелий Федорович возил ее по докторам, да без толку, все говорили, что недолго бедняжке осталось жить на этом свете. Наверное, притворялся Савелий Федорович и веселостью своей, как мог, скрашивал последние дни близкого человека. Когда бабы, жалея, спрашивали, как он успевает управляться по колхозу и дома, он коротко отвечал:
– Приспособился. Доченька ненаглядная помогает… Да ведь я и сам постирать, погладить могу.
– Золотые у тебя руки, Савелий Федорович, цены им нет. – Бабы качали головами, забывая в такие минуты все нехорошее, о чем говорили за глаза про Гущина.
– Не жалуюсь, работящие, – скромно соглашался Гущин. – Да вот не всем они нравятся, мои руки.
Анна Михайловна понимала, на кого намекает Гущин. Действительно, Николай Семенов по-прежнему не любил завхоза, наказывал ревизионной комиссии почаще проверять амбары и житницы, и сам, словно ненароком, взвешивал некоторые мешки, когда весной Савелий Федорович отпускал по бригадам семена.
– Перемена – старому замена. Все к лучшему, – уговаривал Гущин Анну Михайловну, по доброте, что ли, своей сочувствуя чужому, хотя бы и маленькому, горю. – По дому и усадьба. Богатое гнездо совьешь… приспособишься.
– Ты-то, видать, ко всему горазд приспособляться.
– А то нет? – осклаблялся Гущин. – Уж мне ли сладко, а смотри, я каков! Потому верю: где ни жить, как ни жить – солнышко везде согреет человека. А тебе чего надо?
И толкнул Анну Михайловну локтем, игриво подмигивая:
– Сватьей-то скоро я тебя назову?.. Что-о? Али невеста не по сердцу, сват не по душе?
– Ну, где нам до твоей гордой крали дотянуться! – хмурилась Анна Михайловна, не любившая долговязую стриженую и молчаливо-диковатую дочь Гущина.
– Хо-хо! Дотянешься… – смеялся Савелий Федорович. – Выезжай из проулка на простор.
– Нет, нет, – твердила свое Анна Михайловна, – не тронусь я, пусть что хотят со мной делают.
Сломили ее сыновья. Они обещали пересадить тополь на новую усадьбу и до единой горсти перетаскать чернозем из огорода. Все-таки жалко было расставаться Анне Михайловне со старым, обжитым местом. Она даже всплакнула тайком от ребят.
III
Лесничество еще зимой отвело делянку поблизости, в сосновой роще. Вначале Анна Михайловна положила строить дом размером восемь на девять аршин, но, взглянув на сваленные сыновьями бревна, длинные и ровные, точно телеграфные столбы, она раззадорилась, прибавила по аршинчику, потом прибавила по второму и, наконец, посоветовавшись с Семеновым и сыновьями, окончательно решила ладить избу на целых двенадцать аршин по фасаду и без малого восемнадцать в длину, с прирубом, сенями, светелкой и двором на два ската.
Тес пилили пришлые, а срубы взялся рубить, ставить и отделывать новый сосед по одворине хромой Никодим с зятем. Цену он назначил подходящую, без запроса, был мастер на все руки, славился плотницкой честностью. К тому же Анна Михайловна, угостив, по обычаю, Никодима и его зятя вином, выговорила за ту же плату сладить ей из старья хлев для поросенка и погреб – словом, в колхозе все утверждали, что она не прогадала, дешевле плотника не порядишь.
Первый раз в жизни строилась Анна Михайловна. Ее волновала каждая пустяковина: не мелки ли ямы под фундаментом, ладно ли легли камни да нельзя ли под средний переклад для прочности лишний камешишко положить? Подбирая щепки, она подолгу ревниво и счастливо следила за плотниками, как они тесали бревна.
«Был бы жив Леша, – думалось ей, – не пришлось бы нанимать чужих… сгрохал бы сам за милую душу».
Зять Никодима, рослый, плечистый молчун, рубил крупно и торопливо. Он высоко заносил над головой топор, со свистом опускал его, и щепа, брызгая медовой смолой, с треском отскакивала, как тесина. Обтесав бревно, зять, не глядя, переходил к другому, плевал на ладони и без передышки вскидывал звенящий топор.
Старый Никодим, напротив, рубил мелко, не спеша. Отставив больную ногу и припав на колено здоровой, он, покашливая и помаргивая красными, слезящимися глазами, тяпал топором, словно сечкой капусту. Топор он держал в маленьких, точно детских руках почти за самый конец и как-то вкось – вот-вот, кажется, выронит.
Анне Михайловне было жалко смотреть на Никодима. «Ай, батюшки, никак я прогадала на плотнике!.. Погналась за дешевкой, – пугалась она. – Немудрящий попался. И за что только хвалят его?»
Но пригляделась и успокоилась. Не выпадал топор из сморщенных ручонок Никодима, и, дивное дело, розовой послушной лентой беспрерывно разматывалась щепа, и бревно пело под топором.
Когда бревно было обтесано, Никодим вздыхал, точно сожалел, что так рано окончилась работа. Ковыляя, обходил бревно, часто и нежно постукивая обушком.
– Как в аптеке… Любота! – сиповато говорил он, присаживаясь понюхать табачку из берестяной, замысловато открывавшейся тавлинки.
Дело у него спорилось незаметно. Вечером, считая обтесанные им и зятем бревна, он неизменно заключал:
– Любота! Обогнал я тебя, зятек… Ну, соседка, припасай литр, будет у тебя вскорости Дворец Советов.
– За литром дело не станет, два припасу, – благодарно отвечала Анна Михайловна, нагружая пахучей щепой корзину. – Спасибо, Никодимушка, как для себя стараешься. Горазд бревна тесать, как я погляжу.
– Ты спроси, на что я не горазд? – посмеивался старик, нюхая табак и блаженно чихая. – У тебя, соседка, учусь. Я всегда баял: старый человек не выдаст, старый человек – любота.
– И не говори, – охотно соглашалась Анна Михайловна. – Откуда только силы берутся, сама не знаю. Вот, к примеру, изба эта… Да какая! Почище Исаевых хором будет. И не думала, не гадала такой домище сгрохать.
IV
Ей нечего было желать больше. Сыновья жили вместе с ней, за лето они, послушные, работящие, загорели и вытянулись, скоро можно было о свадьбах думать. В колхоза все шло хорошо. Новый дом выходил богатый. И она, мать, хотела лишь одного – чтобы эта незаметно сложившаяся, тихая, ладная жизнь так и продолжалась день за днем, год за годом.
Но как-то получалось так, что этот обжитый порядок часто нарушался.
Сама того не замечая, Анна Михайловна первая ломала размеренную, нравящуюся ей жизнь. Ухаживая за льном, она забывала порой дом, не успевала управляться по хозяйству, все делала рывком, наспех и сердилась на себя. У нее не хватало времени побыть с сыновьями лишний вечер вместе, она прямо разрывалась, чтобы успеть накормить их, постирать, пошить и вовремя поспеть на работу.
Конечно, она имела теперь право немножко и отдохнуть, трудодней в сыновних книжках за глаза хватило бы, но она привыкла быть на людях, не любила сидеть сложа руки – для них всегда находилось в колхозе неотложное дело. Она не могла пропускать собраний, потому что и к ним привыкла, хотела все знать и все принимала близко к сердцу.
Но чаще и больше ее порядок нарушали сыновья. Они оказывались вечно занятыми по горло, даже по праздникам. У них завелись свои, не понятные для матери интересы, какие-то нагрузки, обязанности, а им надо было и погулять, повеселиться, и они всегда торопились, прибегали домой только есть и спать. По всему видать, сыновья отдалялись от матери, и это было страшно.
– Шляетесь неведомо где и незнамо почто, – ворчала Анна Михайловна, когда у нее выдавался свободный вечер. Ей хотелось посидеть с сыновьями, посмотреть на них, о чем-нибудь поговорить, а они, как нарочно, являлись под утро. – Остыло все в печи… Разогревай вот вам, полуночникам.
– А мы и холодное съедим. Проголодались страсть… – говорил Михаил и сам лез в печь, гремя заслоном.
– Хоть скажите матери, куда вас пес носит? – спрашивала Анна Михайловна.
– А на станцию, – коротко бросал Алексей. – Кустовое совещание комсомола.
– Можно было не ходить.
– Да ведь ты сама на собрания ходишь, – напоминал из кухни Михаил.
Мать не сразу находила, что сказать.
– То я… Сравнил небо с землей. У меня сурьезные дела.
– Ну и у нас дела… еще посерьезнее твоих. Молока-то нам оставила?
– Оставила, – вздыхала мать, забираясь на печь. – В сенях, в ведре с водой, кринка стоит.
Сквозь дрему она слышала, как ребята, постукивая ложками, хлебали молоко и вполголоса разговаривали; вскоре трубил пастух, и они, не спавши, уходили на работу.
В ненастные утра, когда в колхозе делать было нечего, Алексей, выспавшись, охотно помогал матери в стряпне. Михаил уходил в лес за грибами или по ягоды, Анна Михайловна не торопилась и вдосталь наговаривалась с сыном. Собственно, разговаривала больше она одна – обо всем, что слышала от баб, что приходило в голову; сын, по обыкновению, только хмыкал, поддакивал или не соглашался, но, бывало, и он сказывал одно-два словечка про что-нибудь свое, молодое.
Ему нравилось раскатывать скалкой белое тесто и делать сдобники. Он брал стакан, искусно резал им крутое, желтое от яиц и сметаны тесто на кружки, полумесяцы, звезды, накалывал вилкой замысловатые узоры, посыпал мелко истолченным сахаром, и печенье выходило первый сорт, как покупное, даже красивее и вкуснее.
Михаил приходил из лесу прямо к чаю, ел да похваливал:
– Ай да стряпуха! Придется тебе, Михайловна, подавать скоро в отставку. Сынок-то, гляди, на твое место у печки метит.
– Ешь знай, – бормотал Алексей недовольно. – Подавишься.
– Невозможно. Прямо во рту тают… без всякого вредительства, – не унимался Михаил, уписывая сдобники за обе щеки. – Тебе, братан, кондитерской бы заправлять… Пирожными командовать, а? Проси путевку в райкоме. Станешь инженером кулинарных дел.
– А что ж, худо ли? – защищала Алексея мать. – Вон Глаша Семенова учится на повара.
– Ей к лицу, – Михаил презрительно шмыгал носом… – Сама как булка рассыпчатая.
– А вам что надо?
– Нам, Михайловна, надо многое.
И верно, все, что сыновья имели, что делали, им вроде как было мало. Они постоянно казались недовольными, хотели чего-то большего, куда-то стремились.
– Чего вам не хватает? – спрашивала, сердясь, Анна Михайловна. – Кажись, сыты… одеты не хуже людей. Вчера Коля Семенов вычитывал – трудодней у нас, слава тебе, за тыщу перевалило… Вот осенью справлю вам по новому костюму. Ну, чего вам еще?
– Ничего, – вяло отвечал Алексей. – Мы не жалуемся.
– А фырчите, вижу!
– Эх, Михайловна, не единым костюмом жив человек, – насмешливо и укоризненно говорил Михаил, потряхивая кудрями. – Глаз у тебя близорукий. Скучно слушать.
– Уж какая есть. Близорукая-то, скучная мать жизнь на вас положила. Сколько горя хлебнула, пока выпоила-выкормила эдаких… толсторожих… А они все недовольны матерью.
Алексей, хмурясь и кусая ногти, пробурчал:
– Тобой мы довольны.
Помолчал и, глядя в сторону, добавил:
– Мы собой… недовольны.
– Господи! – изумилась Анна Михайловна, тревожно вглядываясь в сыновей. – Да почему?.. Али вы уроды какие? Рук нет, ног? Али вам, ученым, не по носу работа в колхозе? Чистенькой захотелось? Да в прежнее время одна бы вам дорожка – в пастухи, трешница за лето. Свиньи вы, вот что… зарылись…
Ребята отмалчивались, и это, пожалуй, было хуже всего. Они словно таили что-то от матери. И ей становилось обидно.
Тайком она присматривалась к сыновьям, прислушивалась к разговорам их, загадывала разное, да без толку.
Одно приметилось ей, несомненное и горькое: у ребят все меньше и меньше было промеж себя ладу. И хотя они работали и гуляли чаще всего вместе, дома шептались доверчиво, сидя на крыльце или забравшись с ногами на лавку, куска не съедали врозь и спали по-прежнему рядышком на старой деревянной кровати, однако на людях они словно тяготились друг другом, насмехались, как чужие, придирались ко всякой пустяковине, спорили и даже в открытую ругались. Но то были не ссоры, как в детстве, а что-то другое, чего Анна Михайловна понять не могла.
– И чего вы поделить не можете? – не раз горько спрашивала она ребят. – Авдотья сказывала, опять на народе поругались… Разве хорошо… Каково матери-то слушать?
– Я этой Куприянихе отрублю как-нибудь язык, – грозил Михаил, переглядываясь с братом и мрачно насвистывая. – Больно длинен вырос у балаболки… А ты развесила уши!
– И развешивать нечего. Видно мне… Ровно вам стыдно, что вы братья родные.
– Ну, поехала… – бормотал глухо Алексей и старался уйти из избы.
– Нет, постой! – мать загораживала ему дорогу, пытливо вглядываясь. – Сказывай напрямик, что у вас там вышло? О чем ругались?
– А мы и не ругались, – усмехался Алексей, спокойно выдерживая разгневанный взгляд матери.
Анна Михайловна отворачивалась, махнув рукой.
– Пес вас разберет… Что и за детки ноне пошли, одно мученье!
V
Богатое догорало лето.
Цвели и влажно шумели листвой и пчелами старые корявые липы. Выкидывал голубую тяжелую броню овес. Завивалась в курчаво-непокорные зеленые кочаны капуста. В зное и грозах спела рожь, светлая, напоенная до отвала дождем и солнцем. Коленчатые горячие стебли ее не ломались еще в руке, гибко гнулись, как тонкие серебристые прутья ивы. По сухим скошенным взгорьям лежал густой загар, а в тени, по впадинам, в зарослях орешника и малины, поднималась взъерошенной гривой молодая трава и украдкой снова распускалась иван-да-марья.
Все кругом было в самой поре роста. Душисто пахло в огородах укропом, огурцами и сырой землей. На гумнах, возле сараев, был пролит крепкий настой свежевысушенных трав, а с ближних полей и лесов тянуло тем тонким, знойным дымком, в котором больше сладости, чем горечи, и не разберешь: то ли это пахнут, загорая, пшеница и рожь, то ли на самом деле где-то далеко-далеко жгут смоляной костер, и он струит жаркое благовоние.
Но побледнело, словно выцвело за лето, небо. В болоте, по кочкам, на седом мху, мелко простроченном черными нитями ягодника, стыдливо зарумянилась в полщеки клюква. Неуловимо укорачивались дни, а ночи прибавлялись, теплые и темные. И однажды, идя селом, мимо могилы, Анна Михайловна заметила, как отделился от липы круглый, еще почти зеленый, с пушисто-желтым цветком лист, тихо покружился над ее головой и неслышно упал под ноги, на луговину. Анна Михайловна наклонилась и подняла лист. С цветка слетела встревоженная пчела, недовольно прожужжала над самым ухом и взвилась вверх, в густую зелень и медовую цветень липы.
Поспел лен, высокий, кудрявый, точно вылитый из золота. Горячий полдневный ветер играл червонными головками льна, они звенели бубенчиками. Был дорог каждый час, в колхозе все от малого до старого помогали теребить лен.
Бригадир поставил Алексея к конной теребилке, и Михаил, выдирая с матерью лен руками, не скрывал зависти. Он словно бы и петь и свистеть стал меньше.
– Везет долговязому, – ворчал он, ожесточенно захватывая полными горстями мягкие стебли и с треском вырывая их из сухой земли. – Просил дядю Петра разрешить по очереди с Лешкой работать. Ни в какую! Обалдел, видать, с жары, не понимает ничего. Знай башкой вертит да ус кусает… шатун одноухий.
– Перестань! – строго приказывала мать. – Лен-то в чем виноват? Гляди, сколько головок оборвал. Прогоню с поля.
Михаил замолкал, теребил прилежно, но, связав сноп, опять начинал скулить:
– Уж хоть бы умел Лешка как следует лошадьми править… Смотреть противно, до чего неловок. Правой вожжи не отличает от левой.
– Полно молоть не дело.
– Да погляди сама. Над ним же лошади смеются!
Когда Алексей, важный, не замечая брата, проезжал мимо, тот, не вытерпев, просяще кричал:
– Дай разок прокатиться… Эй, братан!
Кони с храпом проносились рядом, обдавая Анну Михайловну горячим дыханием и седой пылью. Не оборачиваясь, Алексей коротко кидал баском в пространство:
– Сломаешь… нельзя… баловство.
– Я потихонечку… честное комсомольское, потихонечку! – умоляюще выкрикивал Михаил, бросаясь следом за теребилкой. – Ну что тебе стоит? Дай объеду загончик… Ну?
Гремя, теребилка летела по льну, к ногам Михаила падали ровные кучи золотых стеблей. Приминая, он ступал на них и, сунув по-мальчишески два пальца в рот, оглушительно, зло свистел.
Кони шарахались в сторону. Алексей, туго натянув вожжи, грозил брату кулаком.
Неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы колхоз не получил второй теребилки. Михаил чуть не плакал, выпрашивая у Семенова позволения работать на машине.
– Что, заело ретивое? – посмеялся председатель, выслушав жалобную, горячую и бессвязную бормотню Михаила. – Ладно. Бери теребилку и действуй… Покажи брату, что не один он парень на деревне.
– Я ему, медведушке, жирок поспущу, – пообещал Михаил.
Анна Михайловна, присутствовавшая при разговоре, с сердцем сказала Николаю Семенову:
– Ты чего их науськиваешь… как собак? И без тебя грызутся, не приведи господь.
– Зубы растут. Это хорошо, – довольно усмехнулся Николай.
– Да что же тут хорошего?
– Побольше бы такой грызни, Михайловна, вот что. Пользительна она для дела. Ах, жалко, в тракторах нам отказала эмтеэс. Смахнули б ленок в три дня… Вишь ты, бросили машины в отстающие колхозы. А разве мы не отстаем? Горит лен… Вся надежда на твоих парней.
Мать с сомнением покачала головой, поджимая губы. Непонятен ей был Семенов, непонятны стали сыновья.
Михаил живо приловчился к теребилке и летал по загону, словно в масленицу на праздничном кругу. Сидя ухарски, боком, сдвинув на курносый нос лакированный козырек белой замаранной кепки, он, маленький, легкий, чуть шевеля вожжами, горячил коней свистом. Пара вороных, прижав уши, неслась по полосе, как по гладкой дороге. Новенькая, необкатанная теребилка визжала и раскатисто гремела. По этому безудержному грому мать, будучи в поле, не взглянув, безошибочно определяла, где сегодня работает Михаил.
Ольга Елисеева, посаженная принимальщицей, не успевала сбрасывать ползущий по транспортеру лен.
– Рученьки отнялись, – жаловалась она Анне Михайловне. – Я ему кричу: «Миша, погодь ты маленько, дай вздохнуть!» А он знай насвистывает… Уморил до смерти, песенник.
По-иному работал Алексей. Его старая, порядком изношенная теребилка жалобно скрипела, когда он, сутулый, грузно опускался на сиденье, заботливо подобрав ноги. Молча тронув лошадей, он не давал им сразу полного хода, сдерживал, сосредоточенно и угрюмо приглядываясь ко льну, буграм и камням. Наклонясь, он вслушивался, как воркуют смазанные чугунные шестеренки, всматривался, как ползет по ремню лен, ровно ли, не обрывает ли головок, и только со второго заезда давал коням волю.
И не стало у ребят иного разговора дома, кроме как о льне.
– Сколько натеребил сегодня? – небрежно спросил Михаил за ужином на третий день работы.
– С меня хватит, – усмехнулся Алексей.
– Значит, старушка твоя не развалилась еще?
– Поскрипывает. На молодую не сменяю.
– Но-о? – удивился Михаил, озорно прижмуривая левый глаз и подмигивая матери. – А может, уступишь? Моя молодка чтой-то ленится. Сегодня обстряпал всего-навсего… гектаришко. У вас?
– С четвертью.
– Заливай!
– Пожара нет.
Михаил перестал есть… Видела Анна Михайловна, как потемнели от волнения его глаза.
– Нет, без шуток. Сколько? – пристал он к Алексею, раздраженно отодвигая от себя локтем сковородку с шипящей яичницей. – Скажи по-честному?
– По-честному – гектар с осьмой.
Брат так и подскочил за столом.
– Ох, косолапый! У меня… три четверки.







