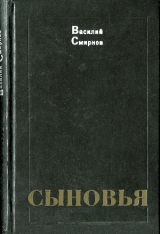
Текст книги "Сыновья"
Автор книги: Василий Смирнов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 18 страниц)
– С нашим народом разве сладишь? Поколеют – не пойдут, – говорит Петр Елисеев Семенову.
– Пойдут. Разузнать бы, кто стращает… брехней кулацкой.
– А черт его знает… все говорят. По мне бы и вправду закатить которым по твердому заданию. Зачесались бы остальные, одумались… – горячо и злобно усмехался Петр. – Припугнуть, а? Подмогнуло бы…
– Не мели! – сердито обрывал Николай и снова шел по избам разговаривать с мужиками и бабами.
И стало казаться Анне Михайловне, что обмануло ее предчувствие. Видать, перебесится народ и успокоится, по-старому, по-привычному пойдет жизнь… Ну бог с ним, с колхозом. Может, и верно, как болтают бабы, обман все это. А тут хоть плохонькое хозяйствишко, но свое, тяжела жизнь, да изведана. Не привыкать стать Анне Михайловне свой крест нести.
Но против воли, наслушавшись рассказов Семенова, так ладно думала Анна Михайловна по ночам о колхозе, так скоро и хорошо, как во сне, строила себе новую избу, заводила поросенка, шила ребятам суконные пиджаки, пекла по воскресеньям белые пироги с яйцами и зеленым луком, и, главное, ей представлялось, как споро и легко работается на людях, без заботы, что не на чем пахать и нечем сеять, – с весельем, песнями, по которым она истосковалась в своем одиночестве; все это так ясно и правдоподобно виделось Анне Михайловне, что она желала, не могла не желать колхоза и опять верила в него. Она не смела про все это говорить на сходах, да, вероятно, если бы посмела, то не нашла бы слов. Она молча слушала баб и мужиков, но сердце у нее так и кипело.
Как-то вечером, идя по воду, Анна Михайловна повстречала попа отца Василия. Батюшка шел, должно быть, из церкви, после всенощной, в бараньем тулупе, высокой меховой шапке, тяжело опираясь на клюшку. Анна Михайловна поклонилась, отец Василий остановился, поманил к себе.
– Слышал, в колхоз… собираешься? – спросил он, благословляя длинным рукавом тулупа.
Анна Михайловна поцеловала холодный кислый рукав и замялась:
– Не знаю, батюшка… как народ.
Отец Василий грустно вздохнул:
– Что тебе надо в этом… колхозе?
– Лошади, говорят, общие будут, – тихо ответила Анна Михайловна. – Измучилась я без лошади.
Отец Василий печально и строго покачал белой бородой.
– На чужое заришься? А заповедь божья – не укради…
– Зачем же воровать, батюшка? – робко сказала Анна Михайловна. – По-свободному, добровольно лошадей сведут… коли захотят. Вместе-то ведь легче работать.
Помолчал отец Василий, поковырял клюшкой мерзлый снег под ногами.
– Смотри, – сказал он на прощание, – не прогадай… Неугодное богу задумала. Не потеряй последнего… как мужа потеряла.
И страшно стало от этих слов Анне Михайловне.
– Батюшка! – заплакала она, бросаясь вслед попу, гремя ведрами и кланяясь в черную спину тулупа. – А как жить-то?.. Зачем стращаешь, батюшка? Совет дай, научи!..
– Богу чаще молись… он научит, – ответил отец Василий, не оборачиваясь.
С пустыми ведрами, расстроенная, вернулась в избу Анна Михайловна.
Чего только не передумала она за долгую бессонную ночь! И уж не вырастала в небо тесовая светелка нового дома, не работала Анна Михайловна споро и весело на людях, без заботы и горя, не кормила сыновей пшеничными пряженцами и пирогами, не шила суконных пиджаков. Другое, нехорошее и опять правдоподобное, лезло ей в голову: то видела она мужа – он лежал в неведомом краю, в рыжей своей шинели, стоптанных солдатских сапогах, и удивленно раскрытые голубые глаза его клевали вороны; то она снаряжала ребят за милостыней, вешая им за плечи холщовые котомки; то сама она, живая, ложилась в гроб, хотела умереть, а поп Василий, исповедуя, не отпускал ей грехов.
Под утро от этих черных, нехороших дум ей стало совсем невмоготу. Она слезла с печи, тихонько зажгла лампаду перед иконой и босая, в одной безрукавной старенькой рубашке опустилась на колени. Ее затрясло от холода и слез.
В избе было мертвенно-тихо, даже дыхания сыновей не было слышно, и часы, не заведенные с вечера, перестали успокаивающе тикать. Лишь тараканы, как всегда, шуршали за обоями; глухо лаяла где-то на селе собака, да стучало сердце Анны Михайловны. Слабо теплилась синеватым ободряющим огоньком лампада, и потемневший, чуть зримый лик Христа выступал из мрака.
– Милостивец… господь бог! – горячо прошептала Анна Михайловна, сложив на груди онемелые руки. – Вразуми ты меня, простую, глупую бабу. Как жить? Просвети… Не за себя прошу, господи, за ребятушек. Смилуйся над ними. Меня покарай, а их благослови. Адом покарай, коли прогневала, только дай выкормить-выпоить свет мой, радость мою несказанную… Заступись, матерь божия, владычица… Научи… Сам знаешь, господи, миром-то добро жить, не в одиночку. Чем же тебе не угодно это?.. Может, врет отец Василий?
Она прошептала это вгорячах и сразу опомнилась, испуганно перекрестилась.
– Прости ты меня, грешную. Нехорошо о попе подумала.
Долго молилась Анна Михайловна. Она не чувствовала ни рук, ни ног, и тело ее, окоченевшее от холода, стало тяжелым и непослушным. Скоро она уже не могла кланяться, спина отнялась, подогнулись колени, и сложенные щепотью пальцы застыли прижатыми ко лбу. Но вся она, сердцем, разумом, стремилась к живому, ласковому пятнышку света, и ей казалось, что пятнышко это растет, рассеивает мрак и просветлевшее, грустно-доброе и такое знакомое лицо, успокаивая, приближается к ней.
Сделав усилие, она медленно перекрестилась, коснулась растрепанной, тяжелой головой пола, с трудом поднялась и полезла на печь.
Она хотела заснуть, но, отогревшись, опять стала думать, и все то, что мучило ее и страшило, с новой силой обрушилось на нее. И, промаявшись до свету, разбитая бессонницей, думами, Анна Михайловна поздно топила печь, все валилось у нее из рук, и ребята собрались в школу, первый раз не дождавшись чая.
– Сейчас самовар закипит… картошка готова, – виновато уговаривала мать, досадуя на себя и на ребят, без толку суетясь у печки. – Загорелось там у вас в школе? Успеете набаловаться-то.
– Набаловаться… да, как же! – сердито передразнил Мишка, торопливо доедая ломоть хлеба и застегиваясь. Он схватил сумку, взглянул в окно. – Эвон Пузан пробежал. На урок опоздаем. Айда, Ленька!.. Мамка, где варежки?
– Почем я знаю… Где положил, там и возьми… Хоть картошки с собой захватите, все не всухомятку, – предложила она огорченно.
– Это можно, – сказал Ленька, помогая брату разыскивать по лавкам варежки. – В большую перемену сгодятся. Эге?
– Эге, – согласился Мишка и, сунув найденные варежки за пазуху, стал набивать карманы картошкой. – Ох, дьявол, какая горячая!
– Поругайся у меня! – пригрозила мать и замахнулась на него.
Мишка живо увернулся и юркнул в дверь, за ним Ленька. Анна Михайловна притворила было дверь за ребятами, потом, вспомнив, схватила со стола солонку и выскочила в сени.
– Соль забыли, растяпы!
– А мы без соли… – сказал Ленька, сбегая с крыльца. Мишка криком и свистом торопил брата.
Анна Михайловна постояла на крыльце.
Морозное белое солнце поднималось в голубовато-белом небе над завьюженной крышей риги. Все вокруг горело и сверкало белым, чистым блеском: и бескрайние, нетронутой белизны поля, и снежная шапка риги, нахлобученная по самый вход, и сугробы, подступавшие к избе, и молодой, опушенный инеем тополь у крыльца. Даже валявшийся на приступке голик [5]5
Голик– веник без листьев.
[Закрыть]был серебряный и сверкал пучком упавших солнечных лучей.
Пробегая мимо тополя, Ленька ударил его тонкий ствол ногой. Иней осыпал ему и Мишке бобриковые пальто. Воротники и плечи у ребят стали белыми.
Прижав солонку к груди, не замечая холода, Анна Михайловна, щурясь, проводила долгим взглядом сыновей.
Ребята, переговариваясь, отряхивая иней, бежали по искрящейся тропе на дорогу, и снег весело хрустел и пел под их валенками. Из оттопыренных карманов струился легкий парок.
Усмехаясь, Анна Михайловна вздрогнула, хлебнув полным ртом морозного, солоноватого воздуха, и подумала: «Да чего же я боюсь? Хуже не будет… Нелюбо которым богатеям – вот и стращают».
V
На святках Анна Михайловна пришла домой с собрания в третьем часу ночи.
Легонько притворив заиндевевшую дверь и не зажигая огня, чтобы не потревожить ребят, она размотала шаль, скинула шубу.
Из окошка, расписанного морозными елками, падал на пол лунный свет и зеленоватым волнистым половиком тянулся к порогу. Анна Михайловна ступила на этот половик и заметила снег на лаптях, – снег мерцал синевато, как сахар, когда его колют в темноте. «Может, и сахару теперь у меня вволю заведется», – подумала она, обметая веником лапти.
Пройдя на кухню, осторожно пошарила в суднавке. Хлеба там не нашлось, верно ребята весь съели за ужином. Тогда мать подошла к ушату, ковшиком продавила ледяную хрустящую корку и напилась. Перекрестившись, полезла на печь, – уж больно выстыло в избе.
– Вступила? – пробормотал с кровати Мишка.
Она подумала, что сын разговаривает во сне, и не ответила. Потрогала кирпичи, они были еще теплые. Радуясь, согнала ощупью тараканов с изголовья, перевернула постельник нагретой стороной вверх, разделась и легла, накрывшись старой пальтушкой.
– Вступила? – настойчиво повторил Мишкин голос.
– Что ты? – шепотом спросила Анна Михайловна.
– В колхоз, говорю, вступила?
– Спи… какое тебе дело? – сердито ответила мать.
Кровать скрипнула, и Ленька, недовольно посапывая, поддержал брата:
– Не чужие… Нам тоже знать надо.
Анна Михайловна промолчала.
– Говори, мамка, а то спать не дам… песни буду петь, – пригрозил Мишка.
– Ну… вступила, – сказала Анна Михайловна, вздохнув. – Да спите вы, полуношники! Никогда мне покоя от вас нет.
– И тетка Прасковья вступила?
– Вступила.
– А дядя Петр?
– Отстань!
– Ты бы поужинала, мама, – посоветовал Ленька, зевая. – Суп в печи, а хлеб в комоде… в полотенце завернут.
– Не хочу я… Спите.
Сыновья пошептались еще недолго, поворочались и затихли.
А матери сна не было. Она лежала в тепле и тишине, накрывшись с головой пальтушкой, а в ушах не смолкал сердитый галдеж, словно в избе продолжалось собрание, и холод почему-то щипал сердце. Она повернулась на бок, поправила подушку, удобно сунула под голову согнутую руку, закрыла глаза, но сон не шел.
Видит Анна Михайловна взволнованное лицо Петра Елисеева. Беспрестанно дымя цигаркой, Елисеев все сует в рот бурый острый ус, жует его, и этот левый ус словно стал у него много короче правого; ревет Строчиха, приговаривая: «Что делается… что делается, господи!»; таращит круглые, испуганные глаза и украдкой держит мужа за рукав, не подпускает к столу Куприяниха; бушует под окнами пьяный Исаев; приезжий из города товарищ, распахнув шинель и утирая потное, усталое лицо, хрипло говорит речь, хоть его никто не слушает; веселый и сосредоточенный Николай Семенов, взъерошив волосы, облокотился на стол и, постукивая карандашом, настойчиво спрашивает: «Кто следующий?»
Тут с треском распахивается дверь, и, внося холод и молчание, в избу входит Савелий Федорович Гущин. На нем лица нет, такое белое, словно обмороженное, один косые глаза живые, блестят. Одет Савелий на диво – по-праздничному. Он в лисьей шубе с каракулевым воротником, в черных покойных бурках. Левый борт шубы отстегнут и вывернут, как на гулянье, для красы, и всем виден огненно-пушистый треугольник меха.
Строго покосившись на подростков, толпящихся у двери, Савелий Федорович без обычных шуток, не торопясь и как-то важно, почти торжественно, снимает котиковую, пирожком, старомодную шапку, и все расступаются перед ним. Прямо и высоко поднята его белобрысая голова, грудь выпячена. Он смело идет к столу и молча, быстрым движением короткой ловкой руки, затянутой в кожаную перчатку, кладет перед Семеновым бумажный сверток.
– Что это? – спрашивает Семенов, сдвигая брови.
– Ключи.
– Какие ключи?
– От дому… – протяжно произносит Савелий, точно молитву читает. – Жертвую от чистого сердца… колхозу. Мне с женой и дочкой бани за глаза хватит… Я уж перебрался.
На белом неподвижном лице его что-то дрогнуло, глаза перестали косить; Савелий жалко улыбнулся.
Гул удивления и одобрения прокатился по избе. Мужики перестали курить. Бабы вскочили с мест, чтобы лучше видеть и слышать. Авдотья Куприянова выпустила мужнин рукав и шепчет Анне Михайловне на ухо:
– Сама видела, вот провалиться мне… на санках жену в баню вез. Я думала – париться, ан смотри-ка… С ума рехнулся, помяни мое слово, рехнулся!
Опрокидывая скамьи, расталкивая баб, Петр Елисеев бросается к Савелию.
– Спасибо!.. – кричит он. – Это, брат, по-колхозному!
Товарищ из города, пристально оглядев Савелия, наклоняется к Семенову и что-то тихо говорит ему.
– Сам знаю, – долетает до Анны Михайловны короткий недовольный ответ Николая.
Он стучит по столу карандашом, играя острыми скулами. Подает Гущину сверток обратно.
– Вот что, Савелий Федорович… Спрячь свои ключи. Пожертвований не принимаем. Потребуется – сами все возьмем. Иди домой, не мешай. Мы делом заняты.
Гущин непонимающе таращится на Семенова, потом стриженая голова его склоняется набок. Он достает из кармана мятую шапку и никак не может надеть ее. Шапка и ключи падают на пол.
И вдруг Савелий, всплеснув руками и по-бабьи охнув, валится перед народом на колени.
– Встань! Это еще что за представление? – сердито говорит Семенов.
– Не вста-ану… Народу в ножки кланяюсь. Судите меня, граждане! За все грехи судите… – визжит Савелий и, словно в беспамятстве, обрывает пуговицы на шубе, рвет ворот новой сатиновой рубашки и, закатив глаза, бьет себя кожаным кулаком в грудь.
Анна Михайловна прячет лицо в шалюшку. Ей слышно, как всхлипывает рядом Авдотья, как тяжело сопит ее муж, как гневно кричит Елисеев, что Семенов не имеет права так говорить от имени собрания; слышит Анна Михайловна, как мужики поддерживают Елисеева и уговаривают Савелия Федоровича встать и успокоиться, а тот елозит коленями по полу и воет, но все тише и реже… И вот уже слышен его срывающийся, свистящий шепот:
– Не скрываюсь… обманывал. И добро и пакость людям делал… Все было… Не могу так больше жить… душа не позволяет. Ведь и у меня есть душа, граждане, душа, а не мочалка! Примите… к себе… в колхоз. Спасибо скажу, сил не пожалею… все отдам… Не примете – воля ваша. Значит, того и заслужил… значит, головой в прорубь. Туда мне и дорога!
Слезы душат Анну Михайловну. Ей и жалко Гущина и не верится ему. Ведь вот плакал Исаев, когда у него житницу обыскивали. По-бабьи пожалела его тогда Анна Михайловна. А что вышло? Ей было стыдно и обидно потом, когда обнаружилось, что ямщик сгноил хлеб в огороде, в яме под поленницей.
«То собака Исаев, ненавистник, – думает она, утираясь шалюшкой. – От Савелия Федорыча худого слова не слыхивали… И помогал он, не отказывал… Зачем же на смерть человека толкать?»
– Принять! Принять! – горячо, радостно кричит Петр Елисеев.
Бабы и мужики подхватывают, повторяют на разные лады:
– Принять! Чего там, работяга… А старое что вспоминать, и мы не ангелы… Пиши его!
– Нельзя, товарищи! Все это обман! – гремит Семенов, и голос его, злой, железный, как ножом режет по сердцу Анны Михайловны. – Дом отдает, а добро себе оставляет. Раскулачивания он боится, вот и вся музыка.
– Смерти не боюсь! В прорубь… – взвизгивает Гущин, и Анне Михайловне слышно, как он, стуча каблуками бурок, стремительно вскакивает с пола. – Верно… Не принимайте… Недостоин я…
Анна Михайловна срывает с головы полушалок, поднимается из угла и слабо и горько кричит:
– Коля, почто так? Почто-о?
Ее возглас тонет в шуме и гаме. Сторону Семенова держит товарищ из города, Костя Шаров и эта выскочка, бессовестная цыганка Катерина. Хорошо, что им не дают говорить мужики и бабы.
– Это что же, мужики, – спрашивает с обидой Андрей Блинов, – которые не желают – силком тащат, которые подобру-поздорову идут – не принимают?.. Да чей же колхоз-то: наш или дяди? Тогда и нас выписывай! Не желаем состоять в таком колхозе!
Смотрит Николай Семенов на мужиков и баб, сердится, а ничего поделать не может.
– Ставь на голосование… – требует Петр Елисеев. – Зачем народу рот зажимаешь?
Приходится Семенову подчиниться. И чащоба поднятых рук загораживает его огорченное лицо от Анны Михайловны…
Она и сейчас, лежа на печи, видит эту живую чащобу рук и думает о том, как хорошо, что приняли в колхоз Савелия Федоровича, за ним и остальные потянулись, даже Авдотья Куприянова и Прасковья Строчиха. И вот, слава тебе, кажись, сладилось дело, теперь народу только подавай работы.
Колхоз освобождал Анну Михайловну от постоянных забот о лошади, семенах, которые она не имела. А работать ей было безразлично на чьей земле, лишь бы прокормиться. Справные мужики и бабы жалели лошадей, вторых коров, хлеб, амбары, которые они отдавали в колхоз. Ей же нечего было жалеть, не с чем было расставаться. Она несла в колхоз только свою бедность и натруженные, охочие до работы руки. По совести говоря, Анне Михайловне осточертел ее одинокий труд. Колхоз ей представлялся мирской «помочью», как это бывало в прежние годы, в горячую пору навозницы или сенокоса. Только теперь эта «помочь» была не на день, не на два, а на все время. И она по опыту знала – на людях работать веселее, легче и, главное, спорее.
Анна Михайловна потянулась во всю длину на теплой печи, зевнула, подумала немножко еще о чем-то неясном, но таком ладном, приятном, и уснула крепко и сладко, как она давно не спала за все эти суматошные дни.
VI
Анна Михайловна поняла справедливость новой жизни, когда раскулачили и выселили Исаевых. Над крыльцом просторной псаевской избы Николай Семенов, выбранный председателем колхоза, собственноручно прибил железную вывеску: «Правление колхоза „Общий труд“».
В доме Савелия Федоровича, уступленного колхозу, выломали стену и, соединив лавку с жилым зимним помещением, открыли избу-читальню. Гущину велели перебраться из бани в летнюю горницу. Негоже было колхознику, да еще с больной женой и малолетней дочерью-школьницей, тереться в бане, как нищему. Савелий Федорович долго не соглашался, все хотел пострадать за старые грехи, но его уговорили, а в доказательство, что старое забыто, выбрали завхозом против воли Николая Семенова.
И ожил Савелий Федорович, повеселел, как прежде. Сбив шапку на стриженый затылок, в стареньком полушубке нараспашку, с ключами у пояса, он целыми днями носился по амбарам и житницам, принимая колхозное добро, все вымерял, подсчитал до зернышка, до соломинки. Он уличил Куприяниху, когда та спрятала новый хомут под застреху, и первым свел на общественный двор гнедую рысистую кобылу с жеребенком-стригуном и комолую, швицкой породы, корову. Мастер на все руки, Савелий Федорович вечерами сам сложил себе в горнице русскую печь, напросился в кузницу подсоблять кривому Антону ладить плуги, бороны, шиновать старые колеса, а потом взялся чинить за шорника сбрую.
– Весна прикатит, и мигнуть не успеешь. Она, брат, как девка, – ждать не любит, – балагурил он. – Кто зевает, на перестарках женится. Хо-хо!.. А мы, брат, нашему колхозу молодую да богатую жизнь сосватаем.
В феврале, как всегда, начались метели. Тошно завыл ветер, поднял до неба, закрутил снега. Завесив все окрест белой и холодной, свистящей мглой, он принялся кудесничать. В полях, на просторе, ветер, словно метлой, дочиста обмел пригорки, оголив ледяное, звенящее жнивье, сухой белоус и кусты татарника; навалил рассыпчатые сугробы около изб и сараев, задрав солому на крышах; с хрустом ломал сучья ив, тополей и лип; озоруя, переставлял на реке вешки у прорубей; заносил дороги и торил новые неведомо куда.
Иногда вьюга на час затихала. Низко спускалось чернильное небо, с юга тянуло теплынью, оседали талые сугробы, и снег становился сиреневым. С криком носились по улицам и задворкам ребята, валялись, как в масленицу, в сугробах, сладко и досыта сосали лиловые, обжигавшие рот холодом комья снега, катали сырые глыбы и лепили снежные чудища с круглыми угольными глазами и ручищами из палок и старых, облезлых веников.
Но короток был этот час тепла и затишья. Налетала с севера шалая подеруха, разгоняла озябшую ребятню.
В метелицу вышла Анна Михайловна с бабами сортировать колхозные семена. До амбаров нельзя было добраться – так надуло снегу и перемело дорогу. Вьюга слепила глаза, и бабы, плутая по гумну, молча шли гуськом, увязая по пояс в сугробах.
Все было необыкновенно и значительно: и то, как с вечера наряжал на работу бригадир Петр Елисеев, как появился он в избе Анны Михайловны, запорошенный снегом, долго отряхивался на кухне, а пройдя к столу, вынул из-за пазухи мокрую тетрадь и, развернув ее и послюнив карандаш, торжественно поставил жирную палочку; как, расправив фиолетовые, запачканные карандашом усы, он внушительно сказал: «Стало быть, завтра в семь… по-военному»; и то, как дружно сошлись у правления бабы на эту первую колхозную работу и хоть полаялись немножко, что света белого не видать, можно было повременить с сортированием – чай, не завтра сеять, – но ни одна не повернула обратно в теплую избу, а, замотав плотнее головы шалюшками, остались на стуже. И вот, не страшась вьюги, молча, яростно месят бабы лаптями и валенками сыпучий снег.
У исаевского амбара, на ветру, поджидал Николай Семенов с бригадиром и завхозом.
– Ну, курицы, обмочили хвосты… али что поболе? – весело заверещал, встречая баб, Савелий Гущин.
– Тебе, петуху, хорошо в штанах, – огрызнулась Елисеева Ольга, переводя дух. – Знамо, по пупок измокли… охолодаем теперича.
– А куда вас понесло? – набросился на жену Петр. – Я ж кричал вам – берите левее, на Блинову житницу, там неглыбко.
– Ничего, согреемся, – примирительно сказала Анна Михайловна, боясь ссоры.
– Да еще как согреемся! Работенки всем хватит, – живо откликнулся Семенов и приказал открывать амбар.
Все зашли под навес. Здесь было тише, приятно пахло сенной трухой. Бабы оправили волосы, выбили снег из-под юбок, присев на солому, переобулись.
А когда, теснясь, вошли в амбар, сразу забылись и вьюга и холод. Пол-амбара было завалено мешками с зерном. Разномастные, из белого холста и грубой желтой мешковины, в заплатах и новенькие, они пестрой стеной уходили под самый переклад.
– Батюшки, да неужто все это наше… колхозное? – изумилась Анна Михайловна.
– Наше, Михайловна, все наше! – ответил, посмеиваясь, Николай. Снял рукавицы и, держа их в зубах, погладил своими широченными, словно лопаты, ладонями тугую округлую холстину.
Анна Михайловна не утерпела и тоже потянулась к мешкам, пощупала. Одни были с овсом, и сквозь редкую мешковину усатые зерна приятно покалывали и щекотали пальцы, другие, видать, были с житом и рожью, в третьих знакомо переливалось скользкое льняное семя.
– Экая благодать… экая благодать! – приговаривала Анна Михайловна, переходя от одного мешка к другому.
– Земли не хватит! – радостно галдели за ее спиной бабы. – Тут сей не пересеешь.
– Раскорчуем Волчью пустошь. По целине знатно лен родится, – сказал Елисеев и, горячий, жадный до работы, сбросив шубу, взялся налаживать сортировку.
– У нас лен – одна куделя, – перечила Авдотья Куприянова.
– На брагинский сменяем. Чистое золото!
– А кусать что будешь?
– Белые пироги.
– Кусать ноне не обязательно, – пошутил Савелий Федорович, помогая Петру вытаскивать из угла на свет темно-зеленую гремящую сортировку. – Вот она, матушка! Сто лет берег… пригодилась… Осторожнее, Петр Васильевич, моя машина любит ласку. А пироги у нас, бабочки, крупчатые будут… без дуранды, – продолжал он, весело косясь на Семенова. – Наш председатель переделает рожь на пшеницу.
– Скажи, какой чудотворец выискался!
– Действительно, – серьезно сказал Семенов, – рожь мы на яровую пшеницу обменяем. Вчера из района наряд в сембазу получен.
– Давай, давай! Хватит языком чесать… Накручивай! – нетерпеливо распорядился Елисеев, волоком подтаскивая первый мешок с зерном к сортировке. – Завхоз, гони нам сюда триер со станции, да смотри не утопи коня… Блинова мерина запрягай.
– Ну, господи благослови… – Анна Михайловна перекрестилась и, подойдя к сортировке, взялась за ручку. – Засыпай, Ольга, а мы вот хоть с Авдотьей вертеть начнем.
И целый день, не умолкая, отрадно грохотала в амбаре сортировка, заглушая вой вьюги. До самой крыши поднялась рыжая пыль, но Анна Михайловна вгорячах долго не замечала ее, пока не стало першить в горле. Работалось бездумно, сил точно прибавилось, и она не уступала молодухам, сортировавшим рожь-ярицу на второй, исаевской, машине. Кинула на пол шубенку, для ловкости даже засучила рукава кофты. Бабы громко переговаривались, судили-рядили про всякое, зубоскалили с дедом Панкратом, заглянувшим в амбар, просили старика погреть их, бедных, и Панкрат, кашляя от пыли и табаку, болтал, что горазд на такие дела, а вот оказия – грелку на печи оставил. Но все это не мешало, работа спорилась. Живым светлым ручьем неустанно брызгал овес на разостланную дерюгу, и, глядя на эту золотую, все увеличивавшуюся запруду, Анна Михайловна забылась, и потом, когда мешок подходил к концу и надо было подтаскивать следующий, очнувшись, она радостно дивилась, что сделано так много и так легко.
Вот такой и представлялась в думах колхозная работа Анне Михайловне. И то, что она не обманулась, веселило ее, приносило уверенность, что и дальше все в колхозе пойдет ладно, как рассказывал Коля Семенов, и, пожалуй, на самом деле заживет она с ребятами по-людски.
Правда, в разговорах бабы, как прежде, хаяли колхоз и таких страстей навыкрикивали за день – беда: и последних коров, слышь, отнимут, и до кур доберутся, и подохнет народ на работе, да без толку – с проклятущим льном, гляди, как раз без хлеба «товарищи» оставят. Слушала Анна Михайловна баб, тревожилась, хотя и не верила. Хуже было, что Елисеев, осматривая мешки, ругался: не овес ссыпали, один мышиный горох, получше себе приберегли чертовы колхознички; от таких не жди добра: как сеять, зададут стрекача на свои загоны. «Не дай бог, – подумала Анна Михайловна, – тогда колхоз развалится».
Тут подъехал с триером к амбару Савелий Федорович, и Петр, глянув в дверь, побелел от злости.
– Где тебя леший носит? Полдня на станцию ездил!.. – закричал он на завхоза.
Но поняла Анна Михайловна: злится Елисеев на Гущина совсем за другое – за то, что запряг тот без спросу елисеевского Буяна.
А когда уходили вечером с работы, Строчиха бесстыдно навалила полный подол высевок и хотела унести домой курам. Анна Михайловна не дала, сказав, что высевки колхозной скотине сгодятся, и они поругались. Прасковья укорила Анну Михайловну, что она голышкой пришла в колхоз, на готовенькое, овсины завалящей не принесла, а туда же, как путная, распоряжается. Горько было слушать эти попреки Анне Михайловне.
Она поплакала, устало застегивая шубенку, и, выходя последней из амбара, чужевато и безразлично оглядела гору мешков, порадовавших ее утром. Не хозяйка она этому добру, а так – сбоку припека. Воруют на глазах, и не смей сказать слова. Голышка!.. Да не пожалела бы она добра, коли было бы, господи! Уж, наверное, не подсунула бы мышиного гороху вместо овса и не стала бы злиться, как Елисеев, из-за того, что без спросу запрягли его лошадь. Прахом все полетит в таком колхозе.
На гумне было еще светло, а навстречу Анне Михайловне, прямиком по сугробам, уже скользил на лыжах, проваливаясь и шурша снегом, с берданкой за плечами, Костя Шаров. Должно, была его очередь нынче сторожить амбары.
Вьюга улеглась, потеплело, и в мягкой вечерней тишине ясно слышались стуки, голоса и шорохи замиравшего дня. Везли с реки, по откопанной дороге, на скотный двор воду, и слабо звякало ведро, привязанное к бочке. Удалялся и затихал говор баб, торопившихся к домам, чтобы засветло управиться по хозяйству. Как дятел, настукивал далекий молоток в кузнице. На селе кричали ребята, и Анне Михайловне показалось, что она различает голоса и смех сыновей.
Она постояла и послушала.
У житницы мужики разгребали снег, и, невидимый за сугробами, Николай Семенов громко и весело наказывал кому-то пораньше отправить завтра подводы в город за пшеницей. Где-то рядом, вверху, тонко и редко пел топор. Анна Михайловна подняла голову и увидела на крыше сарая Никодима. Оседлав конек, он поправлял развороченную вьюгой крышу, подрубал жерди, пригнетая ими солому.
И, не спуская глаз с Никодима, слушая певучие удары его топора, дробный стук молотка в кузнице и гремящий голос Николая Семенова, Анна Михайловна невольно подумала: важно не то, что ее обидела Строчиха, что Петр Елисеев считает еще своим Буяна и даже не сорный овес, подсунутый жадными хозяевами; важно другое: вот эта радивость Никодима, этот поздний стук в кузнице, груды зерна, просортированного бабами, хруст снега под лопатами – вся эта большая, еще толком не изведанная, но манящая хлопотами жизнь колхоза, которая, гляди, не смолкает и к ночи.
– Свалишься, старый хрен, – сказала Анна Михайловна Никодиму, здороваясь. – Смотри, на вторую ногу захромаешь.
– И любота! Надоело одной хромать… на обе ловчее, – пошутил Никодим, играя топором. – Такое наше отчаянное рукомесло. Не знаешь, часом, где и помрешь.
– А ты не больно лазай по крышам.
– Да ведь посмотреть охота. Отсюда жизня-матушка виднее… Посмотреть, да и умереть…
Анна Михайловна посмеялась и пошла дальше по сырому, промятому бабами снегу.
От соседнего амбара, в котором хранилось общественное сено, глубоко проступал по снегу двойной лиловый след полозьев. След вел к конюшне, и по обеим сторонам его была осыпана гороховина. Анна Михайловна собрала порядочную охапку, занесла по пути в конюшню.
– Ты что же, анафема, раскидываешь добро по снегу? Ошалел? – сердито закричала она конюху Ване Яблокову, мирно покуривавшему, сидя на печи в водогрейке. – Чужое, не жалко? Свое-то, чай, по травинке бы собрал и снег языком вылизал… Полвоза обронил, шатун!
– Ну, уж и полвоза, – невозмутимо протянул Яблоков, сплевывая на горячие кирпичи. – Труха поди.
– За такую труху в правление сведу. Там тебе, дьяволу ленивому, натрухают!
– Но, но, потише… Я сам трухать мастер, – вяло огрызнулся Яблоков, сползая с печи.
Он взял корзину и, переваливаясь, загребая утиными ногами солому на дворе, побрел нехотя в ворота.
– Тьфу!.. – плюнула ему вслед Анна Михайловна. – Как только земля держит такого человека!..
VII
Полюбила Анна Михайловна ходить в избу-читальню на огонек. Каждый вечер после работы собирались в дом Савелия Федоровича мужики с туго набитыми табаком кисетами, захаживали и бабы с прялками и вязаньем. Точно на посиделках, рассаживались все чинно по скамьям за столы, а кому не хватало места, устраивались прямо на полу. Костя Шаров, вызвавшийся заведовать читальней, зажигал висячую лампу-«молнию» под жестяным, широким, словно зонт, абажуром и, если света было маловато, подавал на столы еще парочку семилинеек, приносил из правления свежие газеты, ребята тащили самодельные шашки, а любители резаться в «козла», «подкидного» и «свои козыри» обзаводились колодой пухлых, растрепанных карт.







