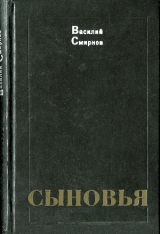
Текст книги "Сыновья"
Автор книги: Василий Смирнов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 18 страниц)
Когда сыновья завтракали, пришел Николай Семенов. Анна Михайловна посадила его за стол и вспомнила, что не кормила еще нынче цыплят. Она налила в корытце простокваши, намочила хлеба, вышла и покликала цыплят к крыльцу. Цыплята сбежались пестрой кучей, набросились на корм. Анна Михайловна взяла хворостинку и караулила корм от прожорливых кур и забияки-петуха. Окно в горницу по-прежнему было открыто, и она слышала все, что делалось в избе.
– Дай-ка я вас освидетельствую, – шутливо говорил Семенов, поворачиваясь на стуле. – Глаз у меня боевой, командирский, скажу – не ошибусь… как в военкомате. Ну, Алексей Алексеевич, становись передо мной во фрунт и не моги дышать. Брюхо не выпячивай… Силен, брат, силен, ничего не скажешь… Годен! В танковую часть, как тракторный специалист.
– А я? – спросил Михаил.
– Ростом маловат. Гм… Стой на ногах крепче! Во флот таких берут.
– В морской или воздушный, товарищ военком?
– А тебе в какой бы хотелось?
– У меня желание… А в оба нельзя зараз, товарищ военком? – дурачился Михаил.
– К сожалению, нельзя товарищ призывник, – серьезно сказал Семенов, покашливая.
– Разрешите тогда быть летчиком?
– Разрешаю… – Он помолчал, вздохнул. – Да, ребята, шутки шутками, а все-таки как же вы порешили?
– Насчет чего? – спросил Алексей.
– Насчет льготы. Кто с матерью останется дома?
У Анны Михайловны выпала хворостинки из рук. Куры и петух, выглядывавшие из-за крыльца, воспользовались этим и, разогнав цыплят, принялись хозяйничать у корыта.
– Ленька! – быстро и решительно говорил в избе Михаил. – Его Михайловна больше любит, лепешки на особицу печет.
– С чем же она ему печет на особицу? – рассмеялся Семенов.
– С творогом, дядя Коля. Вон она, улика-то, перед тобой на тарелке. Гляди, сметаны сколько… А мне завсегда только помажет, честное слово!
– Ври больше, – сказал Алексей. – И сегодня ты один всю сметану съел.
– Опять же я на баяне играю, – продолжал Михаил. – Двойную нагрузку могу нести в армии.
– Зато я тракторист, не какой-нибудь счетоводишко, – напомнил Алексей, посапывая.
– Дылда ты, а потом уже и тракторист! – закричал сердито Михаил. – На тебя и шинель-то ни одна не влезет, по швам треснет. На заказ надо шить, лишний расход государству.
Разговор в избе затих. Слышно было, как Алексей грузно прошелся по горнице, половицы гудели под его каблуками.
– Уступи, Леша… – чуть слышно сказал Михаил дрожащим, не своим голосом.
– Не могу, братейник.
– Жребий! – запальчиво закричал Михаил. – Счастье мне еще не изменяло… – Он затопал на кухню, должно быть за спичками. Крикнул оттуда: – Дядя Коля, будь свидетелем!
– Что ж, жребий так жребий, – глухо согласился Алексей. – Лучше здесь порешить, чем в военкомате на чужих людях спорить. Давай… только, чур, без плутовства.
Опять наступила в избе тишина. Анна Михайловна заметила, что куры отогнали цыплят от корыта. Она поднялась, хотела махнуть на кур и села, не шевельнув рукой.
– Длинная спичка – идти, короткая – дома оставаться, – послышался снова нетерпеливый голос Михаила. – Тащи, братан… Ловкость рук и никакого мошенства. Да тащи же, не тяни за душу!
– Постойте, ребята, – сказал Семенов, и голос его загремел, как в былые времена. – Стоп! Дело не шуточное… не со спичкой матери жить придется, а с кем-то из вас… Ну вот, пусть Михайловна и рассудит сама: с кем ей любее остаться дома.
Анна Михайловна не могла больше вытерпеть, она порывисто вскочила, вытерла фартуком сухие, горящие глаза. В скорбный, строгий узелок завязались губы. Она вошла в избу, суровая и спокойная. Только левая бровь дергалась у нее, колючая и ласковая материнская бровь.
Сыновья догадались, что мать все слышала. Они посмотрели на Семенова, который, сгорбившись, сидел за столом. Семенов кивнул головой. Не глядя на мать, Алексей глуховато пробормотал:
– Вот дядя Коля… посоветовал. Тебе, мама, жить, тебе и решать… Который скажешь, тот и останется.
Анна Михайловна усмехнулась:
– Справедливый человек дядя Коля. Что ж вы сами… головешками своими не могли до этого додуматься?
– Мамка, не мучь! – закричал Михаил, оттягивая крахмальный воротничок, душивший его.
– Сами вы себя мучили… да и меня заодно.
Она пристально посмотрела в глаза сыновьям, и они потупились. Алексей крутил пуговицу на кожанке, пуговица висела на ниточке, но еще держалась.
– Оставь в покое пуговицу, – приказала мать. – Некогда мне сегодня пришивать.
Сын покорно опустил руку. Михаил уловил сердитые нотки в голосе матери, покосился на брата и улыбнулся глупой и счастливой улыбкой.
– Идите оба, – сказала мать и пошла на кухню мыть посуду.
Михаил изумленно вытаращил глаза, застыл на месте, потом догнал мать, обнял за плечи и поцеловал в морщинистую шею.
– Вот здорово, вот это здорово! – приговаривал он, приплясывая. – Лешка, кланяйся Михайловне в ноги!
– Поклонится он, держи карман, – проворчала мать, доставая мочалку и мыло. И тут же она почувствовала на щеке тяжелый поцелуй Алексея.
– Спасибо, мама, – сдержанно сказал Алексей.
Ей хотелось плакать, обнять сыновей, прижать к груди и не отпускать. Но в руках у нее была мочалка, вода стыла в тазу, и она рассердилась.
– Да не мешайте вы посуду мыть… Мне еще переодеться надо.
– Ну, Михайловна, – сказал Семенов, появляясь на кухне. – Прийти в себя не могу… Вот оно, сердце материнское… нет его добрее на свете! – Он всхлипнул, полез в карман за платком и усталым, сконфуженным голосом забормотал: – Вот и разревелся… Старик, совсем старик… Да, что я хотел сказать? – Он помолчал и, сквозь слезы озоровато взглянув на ребят, вдруг рявкнул на всю избу:
– Смирр-на-а!
Михаил и Алексей вытянулись перед ним.
– Отставить! – строго приказал Семенов. – Животик… головка… ножки, – важно говорил он, требуя воинской выправки.
Потом торжественным шагом прошел мимо, и ребята, кусая губы от смеха, проводили его радостными глазами. У порога Семенов обернулся и, не сдержавшись, засмеялся. Михаил и Алексей вторили. Слабо улыбнулась и Анна Михайловна…
В любимом шерстяном платье провожала Анна Михайловна сыновей в военкомат. Они вывели из прируба велосипеды и катили их рядом с собой.
Молча усадьбой пошли на шоссейку. Отава на усадьбе была густая, хоть второй раз коси. Запоздало цвели одуванчики.
Канава у шоссейки была полна воды. Сыновья перенесли на дорогу велосипеды и вернулись к матери.
– Вашу ручку, Михайловна! – пошутил Михаил, помогая перескочить через канаву.
Анна Михайловна не рассчитала и оступилась. Алексей подхватил ее и на руках вынес на дорогу.
Не говоря ни слова, мать оправила платье, сыновья, придерживая велосипеды, стали одни по правую, другой по левую руку матери, и так втроем, словно гуляя, они медленно пошли селом.
В избах еще кое-где семьями пили чай, завтракали. Окна были открыты, и говор затихал, когда они проходили мимо. Бабы, отодвигая плошки с цветами, высовывались из окон и кланялись Анне Михайловне. Они не останавливали ее, не заговаривали, как всегда, потому что понимали, что этого делать сейчас нельзя. Иные выходили на крыльцо и подолгу провожали взглядом.
За околицей Анна Михайловна остановилась. Прямая широкая дорога уходила вдаль и пропадала за нарядной бахромой осеннего леса, там, где небо соприкасалось с землей.
– Ну… – сказала Анна Михайловна.
– Ну… – сказали сыновья, избегая глядеть на мать.
Они боялись прощания, слез, поцелуев. Но мать не плакала и не прощалась, – сыновья должны были из военкомата еще вернуться домой. Они вскочили на велосипеды и, пригнувшись, нажали на педали.
Скоро мать уже не могла различить, который из них Алексей, который Михаил. Слезы застилали ей глаза. Она прижала ладонь ко лбу, чтобы лучше видеть, и долго следила за сыновьями. Вот они слились в черное, стремительное летящее пятно, и что-то сверкнуло в нем. Должно быть, задние крылья велосипедов блеснули на солнце. Серебряный зайчик скакал по дороге, потом и он пропал.
XXVIII
Они возвратились из военкомата под вечер, и Михаил еще на улице, не слезая с велосипеда, прокричал:
– Встречай, Михайловна, летчика и танкиста! Выключай газ, братан… посадка.
– Ну вот… – только и могла сказать мать.
Сыновья вошли в избу запыленные, веселые, и, пока чистились и умывались, не смолкал у них ни на минуту оживленный разговор, состоявший из каких-то обрывков, восклицаний, намеков, понятных им одним.
– Я говорю: весы неправильные. Молчат. Я говорю: пустяка не хватает, товарищи, не губите молодого человека… Опять молчат, – возбужденно рассказывал Михаил брату. – Нагрузка самолета, утверждаю, больше будет, лишнюю бомбочку подниму.
– Трепло!
– Затреплешься, коли жизнь решается секундой… А тут еще этот, очкастый, в зубах моих ковыряется. Я его умоляю: гражданин доктор, пожалуйста, будьте так добры, оставьте мои жернова в покое, не до мельницы мне, когда по всем статьям отказ… Смеются, черти!
– А Мальков?
– Из райкома-то? Спасибо, он и поддержал.
– У меня гладко прошло, – сказал Алексей.
– Ну, еще бы! Ты и сам гладкий, как налим. Проскочил.
– Литер не потерял?
– Еще чего скажешь!
– До Москвы нам вместе…
– Ага…
И за столом у них шел тот же разговор. А у ней, у матери, отнялись ноги, она с трудом подавала кушанья, смотрела, прислонясь к переборке, как едят с аппетитом ребята, как ни в чем не бывало едят, – ей же кусок не шел в горло.
– Когда ехать… отправка-то? – спросила она с запинкой.
– В четверг, – ответил Алексей.
И она не могла сразу припомнить, какой сегодня день и сколько еще осталось до четверга. А когда высчитала, то ужаснулась: осталось всего-навсего четыре денечка, а у ней ничего не припасено, и наглядеться на сыновей она досыта не успеет.
Анна Михайловна захлопотала в тот же вечер.
Ей очень хотелось, чтобы эти четыре дня сыновья провели дома, отдохнули, с матерью посидели, чтобы она успела покормить, полакомить их в последний раз. Так исстари велось. И она заикнулась об этом сыновьям.
– Вот еще новости! – фыркнул Михаил. – Ты еще вина ведро купи. Напьемся с Лешкой да подеремся… настоящие будем рекрута.
– Погулять можно и без водки. Не о том речь, – сурово двинула бровями Анна Михайловна. – Не грешно дома с матерью… лишний час провести.
– Некогда нам, мама, рассиживать дома, – мягко сказал Алексей, не поднимая опущенных глаз. – Мишке надо отчетность в порядок привести, сдать дела… А я в «Заветах Ильича» зябь закончу, обещал.
– Ну, как знаете, – обидчиво промолвила мать.
– Погулять мы успеем, не сомневайся, Михайловна, – переходя с гнева на милость, зубоскалил, по обыкновению, Михаил, подмигивая брату. – Свое возьмем и чужое, бог даст, прихватим… не прозеваем.
– Шляться вы мастера, знаю, – проворчала мать, роясь в сундуке.
Она старалась, как могла, ничем не выдавать своих чувств. И сыновья вели себя, будто ничего не случилось. В доме все шло по заведенному порядку, словно не было впереди рокового четверга. Правда, завтраки, обеды и ужины стали подлиннее, потому что Анна Михайловна готовила пропасть любимых сыновьями кушаний. За обедом, кроме обычных щей и жаркого, всегда оказывались и стопочка водки, и неизменные, точно в праздник, сдобники в масле, с вареньем, а вечером – обязательно яичница, молодая простокваша, пирог белый, – так что ребята волей-неволей засиживались за столом. Но, поужинав, они пропадали до полуночи, и мать видела их, по правде говоря, даже меньше, чем в обычное время.
Михаил в те короткие минуты, когда бывал дома, не выпускал из рук баяна. Прощаясь со своим стоголосым другом, он переиграл все песни, марши и танцы, какие знал.
– Возьми с собой, коли расстаться жалко. Чего жадничаешь? – сказала ему как-то мать.
– Зачем? – пожал плечами сын. – Гармонь везде найдется… Приеду в отпуск – тебе сыграю. Как там? «У меня, у молоды, четыре кручины…» – лукаво покосился он на мать и, заметив, как дрогнули у ней сухие губы, торопливо проговорил: – Ты, Михайловна, береги мой баян. Боже упаси, никому играть без меня не давай. И в сыром месте не держи – заржавеют голоса… А уж я теперь стану обучаться игре на воздушной гармошке, с двумя крылышками… Маленькая, а страсть ловкая, говорят, кувыркаться можно.
– Докувыркаешься… свернешь себе шею.
– Нет, уж, простите, я постараюсь кому-нибудь другому, враждюге, шейку погладить, – развел рябые мехи сын и так рявкнул на баяне, точно бомба в избе разорвалась.
– Ты бы хоть уши материны пожалел, – сказал Алексей, хмурясь, – тишиной побаловал на прощание.
– Пусть играет… Тишины у меня скоро будет хоть отбавляй, – вырвалось у Анны Михайловны.
Алексей исподлобья взглянул на мать, подошел к ней, словно хотел что сказать – и не решился. «Приласкать желает… стесняется», – подумала Анна Михайловна, и сладко ей стало до слез.
Она готовила сыновей в дальнюю дорогу.
Достала из сундука по две пары нового белья, припасла вафельные, купленные в Москве полотенца, кучу носовых платков, перчатки и шарфы, связанные прошлой зимой из отборной шерсти. Не пожалела на портянки самого лучшего домашнего холста, беленного на снегу, тонкого и прочного. Из сурового полотна сшила на чемоданы чехлы с красными каемочками и перламутровыми пуговицами, по-городскому, как она видела у дачников, приезжавших на лето в колхоз. Она не забыла положить ребятам в чемоданы по мочалке и куску душистого мыла, иголок, ниток, белых и черных, про запас. Даже сходила к почтальонше и купила им по пачке синих, с готовыми марками, конвертов, бумаги и по чернильному карандашу.
Потом Анна Михайловна принялась печь подорожники и ухитрилась насовать в чемоданы такую уйму всякой всячины, что чемоданы стали тяжеленные – не поднимешь. Сыновья запротестовали, и как мать ни уговаривала, ни упрашивала, повыкидали лишнее белье, платки, шарфы. Пуще всего досталось от ребят подорожникам. Тогда мать унесла все лишнее на кухню, а вечером, когда сыновья ушли, вернула тайком и шарфы, и платки, и провизию в чемоданы, защелкнула оба на замки, а ключи до поры до времени припрятала.
«Молодо – глупо, – рассудила она. – Чай, не пешком идти, на машине ехать… не отяготит. А на стороне все пригодится, все…»
В ночь на четверг мать не сомкнула глаз. Она таки порядком ухлопоталась за день, но сон бежал от нее. Анна Михайловна слышала, как после третьих петухов пришли с гулянки ребята, как они осторожно, не зажигая огня и стараясь не шуметь, разделись и, стоя у стола, впотьмах, выпили по стакану молока, пошептались, выпили по второму и пошли спать в прируб. Мать перебирала в памяти, все ли она припасла сыновьям на дорогу, не забыла ли чего… Хорошо бы им за плечи по котомочке приладить да положить в каждую добавочный десяток яиц, пирога, огурцов малосольных. Еще не поздно утром по парочке цыплят зажарить, и масла сливочного можно бы по лишнему куску запасти, и молока топленого, с пенками, как любит Миша, по бутылочке налить. Да не уговорить ребят. Какие там котомки, гляди, с чемоданами и то греха не оберешься. Ее беспокоили хромовые сапоги Михаила. Форсун, он любит носить обувь по ножке, в обтяжку, вот и дощеголялся – мозоли навскакивали, морщится, а терпит. Каково ему в дороге-то будет? У Леши, кажись, на пиджаке верхняя пуговица еле держится или у Мишки, баловника? Все равно, не забыть пришить, оторвется дорогой – неловко.
Ей запала в голову совершенно нелепая, прямо-таки сумасшедшая мысль: вдруг завтра и не четверг вовсе, а среда, она могла ошибиться, ведь в численник не поглядела. Она гнала эту глупую, невозможную мысль, но втемяшилось – что хочешь делай. И так ее это взволновало, растревожило, что она, не утерпев, встала, будто на часы взглянуть, чиркнула спичкой и, словно невзначай, покосилась на календарь. Конечно, был четверг, она так и знала, и опять легла, и теперь уже ни о чем не могла думать. В избе было темным-темно и нестерпимо тихо. «Как в могиле», – подумалось Анне Михайловне. Стало страшно. Она вскочила, кинула на плечи шубу, отыскала ощупью на печи валенки и пошла во двор.
Корова встретила ее, по обыкновению, протяжным вздохом. Над головой, на перекладе завозились куры. Петух, встрепенувшись, торопливо захлопал крыльями и прокричал оглушительно.
– Ишь тебя раздирает… проспал, что ли? – проворчала Анна Михайловна.
Молодые петушки, давясь, попробовали в разноголосицу подтянуть старику, но у них ничего не вышло, и они замолчали.
Анна Михайловна подбросила корове охапку клевера и, возвращаясь сенями, остановилась на минутку около прируба. Дыхание сыновей не было слышно, и матери пришла в голову теперь еще более страшная мысль, что ребят нет, что они, не попрощавшись, ушли ночью на станцию.
Сердце у нее упало. Она толкнула дверь, вбежала в прируб.
– Кто там? – спросил впросоньях Алексей.
Мать не вдруг отозвалась:
– Ставень забыла закрыть… Я сейчас, спи…
Но до ставня она не дотронулась, присела на подоконник.
Ровно и глубоко дышал Алексей, тонко насвистывал носом Михаил. Крепок и сладок был молодой сон, последний сон на материнской постели. Где-то они станут спать завтра?.. Не взобьет заботливая ее рука подушки, не поправит одеяла, простыни… Да, придет времечко, и не подушка будет в изголовьях сыновей, какая-нибудь походная сумка, ранец, что ли, а то и просто кулак под головой. Шинель постелют, ею же и накроются. Будут мочить их частые дожди, холодить, продувать насквозь лютые ветры… Служба так служба, что поделаешь. Встанут на границе ее сыновья родную землю от ворогов сторожить. Один в танке, что в крепости, замкнется, к щелке глазом прильнет – не пройти, не проползти недругу мимо. Другой сын на самолете к самому солнышку поднимется и в воздухе дорогу загородит… Вот она, благодарность матери людям, родимой стороне! Пусть будет тяжко одной, пусть могилой ей новый дом покажется – все снесет, все перетерпит старое сердце.
Она сидела на подоконнике и беззвучно плакала – не о сыновьях, не о себе, а так, неизвестно о чем. Слезы текли по ее щекам, она смахивала их ладонью, и хорошо ей, приятно было сидеть в темноте на подоконнике, слушать дыхание сыновей, стеречь их сон…
А чуть забрезжило, поднялась мать, подошла к кровати. Ей никто не мешал, вдосталь нагляделась, налюбовалась она на своих ребят. Потом сняла с плеч шубу, тихонько накрыла ею сыновей, еще немножко поплакала и, вздохнув, посуровев лицом, пошла в избу топить печь.
Всем колхозом провожали сыновей, как ее, Анну Михайловну, когда-то провожали в Москву. Опять заложили серого в яблоках рысака, только не в ковровые санки, а в тарантас на рессорном легком ходу. Покурили, поговорили, помолчали мужики и парни. Поплакали, как водится, бабы, пошутили девчата. Пожелали все наперебой добра и верной службы новобранцам.
Словно сквозь дымку видела народ и сыновей Анна Михайловна, ничего не запомнила. Приметилось лишь, что не было среди провожающих Насти Семеновой и Лизутки Гущиной. «Хороши невесты, – мелькнуло у нее, – женихов не хотят проводить». И тут же подумала: «Должно, вчера вечером напровожались досыта… Ну, бог с ними», – смилостивилась она и заторопила сыновей, боясь, как бы не опоздать к поезду.
Уселись они с Алексеем в тарантас, чемоданы в ноги поставили. Михаил на передок вскочил, принял вожжи от Петра Елисеева.
– Прокатиться, что ли, в последний нынешний денечек?
– Прокатись, Миша, прокатись! – одобрительно откликнулся народ. – Привыкай летать… чур, не падать на землю!
– Есть летать и не падать, – козырнул Михаил и дал волю застоявшемуся жеребцу.
– Не больно горячи… разобьет! На поворотах сдерживай! – крикнул вдогонку Петр Елисеев.
Вцепилась Анна Михайловна обеими руками в поручни тарантаса, захватило у нее дыхание не то от боли, не то от быстрой езды.
А на станции, когда она прошла с сыновьями на платформу, первые, кто бросились ей в глаза, были Настя и Лизутка, принаряженные, точно на гулянье.
– Ишь ловкие!.. – усмехнулась мать и ненадолго отодвинулась немного в сторону, пока сыновья разговаривали и прощались с девушками.
Вскоре подошел поезд, наступило расставание, торопливое, на людях, и оттого еще более тягостное. Хотели сыновья попрощаться за руку, да не позволила Анна Михайловна.
– Хоть однажды проститесь с матерью как следует, – сердито сказала она.
– С полным нашим удовольствием, – смущенно пошутил Михаил.
По очереди покорно нагнулись к ней ребята. Она поцеловала их в спешке по два раза, а по третьему не успела, паровоз свисток дал, вагоны тронулись, и Анна Михайловна оглохла от шума, ослепла от слез.
А когда стихло кругом и прояснилось в глазах, один белый дымок курчавился над железнодорожной насыпью, за густыми, стрижеными елками. И долго не расходился этот дым, висел в небе белым пушистым облачком.
1940







