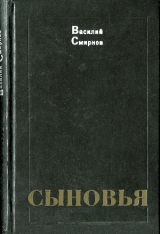
Текст книги "Сыновья"
Автор книги: Василий Смирнов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 18 страниц)
– Вырастем… и мы будем… правильные, – угрюмо сказал Ленька.
– Дожидайся. Матери надо слушаться, вот что. Отправляйся-ка домой, пока уши не отморозил. Мы тут с Минькой управимся.
В этот вечер и на другой день не было иных разговоров на селе, кроме как о колхозе. Выходило, как говорит партия коммунистов, как написал в газете товарищ Сталин, колхоз дело добровольное: хочешь – вступай и работай в нем, не желаешь – выписывайся, живи по-старому, как тебе нравится.
Половина села ушла из колхоза. Выписались Строчиха и Куприяниха с мужьями, Ваня Яблоков, кривой Антон Кузнец, зять плотника Никодима, Марья Лебедева и многие другие. Андрей Блинов пожелал остаться, и жена выгнала его из дому, он ходил ночевать по очереди то к Семенову, то к Петру Елисееву.
Произошло разделение села на согласных и несогласных с колхозом.
И дела пошли на поправку, и так быстро, что Анна Михайловна удивилась: как это никто не мог додуматься про то раньше…
Мужики и бабы с уважением говорили о Сталине, Анне Михайловне захотелось знать, каков он с виду, этот догадливый человек. Она слышала, что после смерти Ленина этот самый н абольший у коммунистов, вроде старшего. А старшие ей всегда представлялись важными, пожилыми, как и полагалось им быть, большебородыми людьми.
Ребята принесли из кооперации портрет Сталина и, прилаживая его на стену, в красном углу избы, заодно хотели снять иконы. Анна Михайловна раскричалась, по привычке обратилась за помощью на кухню, к спасительной веревке, и прогнала ребят.
Потом она долго и молча стояла у портрета, сумрачная, строго поджав губы.
Ей показалось, портрет висит косо, – поправляя, она сняла его со стены и подошла к окну. Губы у нее дрогнули.
«Скажи на милость, бритый… как мой Леша», – невольно подумала она, просветлев лицом.
Сходства, конечно, никакого не было, но то, что Сталин был бритый, Анне Михайловне понравилось.
– Вот только усы черные… У моего Леши посветлей были… Поди, женатый и ребят имеет… А не старый, – сказала она вслух.
XI
Весной вернулись в колхоз двенадцать хозяйств.
Их принимали на общем собрании, затянувшемся за полночь.
Много было смеху и шуток, много было сказано и хороших слов. Анна Михайловна наблюдала за Николаем Семеновым, и по тому, как он сосредоточенно-оживленный, потряхивая огненной шапкой волос, громко и весело говорил на собрании, как охотно отвечали ему на шутки мужики и бабы и, главное, по тому, как выходили к столу разопревшие и красные, точно из бани, беглецы и, робея, запинаясь, просили сызнова принять их в колхоз, – она поняла: колхозное дело стало нерушимым. И это согласие, царившее на собрании, это веселье людей были ей приятны.
Анна Михайловна сидела с Дарьей Семеновой и Ольгой Елисеевой на полетной передней скамье, с краю, и, когда надо было голосовать, поднимала вместе с другими руку. Она чувствовала себя равной в этой большой семье. В старое время, на сельских сходках, ее голос ничего не значил. Анна Михайловна всегда стояла позади, и на нее никто не обращал внимания. Все дела решали справные богатые хозяева, не спрашивая, согласна она с ними или не согласна. Теперь Семенов начинал подсчитывать голоса с Анны Михайловны. От нее, равно как и от других членов колхоза, зависело: принять или не принять в колхоз Авдотью Куприяниху, кривого Антона Кузнеца, сеять или не сеять лен, покупать или не покупать племенного быка в колхозное стадо. Она сняла шубу, полушалок и простоволосая, как дома, сидела на собрании, думала, слушала выступавших, сама говорила одно-другое слово и при голосовании поступала так, как считала правильным.
Когда встал вопрос о расширении посева и контрактации льна – брагинского, того самого, что был чуть ли не по пазухи мужикам и серебрист, как седина, – и собрание заспорило, Анна Михайловна первая поддержала правление.
– Да что ж, в самом деле, бабы, чего бояться? – сказала она решительно. – Не земля родит, а руки.
– Правильно, – подтвердил Петр Елисеев, горячо и одобрительно оглядывая свою бригаду. – Контрактация нам тот же хлеб даст.
Никодим постучал ногтем по берестяной тавлинке и рассмеялся:
– Семенов, пиши Стукову в ударницы. Вишь, напрашивается. Любота!
– А что же? – рассердилась Анна Михайловна, даже встала со скамьи. – Мужики ударничают, а бабам доли нет?
– Бабу они ни во что не ставят. А без бабы повесма льна не обиходить… Верно! Крой их, Михайловна! – возбужденно поддержали Дарья Семенова и Ольга Елисеева.
На душе у Анны Михайловны было легко. Сыновья ее смеялись в кути. Там, примостившись у печи, дед Панкрат загадывал ребятам загадки:
– Били меня, колотили, во все чины производили, а опосля… на престол с царем посадили. Э?
– Опоздал, дед, царя теперь нет.
– Ну, нет, так нет, – миролюбиво согласился старик. – Слушайте, воробышки, другую загадку…
Одно смущало Анну Михайловну – ранние сроки сева, назначенные правлением. В округе ни один колхоз еще не выходил в поле, поджидая тепла. Справедливо толковал народ, что от спешки не будет добра. Беда, как ударят утренники, пропадет подчистую лен. А председателю, знать, и горюшка мало. Известно, ему бы только перед районом выхвалиться: вот, дескать, какие мы – отсеялись раньше всех.
Перед самым собранием разговаривала Анна Михайловна с завхозом, поделилась своими опасениями.
Савелий Федорович развел руками:
– Мое дело маленькое: принять, отпустить… что прикажут. Елисеев нашего председателя подбил. Он ведь любитель известный… на чужом горбу опыты делать… А с Николая Ивановича что спрашивать? Не крестьянствовал, как бобыль. Ну и оставит нас всех осенью… бобылями.
В самом деле, что мог знать Семенов, сроду не сеявший льна! Другое дело – Савелий Федорович, у него прежде в хозяйстве всегда был самый лучший лен.
– Так что же молчишь… ты?! – воскликнула, похолодев, Анна Михайловна.
Скосив глаза, Гущин с обидой ответил:
– Рот зажат.
И верно, на собрании он ни слова не сказал против. Бабы и мужики ругались, споря с председателем и бригадиром, а Гущин, пристроившись на краешке стола, знай себе, пощелкивает на счетах.
– Мы за себя не боимся, Коля, – сердито сказала Анна Михайловна напоследок. – Мы справимся… Вот только ра… рановато, кажись. Послушайся народа. Всякое семя, как говорится, знает свое время.
– Стара пословица, Михайловна. У меня на сегодняшний день поновей есть: ранний сев к позднему в закрома не ходит, – весело и твердо сказал Семенов.
XII
Наутро, чуть свет, вышли сеять лен.
Поля, овраги и перелески еще дремали в тумане, как под одеялом. За рекой, в синих елках, бормотали и чуфыкали тетерева. В зеленоватом высоком небе плыли льдинами белые облака.
Из-под ног Анны Михайловны вырвался жаворонок. Ступеньчато, как по невидимой лестнице, поднялся он в вышину и запел. Ей казалось, что жаворонок добежал до льдины-облака и купается в зеленой небесной затопи.
– Хо-ро-шо… – раздельно говорит Анна Михайловна, глубоко, всей грудью вдыхая запах талой земли.
С трепетным и грустным удивлением оглядывается она вокруг и, точно прозрев, видит этот огненный край солнца над лесом, это высокое спокойное утреннее небо, этот туман над беспредельной ширью полей и лесов. Мучительно остро ощущает она молодость природы и свою старость. Когда же она успела прожить жизнь? Почему раньше не замечала вот такого весеннего утра? Ей тревожно и чего-то жалко, вроде как хочется сызнова начать жизнь. Это невозможно, несбыточное желание смешит ее.
«Поди все старые так думают… – усмехается она. – Да полно, какая еще я старуха! Старух не посылают лен сеять… А если и так, что за беда? Уж кто-кто, а я-то знаю, для кого жизнь промаялась… Дрыхнут на голбце мои мучители ненаглядные».
На крайней от оврага меже стоит ее лукошко с красным кушаком. Подле – мешок с сортовым брагинским льносеменем. Никогда еще не доводилось Анне Михайловне рассевать такую прорву льна. Бережно отсыпает она из мешка в лукошко стеклянно-коричневые скользкие семена. Она уже знает на ощупь это брагинское семя, несколько тощее на вид, с характерными загнутыми носиками. «Словно кувшинчики махонькие…» – думает она, щурясь и пересыпая с ладони на ладонь семена. Не утерпев, пробует на зуб и, глотая маслянистую пахучую слюну, идет с лукошком на полосу.
Земля так мягка, что ноги Анны Михайловны вязнут. И тревога вдруг щемит сердце. Для Анны Михайловны перестает существовать утро, которому она радовалась. Она ничего не видит, кроме непросохшей земли.
«Так и есть… говорила, обождать надо. Погубят лен, господи!»
Гнев и страх, овладевают ею.
«Не свое – вали… а там хоть трава не расти».
Анна Михайловна выбирается на межу и, отчаявшись, бросает лукошко. Она садится на мешок, нахохлившись, как ночная птица.
Подходит Николай Семенов, наклоняется, заботливо спрашивает:
– Заболела, Михайловна?
– Н-не-ет…
– Почему не сеешь?
– Не буду… – Она поднимает черные, блестящие слезой глаза, и в них вспыхивают злобные огоньки. – Я тебе, Коля, открытую правду скажу.
– Ну, скажи.
– Земля… не принимает, – с хрипом выдавливает Анна Михайловна, и горькая судорога кривит ее рот. – Голодными нас оставите… с вашими опытами. Вот тебе моя правда!
Николай Семенов сурово сдвигает брови. Не первый раз он слышит это.
– Кулацкая брехня, Михайловна. Зачем ты ее слушаешь?
– Какая, к псу, кулацкая брехня! – кричит Анна Михайловна, вскакивая. – Да ты хоть раз лен сеял? Ранешнее время как? Сей на оленин день, потому сказано: Олена – длинные льны… А теперь что же это такое? Измываетесь над землей… Мачеха! Не жалко.
– И длинные льны тебе Олена давала? – не сдержавшись, смеется Семенов. – Эй, не криви душой, Михайловна!
– Врать не буду, длинноты особливой не видывала.
– Каким сортом продавала лен?
– Не скажу. Чаще без сорта шел.
– Значит, браком?
Семенов помолчал.
– Это хорошо, что ты близко к сердцу колхозный лен принимаешь. Спасибо… А теперь смотри…
Он берет горсть земли, давит ее в кулаке и, подняв руку на высоту груди, разжимает пальцы. Едва коснувшись земли, комок рассыпается.
– В точности как агрономы советуют. Просохла земля, видишь? Ранний сев даст нам первый сорт… Сей, Михайловна!
– Не буду, Николай…
– А ну, давай сюда лукошко! Я вместо тебя стану сеять.
Семенов решительно наклонился за лукошком. Но красный кушак оказывается в руках Анны Михайловны. Бранное слово застревает у нее в горле. Она торопливо надевает кушак через плечо и, взмахнув рукой, точно перекрестясь, бросает горсть семян.
– Коли не уродится, я на тебя пожалуюсь. Попомни это, Семенов.
– Есть такое дело. Ответ держать согласен, – весело откликается председатель, уходя. – Суди меня, Михайловна, но только осенью, не сейчас.
Светлое солнце, точно распуская кружева, неустанно гонит туман в низины. Все отчетливей, шире проступает черно-фиолетовая сырая пашня, становятся видны поблескивающие лемехами плуги, телеги, лошади, запряженные в бороны, севцы, мерно двигающиеся по полю. Анна Михайловна делает шаг, и рука ее с прихваченной горстью семян, в такт движению, описывает размашистый полукруг, ударяя о ребро лукошка: «чок… чок…»
Семена льна брызжут из-под пальцев, косым блестящим дождем надают на землю…
«Взойдет ли?» – тревожно думала Анна Михайловна.
Таясь от ребят и соседей, она бегала по утрам на участок и подолгу стояла молча, ослабевшая и растерянная. Пустынное, мертвое поле лежало перед ней. Ни одна травинка не пробивалась сквозь хрупкую земляную корку.
На пятый или шестой день Анна Михайловна не вытерпела и, присев на корточки и затаив дыхание, осторожно копнула суглинок. От волнения она долго не могла ничего разглядеть. Безжизненная, как песок, осыпалась на ладонь земля.
«Пропал лен… Ничего нет. Пустая земля».
Анна Михайловна не так горевала бы, если бы это была, как прежде, ее собственная, узкая, точно межник, полоска. С такого клина невелик убыток, да и взятки с себя гладки: оплошала и помалкивай, а соседям дела нет. Теперь же она должна была держать ответ за испорченную землю перед целым обществом.
Но даже и не это мучило ее. Страшно было не то, что лен пропал на участке, который она засеяла, в конце концов загон не так уж велик. Семенова она предупреждала, и ей не стыдно людям в глаза глядеть; страшно было то, что мертвое поле простиралось до самого леса. Видать, похоронит эта пустыня колхоз, разбежится народ, и придется Анне Михайловне сызнова, в проклятом одиночестве, ковырять свой клин.
Еще раз копнула она землю, и вдруг коричневая скользкая блестка скатилась ей на ладонь, и она увидела желтоватый червячок ростка.
– A-а! – воскликнула Анна Михайловна, примечая, как падает на ладонь второе проросшее семечко, третье…
Она бережно посадила ростки в землю, старательно заровняла лунку и, вставая, вытерла концом платка глаза.
XIII
Вскоре Анна Михайловна любовалась полем, усеянным зелеными, чуть видимыми усиками. Она говорила о льне, как о маленьком ребенке:
– Растет… растет, родимый! Ах ты, мой красавчик!.. От земли только отошел, а уж вон как прет.
– Четвертый листок пустил, – подметила довольная Дарья Семенова. – Будем нонче со льном, коли блоха не сожрет.
– Я золы припасла мешок.
– Тут сто мешков надо.
– Сказать Коле – найдет и сто. Печи-то бабы топят?
– Печей много, а Коля один, – проворчала Дарья, утираясь передником. – Везде Коля… да что ему, больше всех надо? И так, почесть, неделями не бывает дома.
В голосе ее была ласковая гордость и обида. И Анна Михайловна сказала то, что приятно было слышать Дарье:
– Ну, что сделаешь – председатель.
Они стояли на участке, облитые жаром весеннего полдневного солнца. Высоко над головами, в побелевшем небе, стригли, как ножницами, черными и острыми крыльями стрижи. Сухой, горячий воздух струился маревом.
– Ах, дождя бы… да проливного! – прошептала Анна Михайловна, изнемогая от жары и беспокойно озирая посевы.
Запрокинув голову, с надеждой глядела она в небо, но было оно бездонным и пустым, и только стрижи все стригли да стригли крыльями без устали.
– Хошь не хошь, а корову доить надо идти, – вздохнула Дарья, и Анна Михайловна, ощущая в сухом рту горечь и соль, поплелась за ней на выгон. И весь день ее не покидало тревожно-палящее чувство жажды.
Ночью Анна Михайловна два раза просыпалась и чутко прислушивалась, не шумит ли дождем крыша. В избе было тихо, душно и очень светло. Она встала, сонная, напилась прямо из ведра, черпая пригоршнями, потом выглянула на крыльцо.
Вечерняя долгая заря сходилась с утренней. В червонно-синем небе светились редкие звезды, точно прозрачные брызги воды. Не шелохнувшись, томительно никли ветви тополя. Слышно было, как на дворе ворочалась и тяжело дышала корова.
Спустившись с крыльца, Анна Михайловна ступила на луговину. Росы не было. Сухая, прошлогодняя трава, шурша, колола и чуть холодила босые ноги.
«Сушь… ровно летом, господи!» – думала Анна Михайловна и, понурившись, возвращалась в избу, ложилась на полу, не укрытая, и ей снилось два раза одно и то же – что она девчонкой шлепает по мутным лужам, потом, присев на корточки, пускает щепочки и, зачарованная, следит, как они, кружась и покачиваясь, уплывают в кипящий ручей.
Дождь пришел, крупный и теплый, когда его перестала ждать Анна Михайловна. К вечеру нежданно и как-то сразу потемнело небо, сухо и сильно треснул гром, и начался ливень. Она выскочила из избы раньше ребят, протянула руки, замерла и в одну минуту промокла.
С гумна бежали куры, распластав крылья, вытянув шеи и опустив хвосты. Под стоком бурлил ручей, и Мишка, засучив штаны, носился у крыльца по пенной луже, выкрикивая:
Дождик, дождик, пуще,
На бабью капусту,
На девичий лен —
Поливай ведром!
Стоя под косыми, отрадно хлеставшими струями, пожимаясь и ахая, Анна Михайловна вспомнила, как однажды, на диво ей, вот так же мокнул под дождем и радовался, словно мальчишка, Петр Елисеев. И только теперь она поняла его.
Дождь шел весь вечер и всю ночь. Наутро Анна Михайловна не узнала своего льна. Ровным зеленым лугом стлался он по влажной, дымящейся земле.
Лен пошел в «елочку», теперь блоха ему была не страшна. Но вместе со льном подняли голову сорняки. Сурепка, повилика, осот, заячья капуста обступили тонкие мохнатые стебельки.
– Полоть лен, – распорядился Николай Семенов.
В первый же день Анна Михайловна заметила, что многие колхозницы работают сидя, приминая коленями нежные побеги льна. Вытеребленные сорняки оставались тут же на полосах. Она молча стала в ряды полольщиц, легко согнулась и, осторожно двигаясь, чтобы не помять льна, выдирала колючий осот. Она набрала охапку сорняков и отнесла в овраг. И, глядя на Анну Михайловну, колхозницы одна за другой вставали с колен.
– Не управимся вовремя с прополкой… копаетесь! – ворчал Петр Елисеев, кусая ус и понукая баб.
Нетерпеливый, черный от загара, злой, он появлялся на поле неожиданно и всегда, словно нарочно, когда колхозницы отдыхали.
– Ровно ему кто скажет, под бок ткнет, – говорили с досадой бабы, поднимаясь. – Околевать теперь на работе?
– Не околевать, а поменьше прохлаждаться.
– Да ведь не железные. Все рученьки повыдергали.
– Знаю, – отвечал Петр, горячась. – А вы думали, в колхозе ватрушки прямо с неба в рот валятся? За спасибо?.. А, дуры бабы!
Просыпая табак, он торопливо крутил цигарку и, закурив, добрел, хвалил работу, неумело шутил. И Анна Михайловна, как и все, знала, для чего он это делает, ломая себя.
– Надо бы вечерку… прихватить, – как бы между прочим, невзначай, бросал он, уходя.
Прихватывали и вечерку, но конца прополке не было видно.
Тогда Анна Михайловна привела с собой в поле сыновей. Леньке и Мишке понравилась работа и, главное, обращение матери с ними как со взрослыми. После обеда они явились во главе табуна ребят. Галками разлетелась ребятня по полосам. Петр Елисеев даже замычал от удовольствия. А Семенов посулил:
– Ландрину куплю по фунту на нос. Выручай, пионерия!
XIV
Прополотый лен рос могуче. Он зацвел рано и дружно, окрасив поле в бирюзовый цвет. Казалось, полнеба упало на землю. Девушки заглядывались на цветущий лен и невольно срывали и прикалывали его на грудь, как незабудки.
По вечерам голубоглазый лен засыпал, дремотно сжимая лепестки, точно ресницы, а утром, умытый росой и обогретый солнцем, вновь раскрывал свои ясные очи.
Семенов привез из города конную льнотеребилку. Это была первая машина, приобретенная колхозом, и все сбежались смотреть на нее. Теребилка оказалась маленькая, словно игрушечная. И окрашена она была ярко, как игрушка, в красную и голубую краску.
– «Ком-со-мол-ка»… – прочитал Костя Шаров клеймо, и Анна Михайловна невольно засмеялась этому удачному прозвищу.
– Похоже! Форсистая… как девка.
– Как бы эта девка нам лен не попортила, – с сомнением сказала Ольга Елисеева. – Руками драть лен спокойнее. Что не захватишь – все останется в горсти.
– Много ты понимаешь! – оборвал жену Петр, сидя перед машиной на корточках, жадно и ласково трогая ее холодные блестящие части. – Чай, с умом делали, на заводе… Как живая!
– Поди-ка! – сказала Авдотья Куприянова. – Железо, оно и останется железом… без души.
– У тебя в горсти души много.
– Горсть-то теперь чужая, – вздохнул Ваня Яблоков.
Савелий Федорович, весело оглядывая народ, осклабился:
– Тоскуете? Пора бы, кажется, забыть, что свое, что чужое…
И всем стало как-то нехорошо от этих слов. Анне Михайловне вспомнилось, как в воскресенье зазвала ее Ольга пить чай и, когда они сидели за столом, в раскрытое окно просунулась, звякая бубенцами и всхрапывая, морда Буяна. «Ишь, не забыл родного места», – мелькнуло тогда у Анны Михайловны. В задушевном разговоре, как-то раз еще до колхоза, хвастал Петр Буяном: «Умнеющий конь. Как чай пить, он у меня под окошком стоит, хлеба просит…» И теперь по привычке протянул было Петр Елисеев жеребцу ломоть хлеба, но обронил его на подоконник и, выругавшись, ударил Буяна кулаком по скуле. «Одурел? Чем тебя скотина-то обидела?» – закричала на мужа Ольга. Петр исподлобья страшно глянул на нее и молча вылез из-за стола.
И сейчас, покосившись на завхоза и как-то сразу потухнув, он поднялся с корточек и уже ногой трогал машину.
– Мало одной, – сказал он недовольно. – На пять таких игрушек делов хватит.
– Дел хватит, да капиталу не наскребем, – ответил ему Гущин громко, так что все слышали. – Еще косилку и жнейку завтра привезут. В кредит… Опять же льнозавод будем строить. Придется осенью заглянуть в кошельки.
– За свой боишься? – зло прищурился Семенов. – В твой кошелек заглянуть стоит.
Костя Шаров, внимательно осмотрев теребилку, подлил масла в огонь:
– Сбрасывательный аппарат не работает, – сказал он.
– Ты откуда знаешь? – дрогнув, спросил бригадир.
– Маракую немножко по машинной части… вижу.
– Предупредили меня, с изъяном, – подтвердил Семенов спокойно. – Ничего, принимальщика посадим.
Закусывая ус, Елисеев набросился на председателя:
– Ты, что ли, сядешь? В моей бригаде лишних нет. И зачем нам эту забаву… коли без толку она?
И все стали кричать, что правление транжирит общественные деньги попусту и прав Савелий Федорович, гляди, пойдут осенью колхозники по миру с корзинками.
У Анны Михайловны защемило сердце…
Так мешалось сладкое с горьким. За лето всего хлебнули досыта.
Хорошо было косить бригадой рано поутру, когда трава, обрызганная холодными оловянными каплями росы, точно сама ложилась под косой, но колхозники выходили на косьбу не сразу и не все. Повесили у правления «било» – чугунную доску, Елисеев стучал в нее ржавым шкворнем, и все обижались, что работают по звонку, как арестанты на каторге, бабы не успевают доить коров, а уж про печи и говорить нечего – по неделе народ сидит на сухомятке. Верно, Анна Михайловна топила печь по вечерам, да и то не каждый день, и гуменник свой пришлось ей косить ночью, потому что Семенов воскресенья отменил, сказав:
– Зимой напразднуемся.
Но зато приятно было возвращаться с поля бабьей оравой, в полдень, закинув высоко над головами грабли, пить у колодца студеную, только что почерпнутую воду, смотреть, как парни, играя, обливают визжащих девушек из деревянной, окованной железом бадьи; приятно было самим подставлять разгоряченные, потные лица под ледяную, благодатную струю.
Освеженные, расходились по домам, чтобы пообедать и вздремнуть часок-другой, положенный еще исстари в эту страдную пору. Садились за стол похлебать простокваши или окрошки с шипучим квасом, зеленым луком и сметаной. Не успевали взять ложки, как появлялся под окнами бригадир:
– Туча заходит… как бы не замочило сенцо… Эй, после дообедаете!
Весело было под вечер, наперегонки с другими бабами, сгребать на лугу шумящее сено, кидать в копны, а потом навивать возы, точно зеленые горы, и усталой, приспустив на мокрые плечи жаркий платок, брести за последним возом, слушать песни девушек, чувствовать, как щекочет забравшаяся за ворот кофты былинка, вдыхать пряный аромат мяты, яблочный запах увядающей ромашки и росистую свежесть наступающей ночи. А на ум приходило: «Дрова в лесу остались сухие… как бы не сожгли, балуясь, ребята». Надо было просить у бригадира лошадь, и неизвестно – даст он или не даст.
Примечала Анна Михайловна: не одна она, все чувствовали себя как-то неловко, непривычно в колхозе. Особенно раздражала неразбериха с нарядами на работу. Елисеев прикажет одно, Семенов, глядишь, распорядится делать другое.
– Вы что, с людьми в куклы играете? – сердясь, выговаривала Анна Михайловна председателю. – На неделе семь пятниц… Коли выбрали тебя н абольшим, не зевай по сторонам.
– Глаза разбегаются, Михайловна, честное слово. С непривычки, – оправдывался Семенов. – Как малый ребенок, учусь ходить. Вот шишки на лбу и вскакивают.
– Смотри, проломишь башку.
– Она у меня медная, выдержит, – смеялся Николай, встряхивая рыжеи копной волос. – Дорожка наша крутая, в гору, это верно. И нехоженая… с ухабами, на сегодняшний день. Что же из того? Прямая. Не заблудишься. Только не ленись, иди по ней, ног не жалей. А оступишься – сам виноват: гляди в оба.
– Про то и разговор, – соглашалась Анна Михайловна.
– Научимся… – твердил Николай, хмурясь и точно грозя кому-то. – Дай срок, привыкнут ноги.
– Сроку-то никто не дает, вот беда, – усмехалась Анна Михайловна.
– А? Не дает? – веселел Семенов. – Стало быть, зараз надо: и обучаться и ходить?.. Так и делаем, Михайловна.
Много было споров о том, как распределять осенью урожай. Одни требовали по едокам, другие – по труду, третьи кричали, что рано задумали делить шкуру медведя, сперва его убить надо. Вон два воза клевера пропало, с поля увезли, ищи-свищи теперь. Анне Михайловне было понятно, что многосемейные настаивали на дележе по едокам, и удивляло, почему Савелий Федорович Гущин, такой умный, хозяйственный человек, поддерживал эту несправедливость. К счастью, с ним не согласились, решили делить урожай по труду: кто сколько сработает, столько и получит. Семенов завел учетную тетрадь, и все бегали к нему по вечерам отмечаться и узнавать, правильно ли записана работа.
А ветер носил над полями голубые тучи опавших лепестков. Граненые головки льна качались на стеблях, словно гроздья спеющих ягод. На возвышенных местах полосы желтели, точно овеянные позолотой. И однажды пара крутобоких коней вынесла на пригорок льнотеребилку. Ездовой Костя Шаров уверенно направил коней по желтому краю, гремящая теребилка врезалась в лен, и длинные стебли, отделяясь от земли, послушно поползли по широкому ремню транспортера в руки принимальщика. Тот сбрасывал стебли маленькими грудками, и Анна Михайловна, идя следом за машиной, вязала лен в головастые снопы.
Лен поспевал быстро. Как желтухой, покрылось скоро все поле. Теребилка не справлялась с работой.
– Лен горит! – тревожно донесла Анна Михайловна председателю колхоза.
И поле запестрело цветными сарафанами, белыми кофточками, красными косынками. Анна Михайловна разгибала спину только для того, чтобы стереть с лица пот, оправить выбившуюся из-под платка мокрую прядь волос, чтобы глотнуть из ведра теплой, не утоляющей жажды воды. Она уходила из дома до восхода солнца и возвращалась с поля ночью, смертельно усталая и счастливая. Золотой лен грезился ей в короткие часы отдыха, когда она смыкала горящие веки.
XV
Еще когда строили льнозавод, по колхозу поползли слухи, будто «чертовы колеса» портят волокно, калечат людей, что вручную трепать сподручней, а с машинами как раз, гляди, колхозу и не выполнить плана, все волокно останется на трепалах. Строчиха крестилась и божилась, что своими глазами видела, как в Кривце у трех колхозниц оторвало пальцы, колхозниц замертво отвезли в больницу.
Невесело прошло открытие льнозавода. В сарае было холодно и неприветливо. Сквозь бревна, наспех и плохо промшенные в пазах, тускло просвечивался свет. На горбатом земляном полу, в стружках и опилках, чудовищами возвышались бельгийские колеса. Они стояли в один ряд, почти во всю ширину сарая, и Анна Михайловна заметила – все проходили мимо колес торопливо, прижимаясь к стене.
– Ну вот, и мы стали рабочими, – пошутил Семенов. – Назначаю Михайловну директором завода… Командуй машинами. Они хоть и деревянные, колесики-то, а покатят наш колхоз шибко вперед.
– На тот свет живо доставят, – злобно отозвалась Дарья.
Всем было не до шуток, и только Савелий Федорович как ни в чем не бывало скалил зубы.
– Приду домой, – петуха зарежу… Отслужил свое, горластый, отслужил, – приговаривал Савелий Федорович, выгребая из-под колес стружки и опилки. – А-ах, хорошо вставать по гудочку! Не проспишь… Подолы, бабы, подбирайте, а то завернет колесом – вся фабрика наружу… Машинист, давай пар, смерть охота Бельгию попробовать!
Застучал трактор, и деревянные, в рост человека, трепала, дрогнув, описали медленный круг. Бабы попятились к стене. Трепала с шелестом мелькали все чаще и чаще и, словно укорачиваясь, забелели мутными пятнами. Сквозняком потянуло в сарае.
Первый раз в жизни подошла Анна Михайловна к бельгийскому колесу и испугалась:
– Батюшки-светы, да я все пальцы отшибу!
Бабьи крики поддержали ее. Трепать на колесах лен все отказались наотрез.
Трактор смолк. Колеса еще немного повертелись вхолостую, белые свистящие пятна разорвались, отчетливо проступили, увеличиваясь, трепала и, замирая, стали.
– Михайловна, а я-то на тебя надеялся! – огорченно шепнул Семенов, и приготовленный пучок тресты выпал из его рук.
Совестно стало Анне Михайловне. Она подавила робость.
– Петр Васильевич, – сказала она тихо бригадиру, – поверни колесо, я попробую… Да осторожнее!
И протянула издали повесмо.
В этот день она натрепала десять фунтов – меньше, чем вручную. Глядя на Анну Михайловну, нерешительно стали к колесам Ольга Елисеева, Марья Лебедева и еще пять-шесть колхозниц. Слетали ремни, трепала рвали волокно, потому что треста поступала недомятая, плохо высушенная.
– Ничего, завтра наладим… пойдет дело, – утешал Семенов Анну Михайловну, когда они вечером, запорошенные кострой, шли с льнозавода. – Новое-то завсегда не дается в руки сразу. А ты присмотрись – и хватай смелее. Такие ли в городах покоряют машины!
– Так то – рабочие, а мы – бабы…
– Толкуй! Мало ли женщин работает на фабриках. Да еще как!.. Бабья рука самая ловкая.
Анна Михайловна твердила свое:
– Я бы по-старому-то, Коля, за день полпуда льна играючи натрепала…
– До рождества бы и проканителилась. По два пуда трепать надо, Михайловна, государство не ждет, по два… Главное – не робей, пуды-то сами к тебе придут… Да знаешь ли ты, куда наше волоконце двинется?
– А плевала я!.. Руки-то мне всего дороже, – рассердилась Анна Михайловна.
Злая, невыспавшаяся пришла она утром на льнозавод. За ночь кто-то заткнул в сарае все щели отрепьем, убрал из-под колес вороха омялья, выровнял земляной пол. В сушилке пахло печеной картошкой. Треста была сухая и горячая.
– Перестарались… дай дуракам волю… ломается лен, как прутья из веника, – ворчала Анна Михайловна, пробуя тресту.
Но тут завели трактор, пустили чугунную льномялку, и Анна Михайловна, ощупав волокно, поневоле должна была признаться себе, что тресту не пересушили. Это еще больше почему-то ее рассердило.
Она вернулась в трепальное отделение. Баб набралось – не подойти к колесам. Все глазели на диковинные машины, а работать опять отказывались. В оконцах играло позднее солнце, лучи его блекло скользили по гладко выструганным трепалам. И были эти трепала такие обыкновенные, разве что втрое длиннее ручных.
«Березовые, должно… постарался Никодим, – подумала Анна Михайловна, примериваясь к трепалам. – Ну, постой, оседлаю я вас, дьяволов, и поеду», – ожесточилась она.
– Неужто вправду только десять фунтов… вчера? – спросила ее Дарья.
Анна Михайловна промолчала.
– Страсть какая! Заедет по макушке – без головы останешься, – переговаривались девки. – И подступиться боязно.







