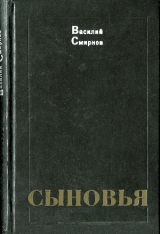
Текст книги "Сыновья"
Автор книги: Василий Смирнов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 18 страниц)
Пристроившись поближе к лампе, возле которой Андрей Блинов всегда читал вслух газету, Анна Михайловна вынимала из-за пазухи спицы, клубок толстых льняных ниток, чуть ссученных с дорог ой, выменянной на яйца овечьей шерстью, и вязала сыновьям варежки и теплые носки. Часто приходилось греть руки: в читальне было холодно – печь топили здесь редко, да и ребята, балуясь, то и дело хлопали дверью, выбегая на улицу. От едучей махорки очень скоро начинало щипать глаза. Но хорошо было слушать внятный громкий голос Блинова, тихую возню и смех молодежи в дальнем, темном углу, шушуканье баб, мягкие, грустные переборы гитары, шлепанье карт по столу; приятно было посмеяться над Ваней Яблоковым и кривым Антоном, постоянно оказывавшимися на пару «козлами», перекинуться словцом с Ольгой Елисеевой, поглядеть, отвернувшись на минутку от света, как, примостившись на подоконнике, обыгрывает Мишка деда Панкрата в шашки, и посердиться на баб, которым неймется – опять ругмя ругают колхозы, благо Семенова нет, в город уехал, и ответить им как следует некому, и про коров такое неладное твердят: отберут, отберут, – а кто отберет, зачем отберет – неизвестно, только понапрасну тревожат людей.
Она старалась не слушать баб, отогревала руки, живей перебирала спицами, подвигалась вплотную к Блинову и, хотя многого не понимала из того, что он вычитывал, все же кивала ему, охотно поддакивала, словно он для нее одной читал газету. И шутки мужиков, споры их промеж себя, и яркий, праздничный свет лампы-«молнии», и хрустящая белая газета, придавленная тяжелым локтем Андрея, и приглушенный визг девушек, даже ругань баб – вся эта жизнь на людях была по душе Анне Михайловне.
А тут еще выходил со своей половины Савелий Федорович, в пиджаке внакидку, зябко ежился и кричал:
– Эй, хозяева… тараканов, что ли, морозите?
– Дров нет, – отвечал Костя Шаров, появляясь из темного угла с гитарой.
– А мои?
– Неловко… без спросу.
– Какой тебе спрос? Теперича нет чужого. Знай бери, все ловко… У меня дров на два года запасено. Да постой, я сам…
Он приносил добрую охапку сухих, мелко наколотых березовых поленьев, с грохотом кидал на пол, возле печки, потом брал веник.
– Грязно, грязно… – говорил Савелий Федорович, с неудовольствием замечая сор на крашеном полу. – Колхоз, други, любит во всем порядочек, чистоту… Девки, что же вы смотрите?
Жарко разгорались дрова. Весело плясали рыжие блики огня по отпотелым стеклам окон. В читальне становилось тепло, как дома. Мужики перебирались от стола к печке и, сидя на корточках, раскуривали горячими угольками цигарки, слушая Андрея Блинова. Тот вычитывал, как растут по деревням колхозы, сплошная коллективизация идет на Украине, на Кубани, машинное тракторные станции создаются, по решениям сходов выселяет народ кулаков, в хоромах их детские ясли да столовые открывает.
– Ну, бабы, кидай мужей… вона какая вашей сестре свобода объявлена, – зубоскалили мужики.
– Кинешь вас, окаянных, чисто цепями к горшкам припаяли.
– А вот мы откроем столовую.
– Чего, там, ресторан: на первое – лапша со свининой, на второе – жареный баран.
– Ха! Али щи пустые с кукишом вприкуску.
Никодим, зарядив нос очередной понюшкой, чихал, точно из ружья стрелял:
– Любота! Коли не врет газетка, родятся колхозы, ровно грибы опосля дождя.
– Во! Мухоморы… видимо-невидимо.
– Поганый язык у тебя, Яблоков.
– Гриб, он хорош белый, – вмешивался в разговор Савелий Федорович, посмеиваясь. – В дождливый год нет его лучше, белого-то гриба. Ядреный. Крупный. Запашистый… А чуть солнышко – гниль, одни черви.
– Это ты к чему? – Блинов поднимал голову от газеты.
– К слову. Про белые грибы.
– А мы думали – про колхозы, – сипло хохотал Ваня Яблоков, мусоля карты. – Гляди, к весне и в колхозах черви заведутся.
Анну Михайловну так и подмывало встать и при всем народе плюнуть Яблокову в заспанное, опухшее лицо.
– Эй, будет вам щупаться! – кричала которая-нибудь из баб парням и девушкам. – Хоть бы песню спели.
Молодежь выбиралась из угла на свет. Немножко, по обычаю, спорили – что петь, кому начинать. Костя Шаров осторожно трогал плачущие струны гитары, и Катерина, кинув в его сторону быстрый вопросительный взгляд, заводила грустным сильным голосом;
Ах, да вы уж ночи мои, ночи темные.
Ночи темные, д олги осенние…
Ломко подхватывал Костя:
Ах, да надоели вы, ночи, наскучили.
Со милым-то дружком поразлучили.
И бабы, отодвигая прялки, бросая на колени вязанье, медленно выпрямляли спины. Вздыхая, бабы печально, так знакомо Анне Михайловне, закрывали глаза и вдруг легко и дружно, совсем по-молодому, поднимали и несли, точно на руках, широкую песню:
Всю то я ноченьку, млада, просидела,
Всю-то я темную, млада, проплакала.
Все я думушки, млада, продумала.
Одна думушка да мне с ума нейдет.
Мужики затихали у печки, бросали курить и вторили, кто как умел, бабам. Примолкшие ребята, распахнув дверь, толпились в сенях. Слабо качалась под потолком лампа. И от песни, от грустных, правильных слов ее у Анны Михайловны больно и сладко ныло сердце. Она прятала нитки и спицы за пазуху, опускала глаза, плотней сжимала губы. А песня все ширилась, росла, подхватывая с собой Анну Михайловну:
Проторил-то ли милый путь-дороженьку,
Пропустил-то ли милый худу славушку,
Ах, да я сама-то ли, девка, глупо сделала,
Дружка милого да распрогневала…
Савелий Федорович, протирая тряпкой окна, укоризненно качал белобрысой головой.
– Завыли… ровно по покойнику. Кого хоронить собрались?
– Тебя.
– Да я еще пожить хочу… в колхозном царстве.
– Смотри, в этом царстве как раз ноги и протянешь.
– Ну что ж! – Гущин весело косил глазами, размахивая мокрой тряпкой. – На миру, сказывают, и смерть красна.
– Страшна… вернее, брат.
– Полно! Десяти не бывать, одной не миновать… Вот я сейчас себе похоронную отпою!
– Ну-ка… отпой… – говорили с усмешкой мужики. – Тебе, Савелий Федорович, только это и остается.
Гущин бежал в свою половину и возвращался со старинной, выложенной перламутром балалайкой. Он настраивал ее, опершись ногой на табуретку и высоко задрав колено в заплатанной штанине. Потом, дурачась, выходил на середину избы, кланялся на все четыре стороны.
– Выручайте, ненаглядные! – подмигивая, обращался он к бабам, и те, понимая Гущина, смеясь, откашливались.
Не трогая балалайки, Савелий Федорович начинал негромким приятным тенорком:
– Баба, баба, куда ты в лаптях-то ходила?
– На похороны, мой батюшка, на похороны,—
вразнобой, не спевшись, отвечали бабы.
– На чьи ты похороны-то ходила?
– с участием спрашивал Гущин.
– На мужнины, мой батюшка, на мужнины,
– хором, грустно и ладно пели бабы.
– Как у тебя мужа-то звали?
– Савельюшком, мой батюшка, Савельюшком.
– Чем он у тебя занимался?
– Балалаешник был, мой батюшка, балалаешник.
– Что он у тебя играл-то?
На мгновение в читальне становилось тихо. Савелий Федорович неслышно прижимал к груди балалайку, заносил руку, и в ту самую секунду, не раньше и не позже, как короткие пальцы Гущина ударяли по всем шести звонким струнам, бабы рвали напропалую:
По улице мостовой
Шла девица за водой,
За холодной, ключевой,
За ней парень молодой…
В плясовую вступали девичьи игривые голоса, свист парней, притопыванье мужичьих валенок.
– Ах, чтоб вас! – кричала Строчиха и, оттолкнув прялку, сорвав с головы платок, пускалась навстречу Гущину, виляя хвостом длинной полосатой юбки.
И долго сотрясала избу плясовая, гудели половицы и мигали лампы на столах, если в читальню случаем не заглядывал Петр Елисеев. При бригадире все стихало. Елисеев не любил ни песен, ни плясок и всегда находил повод с кем-нибудь поругаться.
– Что ж ты, шорник, – сердито говорил он еще с порога Гущину, – в балалайку тренькаешь, а на хомутах справного гужа днем с огнем наищешься.
– На все свое время, Петр Васильевич.
– Про то и речь. Взялся, так не тяни, делай по-военному… Кто в амбар за клевером сегодня ходил, Яблоков?
– Почем я знаю.
– Как так не знаешь? – вспыхивал бригадир.
– Ну, я… Да ты не ори, не с женой лаешься.
– С тобой, беспутный конюх, мирно-то во сне не потолкуешь. Почему не запер амбар?
– Воровать некому.
– И так растащат… кому не лень, – хихикала Куприяниха. – Колхоз – бочка слез!
А Строчиха уж тут как тут:
– Обожди, Авдотьюшка, так ли еще наплачемся… в три ручья.
Колхозное дело двигалось вперед со скрипом, как новая необъезженная телега. Но Анну Михайловну теперь это не очень пугало, забота была общая, государство помогало колхозам деньгами, машинами, зерном, и страшного ничего не было.
Но однажды пришла из района бумага. Требовали обобществить всех коров. Исполнялось бабье пророчество. Накаркали они беду, как воронье.
VIII
Прямо с собрания Анна Михайловна прибежала во двор, окоченелыми руками отворила калитку и, спотыкаясь в темноте о мерзлые комья навоза, пошла к корове.
– Красотка, где ты тут? Красотка? – шепотом позвала она, торопливо шаря по соломе возле яслей.
Мрак, холод и тишина окружали ее. Слышно было, как на насесте тревожно завозились куры.
– Батюшка, да где же корова-то? Нету коровы, нету… – испуганно пробормотала Анна Михайловна.
Ей вдруг показалось, что, пока она ходила на собрание, корову увели. У нее замерло сердце.
– Красотка?.. Матушка моя, радость единственная! – запричитала она.
И тут услышала где-то позади себя знакомый протяжный вздох и вслед за ним ровную, спокойную жвачку. Корова лежала в дальнем углу за навозным скатом, на голой земле.
– Ну, ты… разлеглась, барыня! Нашла место, – набросилась Анна Михайловна, утирая потный лоб рукавом шубы. – Завалишься, дура, поднимай тебя на веревках… Ну? – Она толкнула Красотку ладонью в шершавый, покрытый мерзлым навозом бок.
Обдавая теплым дыханием, корова медленно встала и пошла к яслям.
Продолжая ворчать, Анна Михайловна отыскала плетюху с кормом, приволокла ее к яслям. Накладывая щедрыми охапками сено, она нечаянно коснулась теплой, влажной коровьей морды. В лицо ее пахнуло дыханием, сладковатым, как парное молоко.
– Не отдам! – прошептала она, обнимая курчавую заиндевелую шею коровы. – Чем я ребят кормить буду?.. Не отдам!
Когда на следующий день за коровой пришел Савелий Федорович с мужиками, Анна Михайловна не пустила их во двор и пригрозила вилами.
А потом прибежали сыновья из школы и расходились, разругались, как взрослые.
– На всю школу опозорила нас! – кричал Мишка, швыряя книги на лавку. – Хоть глаз не показывай!
– Как так? – растерялась мать.
– «Ка-ак та-ак»… – передразнил Мишка. – Соображать надо. Ты думаешь, мы маленькие, ничего не понимаем? Да мы больше твоего понимаем, вот… Мы пионеры и должны пример показывать, сознательность.
– Плевала я на вашу сознательность. На нее коровы не купишь.
– Коровы тебе жалко, а нас не жалко? – спросил Ленька, строго, исподлобья глядя на мать.
– Да вы что на мать кричите, а?
Анна Михайловна побежала на кухню искать веревку.
– Мать учить? Ах вы… сопляки! Видать, я вам дёры давно не прописывала.
– Мы не кричим, – покорно, в один голос сказала сыновья.
– Только драться и умеешь, – прибавил Мишка. – Нет чтобы посоветоваться.
– С вами?.. Господи!
Веревка выпала из обмякших рук Анны Михайловны. Ей и в голову не приходила такая мысль.
Ребята стояли перед ней вихрастые, колючие, как ежи. Худой высокий Ленька, насупившись, грыз ногти. Курносый Мишка, выдвинувшись вперед, задорно поднял голову, словно собираясь запеть или засвистеть, и оглядывался на брата, как бы спрашивая – пора начинать или еще рано?
Анне Михайловне было смешно и досадно, и что-то приятное было во всей этой необычной ссоре. Ей вспомнился почему-то теленок, как он, вылизанный коровой, отогретый под голбцом, пробовал встать на ноги, падал, скользя копытцами, и снова вскидывал зад, пока не встал, качаясь, широко и косо раздвинув тонкие, непослушные ноги.
– Садитесь-ка за стол… советчики, – усмехаясь, сказала мать и отнесла веревку обратно на кухню.
За обедом Мишка отказался хлебать молоко и расплакался.
– Ну и дурак, – сказал Ленька, придвигая к себе блюдо. – Губа толще – брюхо тоньше. Молоко-то чем виновато?.. И слезами стену не прошибешь.
Мать ударила Леньку ложкой по лбу.
– О ком я хлопочу? Разве мне корова нужна?.. Что жрать будете?
И ушла на печь.
Мишка не унимался, сквозь слезы он приговаривал из спальни:
– Был бы жив… па-пка… по-оказал он тебе… как корову в колхоз… не от-давать.
Упоминание о муже вконец расстроило Анну Михайловну.
– А, пес вас задери! Ведите! – закричала она с печи.
У нее вырвалось это вгорячах, а сыновья уже одевались, поспешно и весело переговариваясь.
– Говорил я тебе, реветь надо, – шептал Мишка, насвистывая. – Ревом все возьмешь.
– Да нет же… Она сознательная, только с виду перечит. Старая, чего уж тут, – отвечал Ленька.
– Как бы нас Красотка не боднула. Рожищи-то у ней здоровенные. Разве взять веревку?.. – соображал Мишка, нахлобучивая по глаза шапку. – Слушай, отведем корову и пойдем шары гонять. Эге?
– Эге. А уроки – как стемнеет.
Ребята затопали по кухне.
– Куда? Не сметь! – Анна Михайловна слетела о печи и жестоко выпорола сыновей.
IX
Все-таки Анна Михайловна свела корову и потом каждое утро бегала на скотный двор смотреть на нее и, как все бабы, ругалась с доярками, что они своих коров кормят клевером, а чужим одну яровицу валят и навоз не сгребают – удивительно, за что только им, вертушкам, будет колхоз добро платить.
Двор Савелия Федоровича, где стояли коровы, считался когда-то на селе самым большим. В навозницу распахивались со скрипом его широкие ворота с двух сторон. Здесь было так просторно, что – Анна Михайловна помнила – «на помочи» клали у Гущина навоз сразу на три телеги и возчики заворачивали и разъезжались на дворе, как на большой дороге. И свету было столько, что, кажется, урони иголку в солому – не затеряется, найдешь.
Теперь двор перегородили жердями вдоль и поперек, в узких закутках было набито по пять, по шесть коров. Теснясь к яслям, они до крови обдирали бока о сучки жердей, бодались и беспокойно мычали. Горы навоза намерзли у стен, и негде было как следует полежать коровам. Петр Елисеев приказал заткнуть оконца и подворотню омяльем для тепла. На дворе стало темно и вроде еще теснее.
Сердце разрывалось у Анны Михайловны, когда она глядела на все это.
– Ровно на бойню согнали… Да разве можно в такой тесноте держать скотину? Которая корова отелится бычком али телушкой – затопчут, не дай бог, – сердито и жалобно сказала она Семенову.
– Стельных мы на Исаев двор перевели.
– И там не слаще. Непоеные, некормленые стоят, как поглядишь… вымя в навозе… Хоть бы ты, Коля, дозволил мне самой за Красоткой ухаживать… Никакой платы не надо!
Семенов неуступчиво покачал головой:
– Пойми, Михайловна, нельзя… не по-колхозному это… До выгона как-нибудь пробьемся, а к осени настоящий скотный двор сгрохаем, любо-дорого посмотреть. И не жалей ты своей коровы, – уговаривал он, наклонясь и тихонько, ласково гладя ее по плечу. – Разбогатеем – тыщу коров заведем… ярославок. Утопим вас, баб, в молоке!
Анна Михайловна с обидой отвела плечо.
– Ты меня соской не утешай, я не маленькая. Лучше скажи, что это за колхоз… за жизнь такая, коли последнюю корову отбирают? Чем я ребят кормить буду?
– Всем нелегко. Вон Елисеев Петя двух свел и Буяна… Усы-то свои начисто обкусал, а молчит, понимает, – ответил Семенов, хмурясь. Лицо его задумчиво, он часто потирал лоб, морщился, словно решал что-то в уме и никак не мог решить. – У тебя хоть подросли сынишки на сегодняшний день, – сказал он тихо, – а у меня… Как за стол сядем, такой рев поднимут, хоть беги на улицу… Дарья-то меня совсем заела, – застенчиво признался он, усмехаясь. – Сам знаю – пустой похлебкой ребятишек не накормишь. Да в ней ли главное? Вперед надо смотреть… Большое дело ладим, Михайловна, не грех и потерпеть немножко.
– Было бы за что терпеть… Да ведь, леший ты эдакий, не мешает мне корова в колхозе работать! – со слезами воскликнула Анна Михайловна и увидела, как вдруг прояснилось лицо Николая, пропали морщины на лбу; он вскинул из-под рыжих насупленный бровей добрые глаза, пристально посмотрел на Анну Михайловну и, помечав, признался:
– Я сам так думаю. В район ездил… Поругался я там… Чую – нескладно у нас на сегодняшний день выходит, а доказать не могу… В область решил махнуть. Не добьюсь толку – и в Москву дорога не заказана.
«Успокаивает… отболит, дескать, и оторвется», – горько подумала Анна Михайловна.
И верно, Семенов сказал ей, опять темнея лицом и морщась:
– Ты, Михайловна, прежде времени не тревожь народ. И так вчера бабы чуть стекла в правлении не вышибли. Может, не понимаю я чего… Может, правильно это самое… что коров обобществили.
Ничего не добившись и только растравив себя, возвращалась Анна Михайловна домой, по привычке ставила в печь чугун с пойлом для коровы, а потом выливала нагретую воду в помойное ведро. Для ребят пекла ржаные пироги с картошкой, варила щи и суп с грибами, жарила картофель на остатках коровьего масла. Сыновья ели и помалкивали. Только однажды, когда грибы и скоромное масло вышли и она подала сыновьям на обед пустой суп-болтушку, заправленную мукой, и сковородку засохшего, с крупинками соли, немасленого картофеля, Мишка, поев и не глядя на мать, сказал:
– Хоть бы ты, мамка, нам когда по яичку сварила!
– Может, вам яичницу сделать… на молочке? – с усмешкой спросила мать.
– Молоко я не люблю, – Мишка шмыгнул носом, раздувая ноздри. – От него пучит живот.
– В молоке бактерий много, оно вредное, – подтвердил Ленька, налегая на картошку так, что она скрипела у него на зубах.
– Что-то не примечала я в кринках ничего, окромя молока да сметаны, – отвечала мать, поджав губы. – Это уж не пионеры ли говорят… которые у матерей коров отбирают?
– В книгах пишут, – пробормотал Ленька, не поднимая лохматой головы от сковородки и посапывая. – И никто у тебя коровы не отбирал… сама свела. Мы на санках тогда катались. Мишка, помнишь?
– Ясное дело, помню.
– Уж лучше помолчите, умники, – мать погрозила им вилкой, – не бередите мое сердце… А яиц вам до пасхи не видать, – добавила она сердито.
Однако в тот же день слазила в подполье и принесла в избу знакомую ребятам лубяную, без дужки, корзинку, в которой хранились завернутые в отрепье яйца, припасенные на разговенье. Утром, собираясь в школу, сыновья нашли в сумках по вареному яйцу.
– Вот уважила, мамка, спасибо! – обрадовался Мишка и пустился в пляс. – Полфунта мяса на каждого отвалила… Ты знаешь, мам, яйцо махонькое, а жратвы в нем ого-го… Пи-та-тель-ности – ни с чем сравнить нельзя… А завтра не вари, – сказал он деловито. – Ты нам раз в неделю давай… чтоб на дольше хватило.
– Недель-то в году больше, чем у меня запасено яиц.
– Ничего, – успокоил Ленька, – скоро весна. Мы щавель будем есть, грибы… рыбы наудим… Весной ты нам и обед не вари. Сами прокормимся и тебя прокормим.
– Идите-ка в школу… кормильцы, – проворчала, усмехаясь, мать.
Она не могла привыкнуть к порожним кринкам в суднавке, к жестяному помятому подойнику, опрокинутому вверх дном и валявшемуся без толку под лавкой. Она обтирала с кринок пыль и тенета мокрой тряпкой, вешала подойник на гвоздь и, сама того не желая, снова шла на скотный двор.
– Ты у меня на Красотку не ори, когда доишь, – выговорила она доярке Катерине, приметив раз, что та неласково обходится с Красоткой. – Испортишь мне корову.
– Да она лягается!
– Чужие руки доят, понимает.
– Так что же мне, у тебя руки занимать?.. Проваливай-ка со двора… мешаешь, – обиделась, проходя мимо, Катерина, задевая ведром и расплескивая по навозу парное молоко. – Чай, корова теперь колхозная, не твоя.
– Как не моя? – вспыхнула Анна Михайловна. – Да я ее телушкой выпоила, восемь лет ходила… ровно за дочкой… Ты ей крапиву жала? – разгорелась она, не понимая, что говорит. – Листья из капустника ты таскала, брюхо надрывала?.. Кажинная шерстиночка моя, кажинный волосок мною выро…
И, опомнившись, замолчала, махнула рукой и убежала со двора.
После ей было совестно встречаться с Катериной.
Эту глазастую, молчаливую и неловкую девку нельзя было теперь узнать, до того она переменилась. С тех пор как ушла Катерина от Гущина жить к бабке Фекле, она расцвела и точно руки себе развязала: и поворотливая стала и разговорчивая, хотя на слово и не больно ласковая. Смуглая, высокая да такая ладная, она осень и зиму работала на лесозаготовках и не уступала мужикам что на пилке, что на колке дров. А как приставили ее в колхозе к коровам, Катерина прямо залетала, закружилась по знакомому гущинскому двору. И главное, как заметила Анна Михайловна, она, по молодости, что ли, своей, ни капельки не жалела дареной гущинской телки. Отвела и глазом не моргнула.
«Даром досталась телка, чего ей жалеть, – думала Анна Михайловна, оправдывая себя. – Походила бы с мое за коровой, небось запела бы… почище меня заругалась». Нет, не одному Петру Елисееву трудно расстаться с Буяном. А надо, зажав сердце в кулак, надо расставаться.
– И до чего некоторые женщины за коровий хвост держатся, прямо смех, – зубоскалил на скотном дворе Костя Шаров, сидя на опрокинутой корзине и покуривая. – Дальше коровьего хвоста они ничего не видят.
– Ты больно много видишь, глазастый, – обиделась Анна Михайловна.
– Да вот вижу – отец мой не зря погиб. Он и повешенный свое дело сделал… Про гранату слыхала? Молодую жизнь оставил мне в наследство батька.
– Хороша жизнь, – жрать нечего.
– Ага! – белозубо, весело хохотал Костя, притопывая валенками. – Определенно, мамаша, на коровьем хвосте сидишь.
– А ты на плетюхе. Помолчи уж, коли ничего не понимаешь в женском деле, – сердито вмешалась Катерина, неожиданно вставая на сторону Анны Михайловны. – Ну-ка, расселся… продавишь мне плетюху, не в чем будет носить сено.
Костя уселся плотнее, так, что затрещали прутья.
– Велика беда! Новую сплету.
– Языком.
Катерина вырвала из-под него корзину, Костя съехал на солому и, поднимаясь, отряхивая серый, перешитый из шинели ватный пиджак, сконфуженно проворчал:
– Повадочки у вас… коровьи.
– Что поделаешь: с кем поведешься, у того и наберешься, – отрезала безулыбчиво Катерина.
Она пошла в водогрейку, и Костя, насупившись, проводил ее долгим взглядом, потом заломил набекрень свою красноармейскую, с зеленым верхом фуражку, убежал со двора, но скоро опять вернулся.
Анне Михайловне приметилось – Костя отрастил себе чуб, купил гармонь, старался на колхозной работе и, по всему видать, думал обзаводиться семьей.
И, глядя на него, широкоплечего, веселого, Анна Михайловна невольно обращалась мыслями к своим ребятам. Поднимет ли она сыновей? Будут ли они вот такими парнями, здоровыми да веселыми, на утеху матери, выпоит ли, выкормит ли она ребят?.. И корова опять не выходила у нее из головы.
Однажды, управляясь по дому, Анна Михайловна, забывшись, пошла в сарай за сеном, туго, с верхом, набила плетюху, принесла ее. И только когда толкнула привычно ногой калитку во двор, вспомнила, что коровы нет.
На дворе было пусто и холодно. С повети свисал растрепанный, весь в инее, сноп соломы. В загородке, в углу, на каменно-замороженной навозной куче сидел, нахохлясь, петух. В ясли надуло снегу, он белел, как пролитое молоко.
Плетюха вывалилась из рук Анны Михайловны. Впервые поняла она, не сердцем, а разумом, просто и больно, что Красотки нет и не будет. Стоять двору пустым, пока не развалится. Плачь не плачь, а так надо. Кому надо? Зачем надо? Она не могла сказать и боялась об этом думать, потому что тогда в голову лезло нехорошее о колхозе, страшное и обидное, а колхоз ей все-таки был по душе.
«Что же делать, господи?..»
Она опустилась на порожек, зажала лицо ладонями.
Так просидела она долго, покачиваясь в молчании, потом, вздохнув и посуровев лицом, поднялась, намешала в корыте курам мякины и отнесла сено обратно в сарай. Порожнюю плетюху оставила там же.
Возвращаясь с гумна, Анна Михайловна почувствовала, что продрогла, и зашла на минуту погреться на колхозный скотный двор.
Здесь крепко пахло теплым навозом, свежей соломой и неуловимым медовым настоем высохших трав. Коровы домовито лежали на чистой подстилке, рядком в каждом стойле и, отдуваясь, жевали жвачку.
Анна Михайловна разыскала Красотку и поманила ее. Корова долго не вставала. Анна Михайловна, прислонясь к загородке, шепотом позвала:
– Красотка!.. Красотка!..
Корова нехотя поднялась и, мерцая в полутьме блестящими понятливыми глазами, знакомо кивая круто загнутыми, как ухват, рогами, точно здороваясь, подошла и, как всегда, ткнула курчавую влажную морду в протянутые ладони и принялась лизать их. Анна Михайловна отняла одну руку, погладила холодные жесткие курчавинки меж рогов. Подошла Авдотьина корова и тоже потянулась через жерди. Анна Михайловна погладила и ее.
Потом заглянула в ясли, горстями выгребла из них труху. Отыскала запасенную доярками на ночь гороховину, перемешанную с яровицей, наложила стогом в ясли. Коровы сыто порылись, но есть не стали, опять легли, и Анна Михайловна пошла домой.
X
В среду, пятого марта, вечером прибежала к Анне Михайловне в избу запыхавшаяся Ольга Елисеева и с порога, не здороваясь, выпалила:
– Коров отдают… обратно. Ай не знаешь, сидишь?
Анна Михайловна чистила вареную картошку на ужин. Решето свалилось у нее с колен, и картофель рассыпался по полу.
– Полно молоть не дело, – сказала она жалобно и строго. – Опять бабы скандал заводят?
– Какой там скандал! Сам Сталин в газете прописал. И приказ районный отменил. Москва отменила!
– Ой, врешь, Ольга? По глазам вижу – врешь!..
– Вот те крест, правда! – Ольга радостно перекрестилась, торопливо перевязывая платок. – Слава богу, дожили до праздничка, светлого Христова воскресенья! Мой-то молчун вчера знал, а не сказал, припрятал газетку… А Семенов возьми да прочитай всем на улице. Что было!
– Опять врешь, Семенов третьеводни в область уехал.
– Да вернулся он, безверная! Пойдем скорей, все бабы побежали в правление.
Нагнулась Анна Михайловна, стала подбирать картофель в решето. Картошины были мокрые, скользкие и не давались в руки. Торопливо ловя их, чувствуя, как кровь стучит в висках, она сказала:
– Не пойду…
Ольга выскочила из избы. Слышно было, как в сенях она налетела впопыхах на ларь, со звоном опрокинула пустое ведро, хлопнула дверью.
Присев к столу, Анна Михайловна очистила две картошины, а третью не могла. Вскочила, сдернула шубу с гвоздя, задула лампу. Кинула шубу на плечи и выбежала на улицу.
Тяжко колотилось сердце, подкашивались ноги.
«Свыклась… отболело, а тут сызнова муки… ежели обманывает Ольга, – тоскливо подумалось ей. – И как могли узнать в Москве про наш колхоз?.. Разве Коля туда ездил…»
Она провалилась в сугроб, упала. Шуба соскользнула, снег ожег руки, лицо, голую шею. «И куда я бегу, ровно на пожар? – подосадовала Анна Михайловна, отыскивая у шубы рукава. – Вот и платка не взяла… простыну… Хоть бы отыскать ребят, послать за платком». Но было темно, сыновей не видно, и так мучительно хотелось знать правду, так нарастали впереди крики, смех и плач, и вот замельтешили у крыльца правления желтые бродячие огни, виден Семенов с газетой в руках и сгрудившиеся около него бабы с фонарями – и Анне Михайловне стало совсем неважно: простынет она или не простынет.
– Спаситель ты наш… батюшка… родимый товарищ Сталин… Ой, Москва милая, власть ты наша родная… самая главная, самая правильная! – голосила, сморкаясь, Дарья Семенова. – Услышала бабьи слезы… прищемила нашим чертовым районным правителям хвост. Дай тебе, бог, здоровья!
– Читай… еще читай! – требовала, смеясь, Авдотья Куприяниха. – Про коров читай… про колхозы.
– Да ведь читано… который раз, – сипло отвечал Николай, складывая газету. – Помитинговали на сегодняшний день – и хватит. Завтра приходите.
Расталкивая баб, ошалело выскочила наперед Строчиха. Фонарь багряно плясал и бился у нее о полы шубы.
– Сию минуточку подавай мне корову! – завизжала она, размахивая фонарем. – И из колхоза выписывай… Часу в нем, окаянном, не желаю быть!
Бабы подхватили ее визг:
– Пра-а… коров давай… выписывай! Распускают колхозы!
– Как так распускают? – вырвалось у Анны Михайловны.
– А очень просто, – весело откликнулся, появляясь у крыльца, Савелий Федорович. Он поднял над головой «летучую мышь», снежинки закружились в полосе света, как белые ночные бабочки. Гущин вытащил из кармана лист бумаги, потряс им. – Эй, вострохвостки, сейчас чиркать начну! Выписывайтесь… кто желающие?
– Все желающие!
Бабы, толкаясь, хлынули к Гущину. Но Семенов ударил Гущина по руке, фонарь упал в снег, погас, и тотчас пропали снежинки-бабочки.
– Кто тебе дозволил?
– А что держать? Дерьмо уплывет – золото останется.
– Уплывешь ты у меня… куда Макар телят не гонял, – пригрозил Семенов.
– Так что же, Коля, – сказала Анна Михайловна, зябко ежась, – стало быть, нет теперь у нас… колхоза?
– Есть, Михайловна. И будет еще крепче!
– Коров, коров давай! – подступили к Семенову бабы.
– Успеете и утром взять. Не пропадут за ночь ваши коровы.
– Нет уж, Николай Иваныч, успокой сердце, – попросила Ольга, хватая Семенова за рукав и не отпуская. – Стосковались по коровам.
А Строчиха пригрозила:
– Добром не отдашь – сами возьмем.
– Не терпится? – рассмеялся Семенов. – Ну что с вами поделаешь, – он пожал плечами. – Берите своих коров.
Фонари светляками рассыпались по улице, освещая заснеженную, в ухабах, дорогу. Обгоняя друг дружку, перекликаясь, бабы побежали на скотный двор. Пошла и Анна Михайловна и только тут заметила, что около нее молча и, видать, давно трутся сыновья.
– Вам чего надо? – сурово спросила она.
– Ничего… – пробормотал Мишка, пятясь и натыкаясь на брата. – Мы так… гуляем.
Ленька толкнул его кулаком в спину, и он, оглядываясь, зашипел:
– Не мешай!
Повертел по сторонам головой, тихонько посвистел. Потом нерешительно, боком подбираясь к матери, заметил:
– А ты, мама, платок обронила. Поискать?
– Дома оставила. Не догадались, дурьи башки? Чем шляться, взяли бы и принесли. Не видите, мать издрогла вся?
Подошел Ленька, молча снял шапку и подал.
– А сам?.. Озябнешь, – проворчала мать, не зная, что ей делать с шапкой.
– У меня волосьев много… Я воротник подниму…
Помогая матери заправлять косу под шапку, Мишка вкрадчиво, шепотом спросил:
– За Красоткой, мама, да?.. – И громко, радостно: – Мы подсобим. Во, я ремень приготовил. Захлестнем рога, как собачка смирненькая пойдет… А подоишь Красотку – будем хлебать молоко. Эге?
– Да ведь оно вредное, – напомнила мать.
Сыновья промолчали.
– Эх вы… пионеры, – сказала она, усмехаясь. – Красные носите галстуки, в барабаны стучите, а правды не знаете. Вам только на мать кричать… А она, гляди, больше вас понимает, даром что не ученая… Ну, что языки прикусили? В Москве-то вон как рассудили правильные люди.







