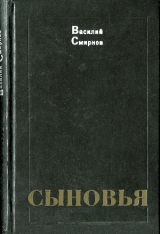
Текст книги "Сыновья"
Автор книги: Василий Смирнов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 18 страниц)
– Хорош кусок ластику и на базаре отхватила. Немаркий, пятнадцать аршин, – хвасталась Куприяниха.
Анне Михайловне нечем было похвастаться, и она сторонилась баб. Ей больше по душе были мужики, с которыми она, как хозяйка дома, сталкивалась по работе. Они не спрашивали Анну Михайловну о ребятах, не жалели ее и бранили, как равную, за худую изгородь в поле, за пару слег, которые она посмела срубить в общественной роще у церкви.
Нравились ей и разговоры мужиков. Скупые на похвальбу, всегда чем-то немножко недовольные, скрытные в словах, каждый себе на уме, мужики толковали про всякую всячину, осторожно обходя личные удачи и неудачи. Их ничем нельзя было удивить, они все знали, все понимали и никому не верили, кроме как самим себе. Хорошее они чаще всего подвергали сомнению, а с плохим соглашались без спора, охотно преувеличивая его. Они подсмеивались друг над другом, говорили намеками и любили замолчать на самом интересном месте разговора. Эту мужицкую хитрость и лукавство Анна Михайловна знала с давних пор и привыкла кое-что понимать по обрывкам слов, жестам, взглядам, недоговоренностям.
И то, что ей удавалось понять, волновало ее и обнадеживало.
– Савелий вчера в газетке вычитал – серебряные рублевики скоро появятся… также и полтины, – рассказывал Андрей Блинов, молодой степенный мужик, с интересом разглядывая свои широкие, в мозолях, ладони. – Посмотреть бы на этот серебряный рубль. Звенеть, чай, леший, будет.
– Шибко!
– Вроде червонца бумажного…
– А по мне хоть деревянные будь… лишь бы в мошне поболе. Теперь все купишь.
– Упоминалось – серебряные, – повторял, не сдаваясь, Блинов, ковыряя сухие мозоли. – С пробой… как при Николае.
– Колюха Романов фальшивых денег много делал, – лениво сплевывал Ваня Яблоков, зевая и почесываясь.
Костлявый живучий старик Панкрат, дальний родственник Анне Михайловне по мужу, заволакиваясь дымом трубки, словно прячась от людей, хрипло заключал:
– Теперича все фальшивое – что деньги, что люди.
– Да уж рот не разевай. Марш маршем в карман к мужику залезут… без спросу, – живо отзывался Петр Елисеев.
– Али червячки завелись? – спрашивал Андрей Блинов, усмехаясь. – Беспокоят?
И все мужики ерзали и переглядывались, улыбаясь в бороды.
– Завелись не завелись… с умом жить можно, – отвечал Елисеев, отводя в сторону сытые глаза.
– Это верно.
– И верно, да скверно.
– С умом и прежде жилось не плохо, – глубокомысленно говорил Ваня Яблоков.
– Уж не тебе ли? – насмешливо спрашивал Елисеев, с презрением глядя на Яблокова.
– А что же? И мне… – пыжился Яблоков, надувая щеки. – Я, брат, в Питере жил дай бог каждому. День там как час. Пока магазин хозяину откроешь, товарец покрасивше на прилавок раскинешь… Ну там дамочке мадаполаму, который завалялся, присоветуешь, глянь, и обед. Сейчас в трактир… Стаканчик хватишь, рубцом либо студнем с хреном закусишь – аршин-то у тебя сам шелка меряет. Хе-хе… Барыня и мигнуть не успеет, как четверти в покупочке нет-с. Тары-бары разводишь, а аршин-то, стервец, меряет!..
Рассказывая, Яблоков весь преображался. Куда девались его лень и неповоротливость. Он вертелся перед мужиками вьюном, кланялся, точно покупателям, подмигивал, хихикал и вдруг, благородно склонив набок лохматую, пыльную голову и лукаво скосив масленый глаз, вскидывал короткие руки, и они молниеносно мерили невидимым аршином.
– П-жалуйте-с! Натянул – и ножницы за ухо, рванешь, только треск идет… А хозяин, бес, тебе шепотком: «За старание – четвертак…» Стало быть, вечером опять в трактире. Поджарочку говяжью закажешь, графинчик-с… Рюмашечку одну-единственную опрокинешь, хлебца понюхаешь и ждешь… – Ваня Яблоков срывал подле себя лист подорожника, нетерпеливо мял его, засовывал в рот и жевал, потирая руки. – Не-су-ут! – кричал он, захлебываясь слюной. – Поджарочку говяжью несут. А она, мерзавка, шипит на сковороде… А тут песни… слезой прошибает. Опять же граммофон… Н-ну, пир горой!
Мужики, как малые ребята, валились со смеху на траву. Смеялась, глядя на Яблокова, и Анна Михайловна.
– Пи-ро-валь-щик!
– Помним, помним, как ты из Питера с березовым кондуктором прикатил.
– Вот-те и поджарочка… поджарила, честная мать!
Ваня Яблоков сконфуженно замолкал, почесываясь. Вяло сердился:
– Ну, что ржете? Верно говорю… Дай-ка, Андрюша, табачку на закурку. Кисет-то я дома забыл, вишь, какая оказия…
Блинов нехотя доставал кисет и продолжал выкладывать новости:
– Вот еще насчет Европы пишут… На поклон, чу, к нам идет. Михаил Иваныч Калинин послов принимает.
– Нужда заставит – пойдешь.
– Это буржуев-то? – удивлялась Анна Михайловна, невольно вмешиваясь в разговор.
– А что ты думаешь? Сильнее нашего народа на свете нет, – соглашался Петр Елисеев. – В гражданскую мы всем надавали по шапкам. Приходится кланяться.
– Да-а, – с сомнением тянул Блинов, осторожно отсыпая Ване Яблокову щепоть махорки. – Поклонятся и зараз на шею нам сядут.
– Не привыкать…
– Это точно.
– Шалишь, брат! С меня довольно! – горячился Елисеев, вытягивая жилистую обожженную солнцем руку. – Рубану… не отсохла еще… И партия большевиков не позволит. Она линию нашу гнет. Сказала – землю мужикам, и сделала. Постой, так ли еще для мужика будет вольготно.
И, точно сердясь, что сказал лишнее, он заворачивал на палец ус и дергал его. Потом насмешливо цедил:
– Семенов Николаша намедни трепался… Выставка, слышь, в Москве была… сельскохозяйственная. Будто из города туда партийные ездили, смотрели… И показывали им машину. Не поймешь: танк не танк, автомобиль не автомобиль… Девять плугов зараз тащит… Врут поди.
– Известно, брехня, – соглашались мужики.
Но по глазам видела Анна Михайловна, что они верят в эту диковинную машину, как верят в то, что жить им будет скоро лучше. И сама она, наслушавшись всего, начинала верить, что придет конец ее тяжелому житью.
Она ждала этого и не могла дождаться, и вера покидала ее.
X
Опять гремела бубенцами от станции до уездного города лихая тройка Исаева. Когда седоков стало много, Исаев завел гнедого рысака, новый тарантас на рессорах и ямщичничал на пару с работником.
Снова открылась в селе бакалейная торговля Гущиных. За прилавок стал брат Кузьмы, Савелий, такой же, как Кузьма, косоглазый и в таком же белом фартуке. По хозяйству и в доме у него управлялась племянница Катюшка, выписанная из-за Волги, угрюмая, черная, как цыганка, длиннорукая девчонка-подросток. Савелий ласково звал ее невестой и, покрикивая на нее и чахоточную жену, носился по двору и лавке вездесущим бесом. Он сам пек крендели, ситный с изюмом, откармливал свиней, скупал по деревням яйца и овечью шерсть, торговал, работал в поле, читал мужикам газеты и еще находил время петь на церковном клиросе.
Он любил баловаться-нянчиться со своей единственной дочкой, ровесницей ребятам Анны Михайловны.
– Писаная ты моя… королевна распрекрасная! – кричал он, тормоша и лаская большеглазую, худую, такую же некрасивую и молчаливую, как жена, девчонку. – У-ух, кровинка моя единая… живем!
Но иногда, подвыпив, жаловался:
– Обидел господь бог, сынком не наградил. Некому поддержать честной род-фамилью. Э-эх! Дочка как квочка: выросла – чужих цыплят завела.
Вертлявый, веселый, он, встречаясь с Анной Михайловной, еще издали махал ей картузом и верещал:
– Богородица ты моя… Жива? И двойняшки здоровы? Ну и расчудесно.
Он вертел во все стороны стриженой белобрысой головой, точно все высматривая и подмечая. Щуря веселые, бегающие глаза, ласково спрашивал:
– В навозницу не подсобишь? Совсем закружился… Дернул меня черт торговлишкой заняться, а землица плачет. Пудовик аржаной отвалю, я ведь не жадный, сама знаешь. Приходи… девок еще порядил… Эх, и попоем песенок! Лапшой со свининой угощу… и чай с медом.
Анне Михайловне мука была нужна, и она, бросая свои дела, шла к Гущину.
Работали у Савелия много и весело. Сам он, расставшись с фартуком, босой и грязный, летал с вилами по двору, пел песни и визгливо подзадоривал девок:
– Пять пудов на вилах подниму, – кто больше?
Отвешивая «с походом» заработанную муку, Савелий кидал Анне Михайловне в подол связку румяных кренделей.
– Попробуй… собственного изделия. Чем я не пекарь? Хо-хо!
Ребятам он совал леденцы, пряники, медовые рожки. Все это радовало и удивляло Анну Михайловну.
– Ты что со мной заигрываешь, как с девкой? – смущенно спросила она однажды, не зная, благодарить ей Гущина или сердиться.
– Девка и есть! – захохотал Савелий, кружась возле нее и точно обнюхивая. – Двойню в сорок лет родила – это надо понять. Не всякая девка так горазда.
Оборвав смех, вытер фартуком глаза и, скосив их куда-то в угол, шумно вздохнул.
– Жа-алко мне тебя, Анна… мученица ты, право. Живешь одна-одинешенька, ни ласки, ни привета… Плохо власть заботится, вот что я скажу. Кабы был я в Совете, дьявол те задери, тряхнул бы казной для красноармейских вдов… Может, лошади тебе надо? Я завсегда, только скажи.
Он погладил ребят по головам и пробормотал:
– Сопляки, ничего не понимаете… Тятьку вам надо… Да ведь тятьки в лавке не продаются… Поди, Анна, кипяток пьешь? Стой-ка!
Савелий побежал за прилавок, схватил с полки осьмушку чая.
– Возьми… на бедность свою вдовью…
Связка дареных кренделей со стуком упала ка пол. Голос у Анны Михайловны перехватило. Побледнев, она свистящим шепотом спросила:
– Милостыньку подаешь?
Позвав ребят, отступила к порогу.
– Что заработано – отдай… А милостыню я сроду не брала. Минька, положи пряник!
Савелий схватил себя за голову, хлопнул ладонями по белобрысой макушке, бросился к Анне Михайловне.
– Голубушка… богородица ты моя… обидел? Ну, прости дурака… Да от чистого сердца я… Ах ты, господи!
Торопливо поднял связку кренделей, подул на них, обтер фартуком и снова принялся совать вместе с чаем, усердно кланяясь.
– Не даром… Уж, пожалуйста, возьми, отработаешь… Ну, хорошо, хорошо, не бери, извиняюсь…
Загородив дверь, Савелий жалобно спросил:
– И за что ты меня не любишь, Анна? Всем добра хочу, ей-богу. Время-то свободное, только бы жить да жить… в мире, в согласье… Вот и Коля Семенов на меня завсегда косится… За что, спрашиваю? Чем я не угодил? Хоть бы ты, Анна Михайловна, за меня словцо перед ним замолвила. Ведь знаешь ты меня. Вот я, весь тут!
Савелий ударил себя в грудь и широко растопырил руки, точно прося пощады. Голова его смиренно склонилась, глаза перестали косить. Он улыбался печально, облизывая серые, потрескавшиеся губы.
«Шатун его поймет, что за человек, – думала Анна Михайловна. – Может, и вправду добра желает». И она поблагодарила Гущина, унося муку.
Охотно шла к нему Анна Михайловна на «помочи», иногда даже принимала его подарки. Николай Семенов замечал это, хмурился и как-то при ней сказал Гущину:
– Я тебя, жулика, насквозь вижу.
– Ну-у? – заулыбался Савелий, весело скосив глаза. – Из стекла, что ли я?
– Стеклянный, как пивная бутылка.
Савелий визгливо захохотал. Потом, оборвав смех, схватил Николаев рукав и погладил его. Николай отодвинулся, но Гущин, словно не замечая этого, цеплялся за рукав.
– Полно, Николай Иванович. Ну, зачем понапрасну маленького человека обижать? – дружелюбно сказал он. – Разве я супротив власти? Али налоги не плачу, смутьян какой?.. Вот выборы скоро. За тебя, черта неласкового, голос в Совет подам… И в газетке ты прописал зря. Какой я непман? У меня работника нет.
– Зато работниц хоть отбавляй, – сказал Семенов, взглянув на Анну Михайловну.
– Катюшка? Племянница она мне. Сирота. Вот те Христос! – Савелий торопливо перекрестился. – Спроси ее, коли мне не веришь… Да что я изверг? Тоже родственные чувства имею… Как у родного отца живет.
– Оно и видно: не жнет, а белый хлеб жует…
– Так ведь я и сам тружусь, ни днем ни ночью покоя не знаю. Как партия ваша говорит: который работает, тот и ест. А что касается торговлишки – каюсь, бес попутал. Между прочим, рассуждаю: кому-нибудь надо мужика чаишком, сахаришком снабжать.
– Кооперацию откроем – выкурим тебя, – сказал Семенов, уходя.
Савелий так и подпрыгнул, хлопнул себя по ляжкам:
– Ай, хорошо! Жду не дождусь, честное слово. Я бы в продавцы напросился, в услужение Советской власти.
Он догнал Николая и, утираясь фартуком, вздыхая, пошел с ним рядом. Анна Михайловна слышала, как он визгливо бубнил:
– Брат-то мой Кузьма, царство ему небесное, выродок был. Супротив народа полез… Ну, бог и покарал его прежде время кончиной. Я, Коля, с народом неотступно. Сам видишь – куда мужики, туда и я… Что тебе надо – заходи, с полным удовольствием… завсегда.
«Обхаживает. Жулик и есть», – решила Анна Михайловна.
И все-таки доброта Савелия Гущина, его веселый нрав, трудолюбие и, главное, простое обращение нравились Анне Михайловне. Иным был ямщик Исаев, открыто ненавидевший бедноту, кичившийся своим богатством и недовольный новыми порядками.
Когда выбирали сельсовет, Исаева и Гущина лишили права голоса. Савелий только летал да посмеивался. Исаев же орал:
– Зимогорья слобода… Анка Стукова, нищенка, в министры ворье выбирает, а работящему человеку рот зажат… Вали… ваше время… Да надолго ли?
В престольный праздник казанской божьей матери пьяный Исаев заложил тройку и катал по селу своих гостей точно на свадьбе. Заливались бубенцы, саврасый коренник, разметав лохматую, в лентах, гриву, высоко нес расписную дугу. Пристяжные, вытянув оскаленные морды, стлались по земле, и пыль кипела под их копытами.
Исаев, в вышитой белой рубахе и бархатном жилете, мотался на передке тарантаса. Картуз торчал на его голове лаковым козырьком назад.
– Врете, дьяволы, что голоса не имею. Голос у меня ого-го-о! На всю округу слышно… – ревел он, нахлестывая кнутом взмыленных коней. – Э-эх, милые… потешьте… Смотри, шантрапа, как настоящий хозяин гуляет!
XI
Так шла жизнь, в чем-то новая, в чем-то старая – не разберешь. Иногда Анне Михайловне казалось – только могила посреди села наперекор всему незабываемо утверждает перемену.
Солнце жгло траву, дождь и ветер разрушали палисад, вьюги заносили могилу снегом, мороз заковывал ее льдом, но из сугроба упрямо поднимался крест с мохнатой, заиндевевшей звездой, и летом на могиле бессмертно цвели васильки.
Анна Михайловна любила, забрав сыновей, отдыхать летними вечерами в палисаде.
Солнце засыпало где-то далеко за лесом. Гасла заря, и на дубовом, потемневшем и мшалом от времени кресте звезда становилась черной. Угомонившись, село затихало в сумерках. Кое-где на завалинках тлели цигарки мужиков, вышедших перед сном на улицу. Тонко звенели комары. Вот жук прогудел над головой, наткнулся на крест и упал в траву. Ребята сползли с лавочки и побежали искать жука. Анна Михайловна смотрела, как они карабкаются на могилу, и думала о счастье, за которое погиб Леша. Где же это счастье?..
Через дорогу Анне Михайловне было видно открытое окно просторной исаевской избы. На столе светло горела лампа, двоясь в никелированном самоваре. Разноцветной горкой лежал ландрин в сахарнице. Дымило паром варево, должно быть, мясное, в широком небьющемся блюде… Исаиха стояла у стола и, прижав к заплывшей груди каравай, резала хлеб. Косматая тень самого хозяина падала на занавеску соседнего окна.
Уронив на колени руки, Анна Михайловна глядела на освещенные окна исаевской избы. Глухая ненависть поднималась у нее в груди.
– Выкарабкались… сволочи, – бормотала она. – Подпалить бы с четырех сторон… чтобы духу вашего не было!
Иногда в палисад заглядывал Николай Семенов. Он неслышно опускался на лавочку и подолгу сидел молча, крутя «собачью ножку». Как-то раз спросил:
– Тоскуешь?
– Нет, радуюсь, – с сердцем сказала Анна Михайловна. – Живут люди…
– Ну?
– Вот тебе и гну. Мужей наших поубивали богатеи и жиреют… Так бы, кажется…
Она подняла кулаки, вздохнула и уронила их на колени.
– А ты ненависть побереги. Пригодится, – сказал Семенов, чиркая спичкой.
Огонь озарил его худое темное лицо в рыжих колючках. Семенову тоже жилось несладко. Семья все прибавлялась. Как с лютым врагом, бился он с нуждой и не мог одолеть ее.
Помолчав, он сказал:
– Дай срок, и мы заживем.
– На том свете… – усмехнулась Анна Михайловна. – Спасибочко!
Нахмурившись, Семенов зажег цигарку и бросил спичку. Огненным мотыльком порхнула она в темноте и погасла.
– Зачем? Не об этом речь на сегодняшний день. Власть-то в наших руках. Ленин знает, что делает… Чуешь?.. Силу копим. Придет время – раздавим кулачье, как букашек.
Он курил, покашливая.
– Ты вот что… в исполком сходи. Наказывали… Там тебе пособие выхлопотали.
Медленно и неловко повязывала Анна Михайловна сбившийся платок. С реки тянуло сыростью. Где-то во ржи неуверенно закричал дергач и смолк. В палисаде, на могиле, щебетали ребята.
Анна Михайловна тронула Семенова за локоть:
– Не сердись, Коля… Баба я, вот и болею сердцем… Да не за себя, пойми, ребятишек жалко!
Точно подслушав разговор, сыновья бросили игру и, подбежав, теребили мать за юбку.
– Домой, ма-ам… По-и-ись…
– A-а! – воскликнул Семенов, хватая ближнего за штанишки. – Поесть? Это хорошо. Растешь, значит?
Он подбрасывал парнишку, и тот летал на его руках, как на качелях, визжа от удовольствия.
– И меня… дядя Коля, и меня! – тянулся второй, став на цыпочки.
– И тебя… Вот для кого живем, Михайловна… Ух, тяжеленький!
Мать следила, как кружатся и летают в воздухе, точно на крыльях, ее ребята. Подумала: «Батьки не хватает. Уж он бы повозился с вами».
– Ну, будет, будет. Уронишь еще, – проворчала она, отнимая сыновей. – Своих, видать, тебе мало?
Семенов сконфуженно рассмеялся.
– Мало, ей-богу! Жаден я до ребят… Видно, приходит старость.
XII
Сыновья росли, не замечая матери, принимая ее любовь как должное, обыкновенное, вроде хлеба, который они всегда находили в суднавке, когда голодные прибегали с улицы. Они постоянно торопились, особенно Мишка, словно боясь пропустить самое интересное.
– И что вам дома не сидится? – говорила Анна Михайловна, тихо лаская сыновей. – Посидели бы со мной, поговорили… я бы вам песенку спела. Что хорошего шляться по задворкам? Вон Мишка опять штаны изорвал… Не напасу заплат на вас.
– У дяди Никодима колодец роют… глубоченный, – торопливо объяснял Мишка, набивая рот хлебом.
– Ну и пусть роют, вам-то какое дело?
– Да ведь глубоченный!
– Сейчас воду зачнут отчерпывать, – добавлял Ленька, посапывая. – Ух, водищи сколько!
– Айда! – командовал Мишка, пряча хлеб за пазуху.
И они поспешно убегали из избы.
Анна Михайловна видела из окна, как быстроногий Мишка стрелой летел по улице, оставив далеко позади себя увалистого брата. Придерживая штанишки, Ленька переваливался с боку на бок и сердито кричал:
– Мишка, постой… Мишка, обожди меня!
Мать отходила от окна и бралась за дело. Иногда, вспоминая про умерших детей, она высчитывала: «Старшенькому, Володе, на егорьев день двадцать лет минуло бы. Парень был бы… подмога… И Катюшке шестнадцатый пошел бы. Невеста… За какие грехи господь отнял у меня детей и мужа?»
Но чаще она думала о живых, и тревога не покидала ее.
«Кажись, и не поднимешь ребятушек моих, останутся сиротами, – тоскливо приходило ей в голову. – Силы, чую, не стало. Как наклонюсь – голова кружится и в глазах темнеет. Вот и поясница ноет, пес ее задери. Намедни плетюху отавы зараз не могла принести… Господи! Ради деток, дай еще пожить… хоть немножко… – жарко молилась она, опускаясь на колени перед образами. – Царица небесная, заступись ты за меня там, на небе. Ведь и ты матерью была, все понимаешь… Детские дома, говорят, есть в городах. Помереть не дадут, не такое время… Да без мамки-то каково им будет? Побранить всякий умеет, а вот приласкать…»
И тут же, с огорчением вспоминая, как не замечают ребята ее, матери, она с досадой перечила себе: «А что им мамка? Поели – убежали… ровно и нет мамки. Им что родная, что чужая – одинаково, лишь бы сыты были».
Это была и правда и неправда. Сыновья не замечали ее, пока все шло хорошо. Но стоило их обидеть кому-либо на улице, ребята с ревом бежали к матери в избу.
– Так вам и надо! – сердилась Анна Михайловна, ожесточаясь. – Поменьше водитесь с озорниками. Я вот еще от себя прибавлю, – грозила она. Но, взглянув на измазанные грязью и слезами лица сыновей, утешала и ласкала как могла: давала по куску сахару, прикладывала к синякам медные пятаки, отмывала теплой водой грязь, приговаривая: – Смотри-ка, и мать сыскалась… Завсегда так. Пока не больно, и мамки знать не знаем… А у матери и радости – лишний раз взглянуть на вас.
Ребята сидели смирно, умытые, покорные. Они грызли сахар, слушая мать, и, ласкаясь, клали иногда головы ей на колени. Она брала гребень, приглаживала вихры. Ей было хорошо, и она, довольная, заключала:
– Много ли матери надо? Ласка для нее всего слаще.
Мишка поднимал голову:
– А сахар?
Анна Михайловна грустно смеялась. Ей хотелось подольше удержать сыновей возле себя, что-то сказать им такое заветное, нужное на всю жизнь. Но синяки у ребят переставали болеть, и улица снова манила их. Болтая ногами и насвистывая, Мишка уже строил планы, как отомстить обидчикам:
– Подстерегу вечером у овина, да и звездану камнем… Пошли, Ленька, в куру играть.
– Пошли.
Их окружал свой мир – с играми, удочками, ножами, спичками, драками. Каждый день ребята открывали что-нибудь новое. И они делились этой новостью с матерью.
– У Гущиных Ласка ощенилась. Трех принесла… слепенькие, – сообщал Ленька за обедом. – До чего смешные! Ползают, пищат, а глаз нету… Мам, почему щенята родятся без глаз?
– От господа бога так положено, – объясняла Анна Михайловна. – Вот подрастут, и глаза будут.
– А откуда они возьмутся?
Сообразительный Мишка насмешливо толкал брата локтем:
– Э, дурак, откуда?.. Вырастут. Зубы у тебя растут? Ну и глаза растут.
Ленька переставал есть, думал и, посапывая, взглядывал исподлобья на мать:
– С Мишкой мы… тоже без глаз… родились?
– С глазами, – улыбалась Анна Михайловна.
– А почему? – допытывался Ленька.
– Ну почему, почему… Много будешь знать – борода вырастет. Говорю – от бога все.
Ей было приятно это ненасытное ребячье любопытство, хотя иногда вопросы сыновей ставили ее в тупик и она не знала, что отвечать. Ее трогали и волновали неумелые, застенчивые ласки ребят, маленькие услуги, которые сыновья ей оказывали то неохотно, с перекорами и жалобами, то с азартом – «кто скорее»; трогали пустяки: вот Мишка за чаем, распоряжаясь кринкой топленого молока, положил ей в чашку румяную пенку, вот Ленька, ложась спать, аккуратно сложил рубашку и отнес на сундук, как она учила… Мать замечала все.
Однажды ребята ушли на Волгу и долго не возвращались. Анна Михайловна, беспокоясь, пошла их искать.
«Уж задам я вам порку, негодяи… Еще потонете со своими удочками… Ни за что больше на реку не отпущу!» – гневалась она и выломила на гумне, по дороге ивовый прут.
Выйдя в поле, она еще издали увидела сыновей.
«Бредут нехотя… а у матери все сердце изболелось». Она сжала в руке прут и остановилась, поджидая.
– Вы что же это делаете? – закричала она, когда ребята подошли ближе. – Матери не слушаться? Ведь сказано было вам…
И замолчала, спрятав прут за спину.
Ребята шли медленно и важно, точно с ярмарки. Мишка тащил удочки и банку с червями, а Ленька, откинув наотмашь свободную руку и изогнувшись, словно от непомерной тяжести, нес веревочку, на которой болтались несколько рыбешек. Это была их первая добыча.
– Посмотри, мама, сколько рыбищи, – сказал Ленька, подходя и протягивая веревку. Голубые глаза его восторженно сияли. – Вот эту рыбину я поймал. Окунь… Здорово, дьявол, заглотал, насилу крючок вытащил… – возбужденно рассказывал он. – А это сорога, видишь? Ишь, бельмы красные выпучила!
Мишка бросил на землю удочки, байку и тоже схватился за добычу.
– Два ерша мои. Эвон, колючие! И сорога моя… Ка-ак дернет, пробка на утоп и… Я больше Леньки выудил, – захлебываясь словами, хвастался он. – Дай понесу, теперь моя очередь.
– Вот так ваша рыба… кости одни, – проворчала мать, вынимая из-за спины пустые руки. – Измокли все… Грязи-то на штанах! Стирай на вас… А это карась, что ли? – Она потрогала серебристого подлещика.
Она сварила в кашнике уху, и ребята угощали ее за завтраком:
– Ешь, мама, еще наловим.
– Теперь мы тебя рыбой закормим!
– Ох, уж вы… добытчики! – усмехнулась мать.
Она протянула ложку, почерпнула ухи. Рука у нее задрожала, и она пролила уху на стол. Сыновья услужливо подвинули кашник поближе к матери.
XIII
Теперь Анна Михайловна меньше беспокоилась, оставляя ребят одних в избе на долгий летний день. Она только прятала от них спички и наказывала далеко от дома не уходить.
Сыновья редко нарушали этот материн наказ. К ним повадился ходить дед Панкрат, и они весело проводили с ним время.
В широченных портках из домотканого холста и такой же рубахе, длинной и без пояса, сивобородый и лысый, он появлялся у избы спозаранку, стучал под окном палкой и хрипло звал:
– Эй, воробышки… вылетайте!
Ребята с криком бежали на улицу. Дед Панкрат присаживался на завалину, набивал глиняную трубку-носогрейку едучим самосадом и дымил, как волжский пароход.
Ребята нетерпеливо терлись об его колени.
– Дед, что принес?
– Ничего.
– Нет, покажи! – приставал Мишка и лез к карману.
– Брысь! – ворчал дед, отталкивая. – Каждый день вам гостинца приносить… больно жирно будет.
– Принес! Принес! Эвон карман топырится… – кричал Мишка, прыгая на одной ноге.
Ленька, пристально глядя в густую сивую бороду деда, серьезно спрашивал:
– Это у тебя в трубке хрипит или в груди?
– В груди, воробышек, в глотке, – бормотал дед, заволакиваясь дымом. – Трубку я, почесть, перед каждым куревом чищу, а глотку… чем ее прочистишь? Разве в праздник винцом чуть-чуть… С музыкой живу.
Выкурив трубочку и прокашлявшись, дед подмигивал притихшим ребятам, и Анне Михайловне видно было из избы, как он медленно запускал корявую ладонь в просторный карман штанов. Он долго шебаршил там, кряхтел, словно никак не мог вытащить что-то большое. Ребята совались ближе, и дед Панкрат, блаженно жмурясь, показывал из кармана три черных пальца, сложенных фигой.
Мишка и Ленька покатывались со смеху. Не уступал им и дед. Ежедневно он начинал с этой шутки, и всегда она доставляла ему и ребятам удовольствие.
«Что малый, что старый… одна потеха, – думалось Анне Михайловне. – Складный старик, болтлив только».
А Панкрат уже вынимал из кармана самодельную игрушку.
– Что это такое? – спрашивал он.
– Дудка.
– А ну… подуди, – приказывал дед.
Мишка пробовал, но у него выходило плохо. Дудка хрипела, как старая, сдавленная грудь Панкрата.
– Не так во рту держишь, воробей, – строго говорил дед. – Смотри, вот как надо.
В сивой бороде Панкрата разверзалась черная яма. Желтые редкие зубы торчали в ней. Дед прилаживал дудку к языку и учил ребят свистеть.
Раз он пришел вечером, рубаха у него против обыкновения была туго подпоясана мочалиной, перед вздулся пузырем. Дед поддерживал этот пузырь обеими руками, под мышкой у него торчала палка.
– Это что такое? – начал он, как всегда, обращаясь к Леньке и Мишке. Осторожно расстегнув ворот, сунул за пазуху руку и вытащил за уши зайчонка-русака.
То-то было радости у ребят! Анна Михайловна не поленилась, слазила на чердак, достала сыновьям ящик под клетку.
Пока строили клетку, зайца посадили под гуменную плетюху, и Мишка, оседлав корзину и пронзительно насвистывая, сторожил русака.
– Как ты поймал? Дед, расскажи! – допытывался Ленька, с помощью матери наколачивая на ящик решетку.
– Поймал. И очень просто… Догнал, на хвост соли насыпал, – хрипел дед, жмурясь и посмеиваясь. – Вся хитрость – чтобы соль ему на хвост попала. На уши ни боже мой: убежит, поминай как звали. На хвост хоть крупицу… остановится как вкопанный.
– Врешь?
– Вру, – охотно сознался дед, потирая лысину. – В пучки косоглазый забрался, у овина. Тут я его и сцапал. Молодой, глупый. Старика-то и ружьем не всякий раз возьмешь.
Заяц долго жил у ребят, подрос и как-то ночью прогрыз прутья в клетке и убежал.
– Всякая тварь любит волю, – заключил Панкрат, утешая огорченных ребят новыми замысловатыми свистульками. – Худо ли ему у вас было? Тут тебе и капуста и морковка – самая заячья сласть… Ан нет! Домой, в лес, потянуло. В лесу-то он, может, по три дня голодным будет бегать, осину глодать, а все – воля.
Ребята слушали деда затаив дыхание.
– Еще, дед, расскажи еще! – просили они.
И дед без устали чесал языком, покуривая носогрейку и глухо кашляя.
Ребята так привязались к Панкрату, что Анна Михайловна стала даже косо на него поглядывать. «Носит нелегкая. Ровно приворожил ребятишек, болтун, – с досадой думала она, следя за стариком ревнивыми глазами. – Небось около матери так не трутся».
– Не сметь у меня на улицу бегать! – сердито приказывала она сыновьям.
– Дед пришел, – объяснял Мишка, не понимая, на что мать гневается.
– Ну и что же?
– Рассказывать будет… интересно.
Так продолжалось целое лето. Потом сыновья стали реже выбегать к деду. И как-то утром, идя на гумно, Анна Михайловна услышала недовольное замечание Леньки:
– Ты, дед, позавчера про это говорил.
– Разве? – удивился Панкрат и смущенно почесал лысину. – Скажи, какой памятный.
А Мишка, небрежно подкидывая и ловя на ладонь свистульку, настойчиво спрашивал:
– А гармонь умеешь делать?
– Умею.
– А почему все дудки приносишь?
«Надоел», – решила Анна Михайловна и успокоилась.
XIV
Трудно было угодить ребятам. Они всегда требовали нового, необыкновенного и терпеть не могли слушать или делать одно и то же. В погоне за этим новым они познавали страх, боль, радость, мальчишескую зависть и гордость. Очень скоро научились презирать слезы, стали стыдиться ласк матери, научились уважать смелость, выносливость в том особенном детском понимании, когда головокружительный прыжок с липы или хождение босиком по снегу кажутся геройским подвигом. Разумеется, они подражали взрослым мужикам в курении табака, оплевывании, брани.
Анна Михайловна и смеялась, и сердилась, и плакала, глядя на сыновей. Вместе с ними она переживала свое детство, такое далекое и туманное, как неуловимый край неба осенью, детство, вдруг вернувшееся к ней и озарившее ее дни молодым, горячим светом.
Сквозь забавы и страсти сыновей материнский пытливый глаз примечал складывавшиеся характеры.
Маленький, юркий и озорноватый Мишка любил шумные, подвижные игры. Он придумывал их множество и всегда бросал, не кончив. В избе и на улице Мишка бедокурил больше брата, всех передразнивал, задирал. Он любил петь и свистать на все лады. Особенно нравилось ему брать деревянную облезлую поварешку, натягивать на нее стащенные у матери нитки и, сев на порожек, воображать, что он играет на балалайке. Нитки пищали слабо, и он подсоблял им, громогласно наигрывая песни губами.
– Головушка у меня болит от твоего баловства. Перестань! – приказывала мать.







