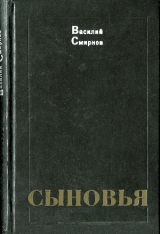
Текст книги "Сыновья"
Автор книги: Василий Смирнов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 18 страниц)
– Дадим, дадим путевочку, папаша, не волнуйтесь, – в тон ему отвечал Михаил, копаясь в пыльных выцветших бумагах. – Международный вагон прямого сообщения… с решеткой. – Он придвигал к себе поближе лампу, рассматривая квитанции. – Кто же денежные документы простым карандашом пишет?
– На морозе, Миша, чернила стынут. Закон природы.
– А химическим?
– Под рукой не было.
– А резинка, по закону природы, всегда под рукой?
Савелий Федорович таращил круглые, переставшие косить глаза. Он улыбнулся кротко, непонимающе.
– Какая резинка?
Михаил, насвистывая, разглядывал квитанции на свет, потом передавал Андрею Блинову.
– Бумажка протерлась, – нерешительно говорил тот.
Щурясь, Михаил поправлял:
– Протерли.
С лица Савелия Федоровича сползала улыбка, зрачки сбегались к переносью. Высоко, так знакомо Анне Михайловне, вскидывал Гущин голову.
– Ты, парень, говори, да не заговаривайся, – строго напоминал он. – Может, я где пуд-другой недовесил или перевесил, с кем не бывает греха… Но чтоб копейку… Ты эти штучки брось!
– Есть бросить эти штучки, – откликался, посмеиваясь, Михаил, прятал квитанцию в свой хромовый портфель и защелкивал замок.
А Савелий Федорович еще выше поднимал белобрысую голову и, заложив руки за спину, расхаживал по избе петухом. Анна Михайловна с печи смотрела, как шевелятся и сжимаются за спиной Гущина коротышки-пальцы, как косят и ничего не видят его бычьи, налитые кровью глаза, судорожно дергается верхняя, презрительно оттопыренная губа, обнажая редкие крупные зубы.
«Как у лошади…» – с неприязнью думает Анна Михайловна, и ею овладевает непонятное враждебное чувство к Гущину. Ей кажется, что давно это чувство жило в ее сердце. Анна Михайловна подавляла его, а оно росло, и вот нет больше терпения, оно поднимает ее с печи, заставляет говорить. Она открывает рот, но слов нет, одна злоба. И она кричит другое, совсем другое, и не Гущину, а сыну:
– У меня не контора… Идите в правление и торчите там хоть до утра… Третью ночь без сна. Убирайтесь!.. Пылищи от ваших бумаг – дышать нечем.
Так и прогнала из избы. Перебралась ревизия в правление. Было это в субботу.
А в воскресенье вечером шла Анна Михайловна на гулянку посмотреть на сыновей и видела, как шлялся по-за гумнами в сумерках горбатый такой человек. Он показался ей знакомым или похожим на кого-то, но она никак не могла припомнить на кого. А потом она забыла про горбатого – не до того было, – загуляли ее ребята по-настоящему, молодцами, и она торопилась посмотреть.
Гулянка была на спортивной площадке, у школы. Окруженные бабами и ребятишками, расхаживали по площадке принаряженные девушки и, взявшись за руки, пели песни. И звонче всех, приятнее всех выделялся голос Насти Семеновой. Парни стояли поодаль, возле гармониста. Анна Михайловна постеснялась сразу посмотреть туда, но она чувствовала – сыновья ее там. Она подошла к бабам, поздоровалась, бабы потеснились, и она стала смотреть и слушать девушек.
Настя была в красном шелковом платье, как цветок. Лизутка Гущина – в белом кисейном, надетом на розовый чехол, обе в носочках и туфельках-лодочках. К Насте шло все: и складочки на груди, и рукава модными пузырями, и клетчатые носочки на смуглых ногах, и крохотные туфельки под цвет платья. Она первая поклонилась Анне Михайловне, а Лизутка только оглянулась. И кисея на той висела как на доске, бант сзади приляпан. Такой голенастой, длинноногой не носочки носить и лодочки, а русские сапоги с портянками. Анна Михайловна отвернулась.
Заиграла гармонь, парни, докуривая папиросы, медленно, как бы неохотно, потянулись к девушкам приглашать на танцы. И тут Анна Михайловна увидела сыновей и чуть со стыда не сгорела: «Не переоделись… Ах, бесстыдники!»
Действительно, Михаил был в будничной майке, заправленной в брюки, и тапочках на босую ногу. Алексей – в косоворотке, простых сапогах и кожанке внакидку.
«Вот снаряжай их… А они на первое свое гулянье как на работу вышли. Еще люди добрые подумают, что и надеть нечего… Срам, срам!» – гневалась мать, хотела от стыда уйти, но гармонист заиграл, и она осталась.
Все, все было не так, как она желала и представляла себе. Парни не ударили каблуками, не хлопнули в ладоши, не закружили девчат. Они медленно протянули им руки и, прямые, неловкие, точно связанные, не сгибая в коленях ног, зашагали по площадке журавлями.
– Это что же… танец такой? – шепотом спросила Анна Михайловна у баб.
– Заграничный… Ш-ш-ш!
– Заграница! – фыркнула Анна Михайловна. – Гармонь воет, а они, что землемеры, аршинами землю меряют. Велика охота!
Но вот гармонист заиграл другое, торопливое, порывистое и опять ни на что не похожее. Парни и девушки смешно засеменили, завертелись, выкидывая ноги, того и гляди коленками друг друга ткнут.
– Прежде так не плясали, – проворчала Анна Михайловна, обиженная в чем-то самом дорогом, и собралась уходить. – Смотреть противно…
Она пошла домой, но гармонь вдруг грянула знакомую плясовую, Анна Михайловна поневоле вернулась и увидела, как Михаил подтянул брюки, потер ладони, ударил ими, свистнул и вылетел на середину площадки. Он пролетел на носках по кругу, выбил дробь, остановился перед Настей, нагнулся, треснул ладонями по коленям и призывно отступил. Настя чуточку помедлила, потом выступила вперед, повела плечами и поплыла, как лебедь, по кругу. Михаил метнулся за ней вприсядку…
Вот это была пляска так пляска!
И не беда, что Михаил был в старой майке и тапочки свалились у него, он и босыми подошвами выстукивал так, словно на току в семь цепов молотили. Славные он выделывал коленца. У него плясало все: ноги, руки, плечи, глаза. И под стать ему была Настя, ловкая, красивая.
Когда они устали, на смену им вышла вторая пара, третья. Потом Михаил взял гармонь, заиграл кадриль, и Алексей, не танцевавший еще, пригласил Лизутку, и они, высокие, ровные, тоже ладно кружились, не так, как Михаил с Настей, но все же неплохо, приятно было посмотреть. И бант у Лизутки вроде как был к месту, и платье сидело хорошо, и ноги были совсем не длинные.
Насмотревшись, довольная Анна Михайловна пошла домой. Но спать ей в эту ночь не пришлось. Загорелись исаевский амбар с хлебом и правление колхоза.
Амбар отстояли, а контора сгорела дотла.
Когда народ расходился с пожарища, Семенов задержал возле своей избы чужого человека. Тот бросился было на него с ножом, но откуда ни возьмись подоспел Гущин, нож отнял, помог связать. Разглядели – Исаев, одет хорошо, а пьяный и вовсе горбатый.
«Так вот кто шлялся вечером по-за гумнами», – сказала себе Анна Михайловна.
Разговор с ним был короток.
– Ты поджег? – спросил Семенов.
– Хотел, да кто-то до меня постарался, – криво усмехнулся Исаев.
Его увезли в город.
А утром Савелий Федорович ходил по селу, хвастал, как он спас от верной смерти председателя колхоза. Заглянул Гущин и к Анне Михайловне, пожаловался:
– Не кончить нам ревизии, Мишутка… Грех-то какой вышел, а?
– Кончим, – сонно и вяло ответил Михаил. – Часок сосну, и за дело примемся.
– Да ведь сгорели документы, чудак!
– Ну, зачем им гореть. – Михаил зевнул. – Я документы дома храню. Вон, под кроватью лежат.
Савелий Федорович страшно обрадовался и долго благодарил Михаила.
Но ревизию Михаил все-таки не успел закончить. В полдень Гущина арестовали.
XIII
Как ни ловчился Никодим, постройку дома он затянул до осени. Старость брала свое. Никодим частенько прихварывал, хотя и храбрился. Впрочем, и это было кстати, потому что отделка избы, прируба, крыльца и светелки потребовала такую уйму денег, что, не подвернись годовалый бычок и заработок Алексея, пришлось бы Анне Михайловне изрядно занимать в колхозе.
Алексей заработал в МТС деньгами, хлебом и все до копеечки, до последнего килограмма отдал матери. Не так поступил Михаил. После распределения доходов в колхозе он зачастил в кооперацию, таинственно шептался с заведующим и однажды приволок домой баян, стоголосно развернул его рябые необъятные мехи, ловко пробежал пальцами по перламутровым пуговкам и рванул «Барыню».
– Вот тебе, Михайловна, музыка… чтоб в новом дому было не скучно!
Мать раскричалась, поплакала, а когда от сердца отлегло, подумала: «Да пес с ним, баловником. Извернусь как-нибудь… Пусть тешится, коли охота есть».
Она еще для прилику покосилась, поворчала с неделю на транжиру сына, а потом как-то вечером, когда взгрустнулось, попросила сыграть свою любимую «У меня, у молоды, четыре кручины».
Михаил не знал песни. Она напела мотив как умела, сын быстро и верно подобрал голоса, от себя прибавил печальные переборы и, усмешливо, с любопытством поглядывая на мать, так сыграл, что она простила ему эту дорогостоящую покупку.
Перебирались в новый дом в сентябре. Ребята живо перетаскали на улицу лавки, комод, стол, кровать, одежду и горшки. Все не ушло на один воз. Кажись, и немного было добра в старой избе, а как вынесли, вытряхнули, набралось порядочно, не считая мешков с хлебом, ларей и кадок.
Анна Михайловна подобрала каждую тряпку, каждый черепок, повыдергала гвозди из стен, даже облезлый веник прихватила – в новом хозяйстве все сгодится.
Она не пустила сыновей сразу в новую избу, а, по обычаю, отнесла туда сперва кошку.
– Иди с богом, живи, – сказала она, сажая кошку на порог в прихожей. – Тут гнездо твое.
Кошка мяукала, царапалась в дверь, на улицу.
– Полно, глупая, – уговаривала ее Анна Михайловна, присев на корточки и лаская. – Обнюхиваешься, поди как хорошо будет. Ну, иди же!
Кошка долго не решалась переступить порог, но сидела уже смирно, а потом, точно послушавшись хозяйки, выгнула горбом спину, потерлась о подол, мурлыкнула и осторожно пошла по избе. Медленно ступая, навострив уши, она обошла прихожую, кухню, заглянула в зал, вернулась и прыгнула на печь.
– Ну вот и нашла свое место, – усмехнулась Анна Михайловна.
Когда все перевезли и перетаскали, расставили и развесили, Анна Михайловна прошлась по гулкому полу, огляделась, потрогала бревенчатые, с янтарными висюльками смолы стены и не почувствовала радости.
– Пустовато… – вздохнула она, – все какое-то чужое… холодное.
Она украдкой вернулась в старую избу. Печь зияла черным открытым устьем, слабо синели вечерним тихим светом оконца; паутина висела в красном углу, там, где была божница; на полу, в мусоре, валялась оброненная вилка. Здесь, в старом доме, тоже было пусто, но пахло еще жильем.
Анна Михайловна подняла вилку и, усталая, грустная, постояла немножко посредине избы.
«Ломать неохота, а придется… И ничегошеньки не останется от прежней моей жизни, – подумалось ей. – Не сладко было, а все-таки жалко чего-то… Век прожила, легко сказать… Ну, ладно, видать, надо привыкать к новому дому».
Она заглянула в чулан, сняла с гвоздя забытый платок; пошарила по углам, не завалилось ли еще что путное, спустила по привычке щеколду на двери и вышла двором на улицу. Она шла переулком к новой избе и все оглядывалась.
– Ничего, так надо, так надо, – говорила она себе, плотнее сжимая губы. – Свыкнусь… радоваться должна, а не плакать.
XIV
Новоселье справляли в октябре, в первое воскресенье.
Еще за неделю до праздника Анна Михайловна приготовила солод и в субботу сварила корчагу пива. Сусло вышло крепкое, темное и такое сладкое, хоть не клади сахара. Положили в сусло дрожжей, хмеля, изюму и, заткнув плотно кувшины, поставили пиво на печь – бродить. Из кооперации Анна Михайловна принесла селедок, рису, конфет, малосольного судака, круг колбасы, красивую, конусом, бутылочку рябиновки и три литровки мужицкой благодати – русской горькой. Ребятам показалось мало выпивки, они добыли еще портвейна и спотыкача. Потом зарезали барашка. Анна Михайловна вымыла белый, еще не успевший пожелтеть пол, постлала дерюжки в прихожей и в зале, в спальню половиков не хватило, протерла мелом стекла в горке и окнах, начистила кирпичом старый самовар, растворила пшеничное тесто, прибралась в новой избе и так уходилась-убегалась за день, прямо не помнила, как добралась до постели. А главная стряпня еще была впереди.
Раным-рано встала в это утро Анна Михайловна. Впотьмах торопливо пошла на кухню. Не привыкнув еще к новой избе, натолкнулась на табуретку, зашибла коленку и не сразу нашла дверь из спальни.
– Заблудишься… дворец и есть, – пробормотала она, потирая ногу, досадуя и усмехаясь.
Зажгла лампу, быстренько подоила корову, принесла дров и, приготовляясь к стряпне, впервые по-настоящему оценила просторную кухню, шкафчик, полочки, широкий, точно стол, шесток – все это не веданные ею маленькие бабьи удобства.
Можно было ворочать клюкой и ухватами, не боясь, что в окно заедешь, есть место, где квашню поставить и пироги развалить.
– Подсобишь, что ли… обещал? – шепотом побудила мать Алексея.
– А? Чего? – тревожно откликнулся он, поднимаясь на локти, таращась на свет и не понимая со сна.
– Говорю – подсобишь али не выспался?
– Подсоблю, – сипло ответил Алексей, приходя в себя.
– Может, и мне… дельце какое… найдется? – спросил Михаил, зевая и потягиваясь.
– Найдется, – добро сказала мать, – делов прорва, не знаю, как управиться… Вставай.
Втроем принялись они за стряпню. От Михаила, впрочем, помощь была невелика. Он больше работал языком и все пробовал, что подвертывалось под руку, – студень, изюм, сдобное тесто, даже от малосольного судака, который с вечера мокнул в воде, отрезал кусочек, пожевал и выплюнул.
– Одна соль… не соответствует своему названию.
Зато Алексей старался и, помалкивая, так быстро и круто замесил тесто для пирогов, что вызвал одобрение матери.
– Жена с тобой не пропадет.
– Вот еще… Я и не женюсь… больно нужно, – пробормотал сын.
– Сказывай… Не вижу я, кто по десять раз на день мимо окошек пробегает.
– Мало ли народу ходит по дороге! Не запретишь.
– А надо бы… В отца, даром что не косая, – проворчала мать. – Экое золото нашел!
– Отец тут ни при чем, – буркнул Алексей, отворачиваясь.
– Одна порода – и слава одна… Стыда у ней нет, чисто камень, а не человек. Перебралась к тетке, и горюшка мало.
– Не каждое горе со стороны видно, – не сдавался сын.
– А и таить-то нечего, один срам, – отрезала Анна Михайловна. – Другая бы на улицу не показалась. А ей хоть бы что, стриженой… Знай шляется под окошками.
– Правильно, правильно, Михайловна. Я ее вот как-нибудь по длинным ногам поленом угощу, – отозвался Михаил, ловко переводя разговор на шутку.
– Ты Настю угости. Она всю воду у нас в колодце вычерпала… тебя по вечерам поджидая, – оборонялся брат.
– Что же, Настя – девушка симпатичная, передовая. Я ее в комсомол рекомендовал. Поленом-то крестницу словно бы и неловко… не по уставу, – отшучивался Михаил. – Нет, ты послушай, Михайловна, – болтал он, – иду я третьего дня из конторы, подзапоздал, темно… Подхожу к дому и слышу – за углом шабаршит. Не иначе, думаю, Строчихина корова, шатунья, мох рогами ковыряет. Ну, постой, думаю, задам я тебе. Снимаю ремень, подкрадываюсь… II только собрался огреть, вдруг корова-то и заговорила человеческим голосом: «Ах, Леня, – говорит, – поедешь в город, на завод – и я с тобой. Страсть хочу инженером быть». А он, наш Леня, корову-то… извиняюсь, будущего инженера – чмок, чмок!..
– Это еще какой завод? – Анна Михайловна нахмурилась, пытливо взглядывая исподлобья на Алексея.
– Не могу знать, – ответил Михаил за брата. – Должно быть, машиностроительный, Алексей Алексеевич спит и видит себя механиком.
– Никуда я вас не отпущу, – сурово сказала мать, – и не выдумывайте.
– И не отпускай Лешку, обязательно не отпускай, – со смехом подхватил Михаил. – Уедет – копейки не пришлет. Всю выручку на Лизочку потратит. Как же, элеватор, прямо сказать – небоскреб. Которая на платье и тремя метрами обойдется, а ей все пять да пять… Я бы запятился от такого крепдешина. Я, например, как кончу летную школу, первое свое жалованье…
– На велосипед, – подсказал брат.
– Нет, иду на почту и посылаю Михайловне…
– Баян в подарок.
– Ну, будет вам, будет, замололи мельницы, – сказала, посмеиваясь, мать. Раскрасневшаяся от огня, она легко подняла на шесток чугун с водой, прихватила тряпкой кринку с убежавшим молоком и заодно посмотрела румянившуюся на сковороде баранину. – Скоро ли картошку начистишь, летун еропланный?
– Сию минуточку. Кстати, Михайловна, – вкрадчиво сказал Михаил, не спуская глаз с печи, – пивко-то надо бы исследовать… не скислось ли. Разрешите навести пробу опытному лаборанту. А с чем у нас сегодня лапша будет?
Анна Михайловна уронила кочергу.
– Ай, батюшки! Про лапшу-то я и забыла. Пес ее задери!.. Ведь с курицей хотела.
– Которой прикажете свернуть головку? – живо спросил Михаил, хозяйничая на печи с кувшином. – Пивцо в самый аккурат, злое, в нос бросается. Чистая брага… пробуйте, пока не заткнул… Хохлушку или Чернуху резать? Можно обеих.
– Бесхвостую, ее самую, Чернуху, – распорядилась мать, – корм жрет, а яиц от нее не видывали… Да как опалишь курицу, сбегай к Никодиму, – наказывала она, расторопно управляясь разом с несколькими делами, – стол попроси, скамей парочку, посуды там… Скажи Никодимушке, чтоб приходил ужо непременно, и зятя зови… Беда, сгорят у меня пироги, не знаю, как печет белое новая печка. Дров, кажись, чуть подбросила, а жару хоть отбавляй. Почернеет в уголь баранина… И тесто не поднимается, фу ты пропасть!
Но все шло хорошо, все сегодня удавалось Анне Михайловне.
Она ворчала и волновалась, а баранина румянилась себе да румянилась, плавая на сковороде в жиру и соку, и тесто для пирогов поднялось вовремя белой шапкой над квашней, пышное, сдобное, и студень был крепкий, хоть ремни из него режь, и пиво чуть не вышибало из кувшинов.
«Никогда у меня еще не бывало такого праздника. Только бы перед гостями не осрамиться», – думала Анна Михайловна, летая по кухне в приятных хлопотах.
Шаркая обсоюженными валенками, в избу влез Ваня Яблоков, с порога вобрал дрогнувшими ноздрями аппетитные запахи и, не снимая шапки, только поправив ее, громко и весело заговорил:
– Иду мимо, гляжу, дым из трубы валит, прямо как на фабрике… и огонь во все окна полыхает. Уж не пожар ли, думаю, в новом дому, дай проведаю, зайду… Здравствуйте! Жару тебе в печь, Анна Михайловна!
– Спасибо, Ваня, – ласково отозвалась Анна Михайловна и, понимая, что означает это раннее посещение, оторвалась на минуту от печки и поднесла стопочку. – Выкушай.
Яблоков изобразил на лице полагающееся в таких случаях изумление:
– Что ты, Михайловна, да разве я за этим!.. Я так… вижу, дым больно валит, дай, думаю…
Но рука его, не слушая хозяина, уже приняла и бережно держала стопку. Яблоков покосился на стопку, точно удивляясь, откуда она взялась, хотел еще что-то сказать, но стопка сама опрокинулась в рот. Ваня сладко зажмурился, проглотил и, уже закусывая селедкой и горячим картофелем, подсунутым Анной Михайловной, запоздало прохрипел:
– С праздником вас, с новым домом!
Анна Михайловна поднесла еще. Не отказываясь больше, Яблоков тотчас повторил и полез за кисетом.
– В которых колхозах праздничек, а у нас завсегда будни, – оживленно заговорил он, опускаясь у порога и подворачивая под себя колено. – Гнешь-ломишь хребтину за лето, и хоть бы тебе рюмку председатель когда поднес. Везде честь по чести День урожая справляют, а наш отмитинговал, а про остальное и не заикается.
– Бережливый человек, общественной копейки на баловство не изведет, – заметила Анна Михайловна.
– Да какое же это баловство? – обиделся Ваня. – Поработали хорошо, и отдохнуть надо в удовольствие. Прежде как? Год стараешься на хозяина, с ног валишься, а прикатишь из Питера – первым делом, стало быть…
Анна Михайловна оборвала:
– Брось ты про свой Питер. Сто раз слышала. Это ты вон Леньке болтай, он старого не знает, может, и поверит. А я-то сама встречала питерщика… не приведи господь!
– Нет, я, брат, та-ак жил… Ну, взять и нонешное время. Намедни иду Кривцом… Батюшки мои, столы вынесены на улицу… Чего только нет! – Ваня вскочил на ноги, потер руки и захлебнулся слюной. – Два барана зажарены, лопни мои глаза, так целехонькие на противнях и красуются. Гусятина с яблоками, пироги – что твои заслоны… Мед прямо ложками хлебают из бадейки. Вина – хоть облейся. Я было считать бутылки… куда там, сбился со счету!
– А не попробовал? – спросил Алексей, рассмеявшись.
– Отказывался… Зазвали… усадили… пришлось попробовать, – ответил Яблоков, важно приосанясь.
И, не дожидаясь вопросов, принялся длинно, с наслаждением рассказывать, как наложили ему гусятины полную тарелку и баранины, сало с нее так и течет, что вода, как завели бабы патефон, песни хором пели, как пирога он даже съесть не мог, два куска одолел, а третий в карман положил.
– Так нагостился, так нагостился… Н-ну, скажу тебе – чистый Питер, даже лучше Питера, – заключил он, восхищенно качая головой и причмокивая. – Не помню, как домой добрался… Прихожу, кричу ребятам: «Гостинца вам принес, пострелята!» Хвать за карман, а там нет ничего… пирога нет. Должно, потерял дорогой.
– А может, съел? – пошутил Алексей.
– Может, и съел, – серьезно сказал Яблоков. – Больно хорош был пирог-то… во рту тает… Не помню… может, съел.
Ваня помолчал, старательно обсосал хвост и голову селедки.
– Вся-то сладость жизни – выпить да закусить, – глубокомысленно промолвил он и вздохнул.
– Заработай – и выпьешь, – сказала Анна Михайловна, начиная сердиться. – Пить мастер, а на деле тебя нет… Да в работе самая сладость и есть!
– Поди-ко. Небось ты дрова пилить гостей не заставишь, а за стол посадишь.
– Тьфу! Да ты что же думаешь, они из-за рюмки придут ко мне? Радость со мной хотят разделить.
– За столом и мне радостно.
– Ой, не вводи меня сегодня в грех, Яблоков, – грозно сказала Анна Михайловна. – Язык у тебя болтает, а чего – сам не знает.
– Знать-то он зна-а-ет, – протянул Ваня, ерепенясь, но, взглянув на Анну Михайловну, смутился, забормотал: – Порченный я Питером… Чего кричишь? Я все понимаю. Мне бы вот только… Ты уж того… налей еще стопочку… последнюю. – Он нахально улыбнулся. – Селедка-то у тебя больно хороша, мурманская… посолился – пить хочется.
Алексей молча пододвинул Яблокову початую бутылку.
XV
Гости собрались к обеду. Пришли Николай Семенов, Петр Елисеев и Костя Шаров с женами, приехали дальние родственники из-за Чернолесья, прихромал Никодим с зятем.
Все были разодеты по-праздничному, молчаливо-торжественные, немножко стесненные одеждой, неловкие, как это всегда бывает перед началом большого, хорошего пира. Костя Шаров надушился, и Катерина, сердито-счастливая, шумя шелковым платьем, все отодвигалась от него, говоря, что ей прямо дышать нечем. Николай Семенов пообстриг свои рыжие лохмы, стянул шею белым твердым воротничком, нацепил галстук и с непривычки не мог ворочать головой, держал ее неестественно высоко и прямо, точно конь из засупоненного хомута.
Пока мужики, сидя, по обычаю, на крыльце, курили крепкую, запашистую махорку и дорогие, праздничные папиросы, изредка степенно перекидываясь словечком о том о сем, бабы, засучив рукава кофт и повязавшись полотенцами и фартуками, взялись подсоблять Анне Михайловне. Живо сдвинули они столы в зале, накрыв их новой, пахучей клеенкой, расставили угощения. Для всего на столах не хватило места, пришлось кое-что отнести обратно на кухню, про запас.
На почетном, самом видном месте красовались любимые всеми селедки с картофелем, луком, огурцами, в масле и уксусе, по-городскому – с яйцами, в сметане, кому как нравится. Дрожал и просился в рот, чтобы там растаять, студень с хреном, прозрачный и холодный, точно лед. Розовое мясо бараньих ножек, мелко изрубленное, точно вмерзло в эти ледяные глыбы, возвышавшиеся на тарелках. Хороша была дрочена. Ее только что вынули из печи, дрочена – желтая, как масло, ноздреватая, – пылая румяным жаром, дышала и шевелилась на противне. Маринованные грибы тоже были по-своему замечательные. Красные, крохотные, словно пуговицы, рыжики утонули в сметане. Побелевшие, твердые шляпки подосиновиков, толстокоренных подберезовиков плавали поверху вместе с голубоватыми нежными груздями, ядреными волнушками, серянками и прочей лесной дичью на одной ноге. Отдельно было выставлено блюдо с сиреневыми, неказистыми на вид, но очень приятными на вкус маслятами. А там шли тарелки с колбасой, яблоками, домашним печеньем, малосольными огурцами, пропахшими укропом и листьями черной смородины, блюдо со свежеиспеченным ржаным и пшеничным хлебом. В промежутках между закусками виднелись бутылки русской горькой, словно пустые, – такая чистая, как слеза, была эта мужицкая благодать, пузатые графины с пенно-коричневым густым пивом, рябиновка, спотыкач и портвейн.
А на кухне еще дожидались своей очереди свежие щи со свининой, лапша с курятиной, жаркое, сдобники в масле, толченом сахаре и варенье. Но чудом стряпни, пожалуй, все-таки были пироги, золотистые, рассыпчатые и такие пышные, что Анна Михайловна, пригласив гостей за столы и покосившись на горы ломтей, дымившихся горячей, ароматной начинкой, даже засовестилась.
– Не обессудьте, что есть… Кушайте, – по обычаю сказала она и невольно рассмеялась: так эти старые, подвернувшиеся на язык слова не подходили к угощению, которое она предлагала.
– Э-э, завалила столы добром, да еще извиняется!
– Пироги-то держите… улетят.
– Ну и дрочена… да она у тебя, Михайловна, живая.
– Я к студню поближе. Студень с хреном любота, – шутили, переговариваясь, гости, рассаживаясь и облюбовывая каждый то, что ему было по вкусу.
– Ну что ж, – сказал Семенов, поднимая стопку и чокаясь с Анной Михайловной, – выпьем за новый дом, чтоб он дольше стоял, за его хозяев, чтоб они сто лет прожили.
– С ручательством… Любота!
– Замочим половицы, чтобы не рассохлись…
– Косяки не корежило!
– Матица не гнулась!
– Печь не дымила!
– Выпьем, чтоб работалось сладко, жилось гладко… сыновья женились, внучата родились, а ты, Михайловна, глядя на них, радовалась.
Звон не смолкал над столами.
Смеясь, чокаясь, все желали наперебой Анне Михайловне самого хорошего, что только можно было пожелать в такой час.
Держась за краешек стола, она кланялась гостям, благодарила, рюмка прыгала у нее в руке, и рябиновка тягучими каплями падала на клеенку.
Вот и исполнилось то, о чем мечтала всю жизнь Анна Михайловна. Она выстроила новую избу и гостей позвала, и есть чем угостить их. Ей было так радостно, приятно, даже больно, что, кажется, уж ничего нельзя больше ждать, а она ждала, чего-то искала. Она взглянула на сыновей и нашла то, что искала.
– Спасибо, – сказала Анна Михайловна растроганно, – за хорошие слова спасибо. Нет, выпьем спервоначала за добрых людей… за него, отца нашего… за колхозную жизнь… Человеком я стала… и ребята у меня… Мишка, не сметь зубы скалить! Про сурьезное говорю. Через колхозы все это. Живешь – и не веришь. Ну вот… от души… я так сча… и выпьем! – Она запуталась в словах, заплакала, но все поняли ее, закричали, захлопали в ладоши, еще раз чокнулись и выпили.
Анна Михайловна пригубила из рюмки, поуспокоилась и стала потчевать гостей.
Пир удался на славу. Гости ели да похваливали стряпуху. На свадьбе ей готовить, мастерице. Всего, всего довольно, разве что птичьего молока не хватает, право. И не угощай, не набивайся – руки свои, что хотят, то и берут. Колхозом работаем, колхозом и за столом сидим, управимся, не беспокойся. Сама-то ешь, не бегай, привязать ее к табуретке, хлопотунью. А пивка подбавь, это ты правильно сообразила, здорово оно тебе удалось. С такого пива запляшешь живо!
Каждый нашел свое любимое кушанье. Петр Елисеев, опрокинув вторую стопку и отведав дрочены, подвинул противень к себе поближе. Дарья, Катерина и Ольга, раскрасневшиеся от спотыкача и портвейна, все пробовали и не могли напробоваться пирогов. Никодим говорил зятю, что такого студня он еще в жизни не едал, глаза его слезились от крепкого, забористого хрена. Николай Семенов скоро расстегнул твердый, давивший горло воротничок, развязал галстук, помотал облегченно головой и на пару с Костей Шаровым налег на грибы и селедку. Михаил, болтая с гостями, тянул стакан за стаканом пиво, заедая его яблоками. Алексей, начав с селедки и колбасы, аккуратно дошел до пирога, ел и помалкивал. И только одна Анна Михайловна, как все хозяйки на пиру, почти ни до чего не дотрагивалась. Как в прежние годы, когда она кормила ребят картошкой и была сыта тем, что глядела на сыновей, так сейчас она забыла про себя, потчуя гостей и радуясь их аппетиту.
Хороша была еда и выпивка, но не в них заключалось самое главное.
Самое важное было в разговорах, задушевных, возникших за столом как-то незаметно, точно раздумье на отдыхе.
– Смотрю я вокруг и глазам своим не верю. Что с народом сделалось! – говорил Никодим, зарядив нос табаком и блаженно громко чихая. – Душевный народ стал, благородный, уважительный. Любота!.. С чего бы это? От богатства, скажешь? Да прежде богатые-то были самые подлые люди. Все на моей памяти… А теперь… Радостно, приятно, а понять не могу.
– И понимать нечего – колхоз, – заметила Дарья.
– Колхоз, он землю переделывает, не душу.
– Верно! Душа, брат, сама по себе…
– Бытие определяет сознание, – звонко вставил Михаил, насмешливо поглядывая на старого Никодима.
– Это что за бытие? – рассердился тот.
– Спроси у Карла Маркса.
– Марксова Карла знаю. В читальне портрет висит. На меня похож, с бородой… Что за бытие, спрашиваю?
– А вот какое бытие, – сказал Николай Семенов, задумчиво разглядывая груздь на вилке. – Был намедни такой случай. Поднимал один тракторист зябь. Поле большое, колхозное, время горячее. Выехал утром, пахал до вечера… Ждет смены, а ее нет. Забыли трактористу сменщика прислать. – Семенов мельком взглянул на Алексея, тот покраснел и торопливо потянулся через весь стол за печеньем. – Ему бы перекусить пора, отдохнуть, а трактор не пускает, зябь колхозная не пускает – словом, долг, совесть не позволяют на сегодняшний день… Так он, этот самый тракторист, и отгрохал три смены без передыху и еды… Вот тебе бытие и сознание. Ясно?
– Что-то знаком мне сей тракторист. – Михаил подмигнул.
– Молчи, – тихо сказал ему Семенов.
– А про казначея Павла слыхали, из «Нового пути»? – спросила Ольга Елисеева. – Какая с ним история недавно приключилась. Шел он по бригадам авансы раздавать. Лесом шел и прельстился на грибы. Брал, брал грибы в шапку да шкатулку с деньгами где-то и потерял… И что же вы скажете? Нашла Александра Козлова. Бруснику брала и нашла. Отдала… Пять тыщ лежало в шкатулке.
– А я все еще мучаюсь, – признался Петр, захмелев. – Старым мучаюсь. Буянка своего видеть не могу, так во мне все и переворачивается.
– Полно, Петр Васильевич, поклепы на себя напрасные возводить, – сказала Анна Михайловна. – Кушай-ко… пирожка отведай, колбаски.







