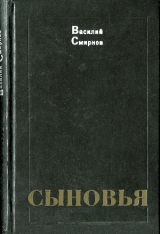
Текст книги "Сыновья"
Автор книги: Василий Смирнов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 18 страниц)
– По горло сыт. Не-ет, брат, душа-то у нас еще черная… Ну, на хороший конец, серенькая. Далеко-о до светлой души!.. Но будет она. Верю. Не зря воевали.
– Воевать нам еще придется, – значительно сказал Костя Шаров, закуривая папиросу.
И все мужики за столом, как-то сразу протрезвев, согласно кивнули Косте и сурово нахмурились.
– Не миновать.
– Мир-то надвое расколот.
– Фашизма башку подняла.
– Неужто правда, что про фашистов пишут? – спросила Анна Михайловна.
– Врать незачем.
– Да это не люди, звери какие-то!
– Именно, – подтвердил Николай. – Звери, которые всех сожрать хотят. А нас в первую очередь.
– Подавятся!
Петр ударил по столу кулаком так, что подпрыгнули и загремели тарелки и вилки.
– Стеной встанем за свою жизнь. Вот!
– Не приведи, господь, войну… – вздохнула Ольга, отодвигая подальше от мужа стопку и вино.
Анна Михайловна промолчала. Как всегда, ей вспомнился муж, и стало тяжело и грустно. Украдкой она взглянула на сыновей. Неужели будет время, когда и их придется ей провожать? Проводит, да и не встретит никогда…
– Кушайте, гости дорогие, кушайте, – принялась она снова угощать, отгоняя тревогу, вдруг охватившую ее.
Она была рада, что разговор вскоре перешел на колхозные дела. Толковали о льне – своем богатстве.
– Слыхал я, льны наши брагинские имеют историю давнюю, – сказал, между прочим, Николай Семенов. – Любопытная история, вот послушайте… Сказывают старожилы, в восьмидесятых годах заимел эти семена мужик один из деревни Морганово Крюковской волости. Да как его звали, постой?.. Иван, нет. Тимофей, вроде Иванович, по фамилии Смирнов. Вот как его звали, точно. Смирный был мужик, аккурат по своей фамилии. Сказывают одни, что семена льна Тимофею принесла жена в приданое, до замужества она, слышь, батрачивала в Твери, у барина какого-то льном раздобылась. Другие спорят – мол, Смирнов сам привез льносемена из Питера. Отходник был Смирнов-то, по кузнечному делу мастер… Так, нет ли, раздобылся наш Тимофей новым льном и посеял. И что же вы думаете? Уродился лен в первый год редкий-прередкий, прямо смотреть срамота.
– Бывает, – согласилась Анна Михайловна, – с землей не породнился, чужаком рос.
– Ну, Смирнов этот, стало быть, разобиделся, хотел все семена на масло сбить, да сосед отговорил, Лука Фадеев. Дошлый был человек, жадный, проныра, попросту сказать, по-нынешнему – кулак. Подметил он, что смирновский лен хоть и редок, да высок, стеблем тонок и в волокне серебристого отлива, нежен, прямо девичьи косы. Откупил он у Тимофея все до единого зернышка и такой лен на другой год вырастил – барышники на базаре прямо с руками волокно рвали. Он цену ломит, а им нипочем, давай – и все тут.
– Промазал твой Тимофей, дурак, дурак! – воскликнул Петр Елисеев, с интересом следя за рассказом.
– Дело ясное. Поахал Смирнов, да поздно. Лука горсти семян не дал, как уж он ни кланялся. Затвердил Лука одно: примета, слышь, есть, – разживутся семенами соседи – переродится лен. На сегодняшний день сказать – боялся конкуренции… Десять лет охранял льняное серебро Фадеев, разбогател страсть. Только одни раз сдал, заговорил ему зубы весельчак Ефим Селезнев, что в Брагине жил, может, помните?
– Это который гармошки делал?
– Он самый. Батрачил Ефим у Фадеева, погорел, и уж как он своего хозяина обломал – не знаю, только отвалил ему Лука два пуда и клятву взял: даже отцу родному не давать льна на развод. Побожился Ефим, а как снял первый урожай – роздал семена в Брагине по хозяйствам. Сейте, говорит, братцы, назло Фадееву. Уж больно он, жила, давил меня в батраках. Сейте больше – может, счастье нам привалит… Вот так и дошел до нас брагинский лен, – закончил, усмехаясь, Николай и поднял стопку. – Выпьем, что ли, за лен наш счастливый?
– Воистину счастливый, – откликнулась Анна Михайловна, чокаясь. – И еще счастливей будет, коли мы по клеверищу станем сеять. Лен и клевер – что муж и жена, завсегда вместе.
– Ноне это не обязательно, – рассмеялась Катерина, косясь на Костю. – Вот Игнаша со своей женой разбежался.
– Того, знать, стоила… Лен – растение сурьезное. Трудов не пожалей – лен тебя отблагодарит. Я десять центнеров волокна берусь с гектара дать.
– Высоконько хватила, Михайловна!
– Десять – сбесят.
– Мирись скорей на пять!
– Десять, – не уступала Анна Михайловна. – Помяните мое слово, дам десять. Я тебе, Коля, скажу, в чем секрет: в густоте посева и чтобы ленок выстоял. В Бельгии, чу, сетки такие железные употребляют, чтобы не полег лен. Ну, а мы жерди приспособим, веревки да колышки. Я все обдумала. Вот еще этого супе… супостату раздобыть.
– Суперфосфату! – захохотал Михаил. – Малограмотный язык у тебя, мамка.
– Верно, малограмотная я, – призналась Анна Михайловна. – Поучиться бы мне немножко.
– За чем дело стало? – весело сказал Семенов. – Учись. Одобряю. Прикрепим к тебе учительшу. Овладевай наукой. Ребята тоже помогут.
– Подсобим, – вставил Алексей свое первое слово в застольную беседу.
– Обучим, как по алгебре пироги печь, – рассмеялся опять Михаил.
– Цыц! – грозно прикрикнула на него мать. – Я не шучу… Чем зубы над матерью скалить, лучше бы сыграл на гармошке.
– Любота! «Барыню»!.. На одной ноге спляшу!
Пир был в самом разгаре. От выпитой наливки у Анны Михайловны немного шумело в голове. Все были веселы, но не пьяны, говорили громче обычного. Анна Михайловна зажгла лампу-«молнию», и от ее ровного яркого света заиграли самоцветами стаканы с крепким чаем, рябиновка и спотыкач, графин с пивом. На душе стало еще легче, веселее. Не хватало только музыки.
– Потрудись, Миша, на общую пользу, – попросила Ольга.
Михаил живо вылез из-за стола, взял баян и, склонив кудрявую голову к мехам, точно прислушиваясь, как вздыхает, плачет и смеется гармонь, рассыпал плясовую.
– Выходи, у кого ножка легкая!
– Была легкая, да укатали Сивку крутые горки…
– Топни, топни в новой избе, – подзадоривал Петр Елисеев Анну Михайловну. – Не бойся, пол не проломишь… Катерина, Костя, молодожены, а вы что же?
Как всегда, первым плясать никто не решался, стеснялись. Даже Никодим, нахваставшись, прилип к табуретке и лишь притопывал здоровой ногой под столом. Но пляска была нужна, это чувствовали и желали все, и Николай Семенов, бросив недокуренную папиросу, поднялся из-за стола.
– Разучились? – спросил он насмешливо. – Могу напомнить маленько… Ре-же, Миша!
Высокий и ладный, прошел он к гармонисту, постоял, словно подумал, и, взмахнув руками, как крыльями, неслышно полетел по избе.
– Bo-на! Знай нашего председателя… везде передом! – восхищенно прохрипел Никодим, ерзая на табуретке.
Николай подлетел к Анне Михайловне и, не спуская с нее светлых смеющихся глаз, топнул, закинул руки за спину и отступил зазывной чечеткой.
– Ну, держись!
Анна Михайловна сорвала с головы платок, для чего-то вытерла губы, махнула платком и пошла, как умела, по кругу.
– Покажь, покажь ему!
– Не ударь лицом в грязь, Михайловна!
Николай пустился вприсядку.
Еще не кончила плясать первая пара, как грохнул табуреткой Никодим. Прибаутничая, он завертелся на больной ноге, выделывая здоровой замысловатые коленца.
– Бабоньки, молодочки, неужто старику поддадитеся? – закричал он.
– Как бы не так, – сказала Катерина и, шумя шелковой юбкой, смело вошла в круг.
Дарья и Ольга снисходительно рассмеялись. Нет уж, не ей плясать, мужиковатой, деревянной, как ступа, молодухе.
Никодим захромал к ней, игриво обнял за широкую талию. Катерина отвела его руку, не спеша оправила платье и ударила в ладоши. Все увидели, как затрепетали ее угловатые, вдруг ставшие мягко-круглыми плечи. Точно отделившись от пола, завертелось упругое, сильное тело Катерины.
– Царь-баба… ух! – тихо выругался Петр Елисеев и переступил занывшими ногами.
Уже давно Никодим отступил к стене, затихли ошеломленные гости, давно Костя Шаров ревниво следил за женой. Михаил перебрал все плясовые мотивы, однако пальцы его никак не успевали за темпом танца. Но вот Катерина выпрямилась, точно скинула ношу, и, замедляя движения в такт музыке, бережно понесла по кругу свое полное, сытое счастьем тело. И сразу, будто застыдившись, убежала за стол, под восторженные хлопки и крики «браво». Она подсела к мужу, а тот, сердясь на что-то, отодвинулся.
– Полно, глупый, – смеясь, сказала ему Катерина, обмахиваясь платком, глубоко и часто дыша.
Потом пели хором песни, старинные, которые Анна Михайловна очень любила.
Никодим, пригорюнившись, сипло затянул:
Бережочек зыблется,
Да песочек сыплется,
Ледочек ломится,
Добры коне тонут,
Молодцы томятся:
– Ой ты, боже, боже!
Сотворил ты, боже,
Да небо и землю,
Сотвори ты, боже,
Весновую службу.
Гости подхватили широкую, как Волга, заунывную бурлацкую песню:
Не давай ты, боже,
Зимовые службы.
Зимовая служба —
Молодцам кручинно
Да сердцу надсадно…
Ой, ты дай же, боже,
Весновую службу.
Весновая служба —
Молодцам веселье,
Сердцу утеха…
Анна Михайловна тихонько подтягивала и видела, как сыновья непонимающе таращатся на гостей. Михаил пробовал вторить на басах, но вскоре бросил. «Горя не хлебнули, оттого и песня им чужая… И хорошо это, хорошо», – думала мать. А песня все лилась и лилась, печаль ее сменилась удалью. Никодим, вскочив, размахивал вилкой, и, послушные ее властным, стремительным взлетам, гости рванули:
И возьмемте, братцы,
Яровы весельца,
А сядемте, братцы,
В ветляны стружочки
Да грянемте, братцы,
Ой, да вниз по Волге!
XVI
Долгое время Анне Михайловне было как-то не по себе в новом доме. Слов нет, изба вышла светлая, просторная, есть где разойтись веником и мокрой тряпкой. Спина уставала у Анны Михайловны, когда приходилось подметать пол. Но все же необжитой дом казался ей неприветливым и холодным.
– Как в сарае, прости господи, – огорченно говорила она. – Дров не напасешь… замерзнем зимой.
Купили и поставили круглую железную печь, обложили избу снаружи соломой и мохом – заметно потеплело, но дом от того не стал приветливее. Главное – он был пустынен. Домашний скарб Анны Михайловны, наполнявший старую избушку и всем своим незатейливым, поношенным видом как-то соответствовавший ей, здесь, на просторе, выглядел убого.
В девять окон врывался свет в избу. И сразу стало видно, что комод облысел и стекла в горке выбиты, что кровать – деревянная и с клопиными неотмываемыми пятнами, что стол исскоблен до ям и один-одинешенек на горницу, спальню и кухню, зеркало мало, засижено мухами и кособочит человека. Не хватало скамей, плошек с цветами, не было занавесок на окна, пикейного покрывала на кровать и многого другого. В довершение всего, как ни остерегалась Анна Михайловна, занесла из старой избы тараканов.
– Видно, не нам в хороших домах жить. Кишка тонка, – жаловалась она сыновьям. – Послушалась я вас, старая дура, выстроила амбарище, а теперь хоть плачь. С улицы посмотреть – будто и путные люди живут, а взойдешь… срам.
– Не все сразу, мама, – рассудительно отвечал Алексей. – Наживем добра.
– Скорей умрешь, чем наживешь.
– А по мне и так хорошо, – смеялся Михаил, наигрывая на баяне. – Был бы чаишко с молочишком… да с потолка не капало.
Мать пригрозила:
– Вот продам твою музыку и куплю кровать с серебряными шишками. Небось запоешь тогда у меня.
– Повешусь… Ах, Михайловна, ничего ты не понимаешь! Да мой баян, можно сказать, весь твой дворец украшает. Как раздвину мехи под окошком – и цветов не надо.
Утешала Анну Михайловну работа в колхозе. Много и весело трудилась она на людях, бегала к учительнице, к агроному, пристрастилась ко льну и накопила немалый опыт, как надо растить его и обхаживать. На общих собраниях она, обычно неразговорчивая, спорила не раз с бригадирами и полеводом, как лучше вести льноводство. Подчас ее слушали с усмешкой.
– В агрономы метишь?
– А хотя бы и в агрономы, – отвечала, сердясь, Анна Михайловна. – Сталин про нас что сказал? Нынче женщине дорога широкая… Чем зубы скалить – лучше торфу заготовили бы побольше.
И когда в колхозе, вопреки ее советам и поддержке Семенова, вопреки принятым решениям, делали не так, как ей хотелось, а по старинке, она часто думала: «Ах, взять бы мне отдельный участочек да обиходить его по всем правилам, как агроном говорит… Вдвое уродилось бы. Ведь лен-то ласку любит».
Когда началось в колхозах стахановское движение, Анна Михайловна осуществила свою думку. Ей дали отдельный участок – два гектара. Она подговорила вместе работать молодуху Катерину Шарову. Вдвоем, по снегу, гремя тяжелыми ведрами, они рассеяли фосфоритную муку. Потом талая земля приняла суперфосфат, сильвинит и калийную соль.
Участок был хотя и после клевера, но довольно низкий, сырой.
С завистью смотрела Анна Михайловна, как сеяли лен другие звенья. А к ее земле и не подступишься – грязь по колено.
– Беда, запаздываем, Катя, – беспокоилась Анна Михайловна. – Уродится мышиный хвост – засмеют нас… Может, от удобрения земля-то разжижела?
Позвали агронома, молодого толкового парня.
– Ничего, догонит ваш лен, увидите, – успокоил он.
Землю они приготовили как пух. И посеяли. Стал лен расти не по дням, а по часам. Действительно, он не только догнал, но и перегнал посевы на соседних участках. Без устали ухаживала Анна Михайловна со своей помощницей за льном.
Весна в этот год выдалась без дождей, сухая. Пождала, пождала Анна Михайловна, да и приволокла с Катериной на участок пожарную машину. Алексей и Михаил, если бывали свободны, таскали им с речки воду ушатами, а они поливали лен.
Нелегок был этот труд. Даже по вечерам разгоряченная, потрескавшаяся земля жгла подошвы босых ног, солнце нещадно, как в полдень, палило головы и плечи. Как бы невзначай сыновья обливали и себя, и мать, и Катерину из пожарного рукава. Приходило облегчение. Радугой падала благодатная струя из брандспойта.
– Пей, ленок… Пей, не жалей! Уродись высокий да волокнистый, – приговаривала Анна Михайловна.
И вырос лен на диво – в метр четырнадцать сантиметров длиной. Могучей, зеленой стеной, почти по плечи Анне Михайловне, высился он.
– Такой у Стуковой лен: умрешь – не забудешь, – заговорили в колхозе.
Из соседних деревень приходили бабы, смотрели и дивились:
– Чудо, а не лен… И как вас угораздило такую махину вырастить?
Алексей прикатил в поле с новой теребилкой ВНИИЛ-5, огненно-голубой, как сказочная жар-птица. Она летела за трактором по полю, и где крыло ее касалось льна, там проходила широкая улица. Алексей поднимал лохматую, пыльную голову от руля, оборачивался и, стараясь перекричать грохот трактора, спрашивал льнотеребильщика:
– Что там?.. Гляди!
– На большой палец… с присыпочкой! – орал тот и смеялся над колхозницами, которые не успевали вязать снопы.
Видела Анна Михайловна, как девушки посмелее нарочно поджидали трактор.
– Как жизнь, Леня? – кричали они, когда трактор был рядом.
Обожженный дочерна солнцем, Алексей сверкал в ответ белыми зубами:
– Лучше всех.
– Обожди немножко, – упрашивали его, – попридержи конька, покури… Невесту тебе сыскали!
Трактор удалялся, и новая улица распахивалась во льне перед смолкшими, обиженными девушками.
– Эх, суматошные, – говорил им Николай Семенов, посмеиваясь, – еще нет на свете такого человека, для которого бы Алексей Алексеевич остановил машину. Намедни понаехало из района начальство, ждут его на конце загона, а он ка-ак поддаст газу… только его и видели… Пришлось директору эмтеэс бежать да рукой знак подавать. И то не сразу послушался… Ну, что стали? Думаете, лен-то на сегодняшний день сам свяжется?
Приятно было Анне Михайловне слушать такие речи.
«Нет, не уступит Леша брату, даром что некрасив, – думала она. – Возьмет свое в жизни… Да. Оба возьмут».
Хорошо работала теребилка. Однако льна в колхозе было видимо-невидимо, и, как всегда, он поспел сразу. Поэтому машине подсобляли вручную. Когда Анна Михайловна теребила свой лен, наклоняться ей почти не приходилось.
Славой и гордостью в то лето была Катерина Шарова. Районная газета писала о ней как о героине труда. В соревновании Катерина победила даже Анну Михайловну. Молодая, красивая, она звонче всех пела песни. Любо было Анне Михайловне глядеть на нее, вспоминая свою молодость. Казалось, Катерина не теребила лен, а просто перебирала его своими тонкими смуглыми пальцами. И, словно покоренные ее лаской, стебли льна ложились в ее исцарапанные руки, и росли, росли позади Катерины кудрявые снопы.
– Возьми в муженьки, ласковая. С тобой не пропадешь, – шутили мужики.
– Коли отставку своему мухомору дашь, меня не забудь. Я нонче пятьсот трудодней отхвачу. Мы с тобой зараз пара.
– Ладно… не забуду, – смеялась Катерина.
И вдруг она сразу сдала, вдвое уменьшив выработку. Анна Михайловна глазам своим не поверила.
– Да здорова ли ты, голубушка?
Катерина заплакала и убежала с поля.
– Задразнили… Житья не стало… хоть вешайся, – со слезами рассказывала она в чулане Анне Михайловне.
– Да о чем ты? Что стряслось? – не поняла та вначале.
– Будто я ударничаю, чтобы сыновьям твоим нравиться… и вообще мужчинам. Ты, говорят, у нас безотказная. Вваливай, коли тебе… одного мало. А сам, дурак, ревнует, сердится… Сегодня побил и грозит: «Зарежу, если ударничать будешь».
– Кто… – запнулась, побелев, Анна Михайловна. – Кто пакость такую разводит?
– Известно… Строчиха да Куприяниха. Их завидки берут. Как же, Катерина Шарова по пятнадцать соток теребит, а они по три… Я говорила им: «Не чешите языки, так сработаете с мое. Запрету никому нет». – Катерина подняла мокрые, злые глаза. – Мне на них наплевать, да ведь есть люди, которые и верят. Вчера сама слышала, как Никодим с девками разговаривал. «Будьте здоровы, говорит, по два жениха каждой». Его спрашивают: почему по два? «А с одним – в загс, с другим – так-с». Стыдить его начали, а он рассердился, да и брякнул: «Мне – стыдно, Катерине Шаровой – хоть бы что…» Каково слушать-то? Уж коли такой старый человек балаболкам верит, молодые и подавно… Да что же это за жизнь?!
– Ну, погоди, доберусь… вырву змеиные языки, – успокаивала Катерину Анна Михайловна. – Полно, полно… Бить? А ты – развод ему.
Катерина потупилась.
– Жалко…
– Ах, жалко? – рассердилась Анна Михайловна. – Сдачи дай. Тоже жалко? Мне – ни капельки… Ох, баба, ростом большая, а постоять за себя силенок нет, – усмехнулась она, лаская Катерину.
В тот же вечер по требованию Анны Михайловны созвали общее собрание членов колхоза. Анна Михайловна, рассказав, в чем дело, настаивала на исключении Прасковьи и Авдотьи из колхоза, чтобы другим неповадно било травить честных людей.
Заголосили бабы, повинились, что их зависть одолела. При всем народе дали слово вести себя как подобает колхозницам. Только тогда Анна Михайловна сняла свое предложение. Сплетниц на первый раз простили, ограничившись строгим общественным порицанием.
После собрания Анна Михайловна зазвала к себе в избу Костю Шарова и отчитала наедине.
– Как ты смеешь на жену руку поднимать? – гневно кричала она, загоняя оробевшего Костю в угол. – Слов нет, хороша твоя Катерина, да разве другие-то хуже? Ты думаешь, у моих сыновей невест нет? Думаешь, слепая я, не вижу, с кем они хороводятся? Нравится мне, не нравится, а они свое дело делают… не запретишь.
Костя по стене, боком, пробирался к двери, злой и смущенный.
– Полегче командуй, Михайловна, полегче… Вот нашла сынка… Пусти, чего ты? – жалко и обидчиво ворчал он, обжигаясь цигаркой, отмахиваясь от дыма и от наседавшей на него Анны Михайловны. – Ты еще клюку возьми… Какое имеешь право?..
– Пра-во? – Анна Михайловна всплеснула руками, загораживая спиной дверь. – Да соображаешь ты, идол, что кулак твой не одну Катерину – весь колхоз ударил? Общее наше дело ударил, соображаешь?
Она стояла на пороге, пройти Косте никак было нельзя, он терся спиной о стену, жевал цигарку и молчал.
– Ска-а-жите, какой ревнивец нашелся! Ра-аспалил-ся… Пошутить твоей Катерине нельзя. Не старые времена, батюшка, не старые. Мы на тебя управу найдем… Сам-то с бабами в молчанку играешь? Видела, как третьеводни на гуменнике петухом ходил вокруг молодух… Чай, Катерина тоже не деревянная, бабочка молоденькая, в ней каждая жилка играет. Нет чтобы приласкать… Куда окурок бросаешь? Не видишь, пол чистый…
Костя покорно поднял изжеванный окурок, отнес в помойное ведро, потоптался на кухне и опустил голову.
– Прости, Анна Михайловна… с сердцем не совладал.
– У жены проси прощенья, а не у меня, – сердито отрезала Анна Михайловна.
– И у Кати прощенья попрошу. На руках буду носить!
– Еще позволит ли она, – усмехнулась Анна Михайловна.
– Да любит она меня… вот! И я… всей душой… – бессвязно бормотал взволнованный Костя.
XVII
Осенью звено Анны Михайловны сдало государству по 12,28 центнера высокосортного волокна с гектара. Это был неслыханный урожай не только в районе, но и в области. Все поздравляли Анну Михайловну. Колхоз премировал ее швейной машиной. На районном слете стахановцев-льноводов ей преподнесли патефон, а на областном – отрез шелка на платье. По годам ровно и не к лицу шелк, но продавать его было жалко. Полюбовалась Анна Михайловна да и спрятала отрез в сундук. «Пригодится… Может, сноха ладная, по сердцу будет… та же Настя. Подарю».
На Октябрьскую годовщину Михаил притащил из сельского универмага дюжину венских стульев. Алексей привез из города на попутном грузовике дубовый буфет, хотя и подержанный, купленный по случаю, в комиссионном магазине, но совсем еще хороший, этажерку для книг и настоящий с батареей радиоприемник. Анна Михайловна, в свою очередь, приглядела на станции, в железнодорожном кооперативе, долгожданную кровать, голубую, с серебряными шишками и полосатым пружинным матрасом.
Кровать стоила ни мало ни много – ровнехонько четыреста целковых. Анна Михайловна ужаснулась этой неслыханной цене, пошла вон из магазина, постояла на крыльце, вернулась и по привычке стала торговаться.
– Цены без запроса, гражданочка, – сказал быстроглазый, подвижной и усатый, видать бывалый продавец. – Прошу не оскорблять государственной торговли.
– Ахти, что сказала… уж и поторговаться нельзя, ведь на советские деньги покупаю, не на бумажки, – обиделась Анна Михайловна. – Может, ты на ярлыке тут лишку приписал.
Ощетинив сивые усы, продавец оскорбленно пожал плечами.
– Если вы, гражданочка, из лавочной комиссии, так и доложитесь и голову мне пустяшными словами за зря не морочьте, – сухо сказал он, вытирая руки фартуком. – Я вам официально покажу счет-фактуру.
– Ни из какой я не из комиссии. Кровать мне очень хочется… настоящую, – объяснила Анна Михайловна, не сводя глаз с приглянувшихся шаров и тикового матраса. – Деревянная-то мне глаза намозолила. Ну, а твоя кроватка с виду и подходящая, а кусается… Ты не сердись, товарищ, не привыкла я еще заводить богатые вещи. Раньше-то все на копейки покупала…
Продавец помолчал, посмотрел на Анну Михайловну, должно быть, понял ее состояние и раздобрился. Он вытащил кровать на свет, протер фартуком никелированные украшения, так что Анна Михайловна ослепла от их блеска, прилег на матрас, покачался на добротных, позванивающих пружинах и сказал, что вещи износу не будет, сноха поблагодарит и внучата помянут бабушку. Анна Михайловна и сама видела, что такой кровати еще ни у кого не было в колхозе.
– Да у меня, родимый, и денег столько с собой нет, – начала сдаваться она. – Разве в сберкассу сбегать? Восемь верст киселя хлебать…
– И не бегайте, не беспокойтесь. Отложим-с, – ухаживал продавец, накручивая усы и любуясь на кровать, точно он сам ее покупал. Анне Михайловне даже стало совестно. – Из какого колхоза будете? Из «Общего труда»? Позвольте, да вы не Стукова ли Анна Михайловна?! Как же, как же, понаслышались про вас… Очень приятно знакомство иметь. Покупочка вам к лицу-с… Бывайте здоровы и не сумлевайтесь, кроватка останется за вами, – приговаривал он, провожая Анну Михайловну на крыльцо магазина. – Берите завтра лошадку в колхозе и, милости просим, приезжайте.
Так была куплена кровать, и новая изба потеряла свой необжитой, пустынный вид. Правда, не хватало еще стола, достойного венских стульев, да и мягкий диван, по правде говоря, не мешало бы завести. Словом, дом еще не был полной чашей, как хотелось Анне Михайловне, но то, что уже стояло в горнице и спальне, выглядело хорошо.
Как-то, возвращаясь с льнозавода, Анна Михайловна застала сыновей в избе за курением папирос. Она и раньше замечала иногда, что от ребят ровно бы попахивает табаком, находила ненароком в карманах брюк спички, крошки махорки, курительную бумагу и ругалась нещадно, раздавая сыновьям колотушки.
И сейчас ребята, памятуя наставления ее горячей руки, заробели, попрятали в рукава папиросы.
– Чего уж тут… курите, – милостиво разрешила мать. – Тайком-то еще дом спалите с табачищем вашим проклятым… Ишь накадили… фу-у! – морщась, ворчала она, открывая форточку. – Ровно взаправдашные мужики.
Собственно, так оно и казалось матери. Дозволение курить табак что-нибудь да значило. Как ни говори, стали взрослые сыновья.
Мать походила по избе, покосилась на ребят, которые старательно и независимо глотали дым, будто дело делали, и, не смея обронить пепел под ноги, относили его на ладонях в подтопок. Она подала им чайное блюдце вместо пепельницы, потом влезла на лавку и достала с божницы мужнин кисет, долго вертела его в руках, наконец протянула сыновьям.
– Отцова память… Берите который-нибудь… новехонький совсем.
– Не надо, мама… спрячь, – попросил Алексей, бережно возвращая кисет матери.
– И то… – согласилась она, печальная и суровая. – Пусть вам кисеты невесты вышивают.
К ней пришли спокойствие и наблюдательность. Она как-то больше стала все замечать и часто по мелочам делала важные для себя заключения. Например, она заметила, как при встречах с Алексеем мужики первые уважительно трогают фуражки, и ей понравился этот почет.
– Где Алексей Алексеич на своем тракторе работает, там и хлеб хорошо родится, – говаривали на собраниях колхозники.
Девчонки были влюблены в Михаила. Постоянный участник спектаклей в клубе, непревзойденный гармонист, красавец и плясун, он покорял девичьи сердца веселым словом. Впрочем, по работе он не уступал брату.
Николай Семенов, поглядывая то на мать, то на Михаила, не раз говаривал:
– Сообразительная у тебя башка, Мишутка. По счетам пальцами бегаешь, ровно играешь на баяне. И на людей глаз острый… Ах ты, смена моя на сегодняшний день! Чую, будешь греметь на всю область.
– Я, дядя Коля, сперва хочу в облаках погреметь.
– То есть?
– В Красную Армию скоро… попрошусь в летчики. Во сне я уже почем зря летаю…
– С кровати на пол… бывает, – насмешливо добавляла Анна Михайловна, но где-то в памяти сохраняла и это случайно высказанное, потревожившее ее желание сына.
Невесты, завидев Анну Михайловну еще издали, украдкой прихорашивались, одергивали кофты и юбки, приглаживая волосы, и никогда не забывали, весело кланяясь, справиться о ее здоровье. Она по-прежнему благоволила Насте Семеновой и не переносила Лизутки Гущиной, хотя та работала хорошо в колхозе и ничего худого никто о ней не мог сказать. Матери невест охотно останавливались поболтать. И о чем бы ни шел разговор, заканчивался он неизменно похвалами сыновьям Анны Михайловны.
Но не это было главное, что открылось Анне Михайловне. Главное было то, что она, как бы ранним утром, хорошим, ясным, вышла из своей избы, поднялась на высокую гору, взглянула оттуда вниз, загородясь от солнца ладошкой, и увидела большой и ладный, невесть когда выросший дом. И дом этот был колхоз. И она поняла многое иначе, чем понимала раньше.
Этот колхоз строила она вместе с мужиками и бабами, строила долго, как Никодим ее избу. Люди, работавшие с ней бок о бок, ворчали, у иных бессильно опускались руки, малодушные убегали: одни навсегда, другие на время, а колхоз все рос и рос. Те люди, кому постройка была не по нутру, потому что захватила их одворину со всем добром, нажитым не всегда честно, эти люди мешали, запугивали, будто ничего путного не выйдет, и даже тайком, по бревнышку пытались раскатить и растащить колхозные срубы. Ничего из этого не вышло. Подвели дом-колхоз под крышу, прорубили большие светлые окна в жизнь.
В нем, в этом доме-колхозе, вначале было пустовато, холодно и неприветливо, как в ее необжитой, новой избе. И опять люди обижались, чувствовали себя неловко, но убегали из дома-колхоза реже и всегда возвращались. Они не враждовали промеж себя, как прежде, до колхоза, полюбили труд, стали работать на подзадор – кто больше и лучше сработает. Это была общественная «помочь», только не на час или на день, а на все время.
Потом все увидели, что как-то незаметно завелись в доме вещи, под стать высоким и светлым комнатам, на первое время самые необходимые, как ее кровать, стулья, буфет; и все поняли, что будет и остальное, – от них самих зависит сделать так, чтобы общин дом был полной чашей. Всем стало приятно и радостно, люди почувствовали в себе такую богатырскую силу, такую уверенность – кажется, гору своротить могли. И они в действительности ворочали горы.
И точно так же, как дом-колхоз, строилось все ее, Анны Михайловны, государство.
XVIII
Весна в 1936 году шла ранняя, но с обильными снегопадами. В начале марта было морозно и ветрено, как в январе. Днем таяло, а к вечеру крепконько подмораживало, казалось, зиме не будет конца. На матовом чешуйчатом снегу был такой наст, что держал человека. Доярки ходили на ферму прямиком от изб, как по паркету, минуя скользкую, в рытвинах и проступах, дорогу.
Скупо светило солнце, скрытое за серой пеленой облаков. Ветер раскачивал колючие елки, и крупный, пушистый иней струился с ветвей молочными ручейками.
Но тринадцатого марта, в полдень, ветер затих. Нежданно проступила на небе голубая проталина, другая, третья. И в одну из них, как из окошка, радостно и ярко, точно хорошо выспавшись, глянуло на землю солнце. Тотчас же зазвенела капель. Выскочили со двора, закудахтали куры. Беспокойно заряжали кони, выведенные на прогулку.
И тогда на серую, набухшую водой дорогу откуда-та сверху, с синего потеплевшего неба, черной молнией упал грач. Медленно и важно прошелся он по талой дороге и, склонив набок грузный белый клюв, задумчиво напился из позолоченной солнцем лужицы.
Чтобы не спугнуть грача, Анна Михайловна обошла лужицу стороной, щурясь от солнца, снега и голубизны. Она вслушивалась в нарастающую многоголосую и хлопотливую жизнь колхоза. Все спрятанное, примолкшее за зиму рвалось теперь наружу, гремело и двигалось, словно желая наверстать упущенное.
Навстречу Анне Михайловне вереницей тянулись со станции подводы третьей бригады с минеральными удобрениями. Поравнявшись, возчики почтительно взялись за шапки.
– Товарищу Стуковой… наш самый горячий!
«Призапоздали… – подумала она, степенно кланяясь. – Мое звено давным-давно на всю бригаду удобрений запасло».







