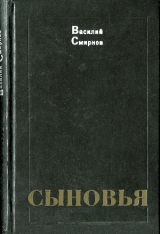
Текст книги "Сыновья"
Автор книги: Василий Смирнов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 18 страниц)
«Соперничают… – неодобрительно подумала мать. – Диви б чужие… И что им надо? Я этому Семенову за выдумку…»
– Будет вам! – вскинулась она на сыновей. – Что вы из работы забаву строите? Попортите мне лен… Ешьте яишню, пока горячая. Спать пора.
– Ну и спи, коли тебе охота, – огрызнулся Михаил, водворяя сковородку на место. – Мне от этой забавы сна нет.
Анна Михайловна постучала по сковороде вилкой.
– Как ты с матерью разговариваешь, стервец? Веревки захотел? Получишь… Я не посмотрю, что ты семилетку кончил и с девчонками хороводишься, отлупцую за милую душу.
– Михайловна, пожалей! – жалобно и смешно закуксился сын. – Не туда сослепу, извиняюсь, целишь. Ты веревкой вздуй Савелия Федоровича. Он Леньке понарошку сотки приписывает, помогая бригадиру. Я знаю… Лизку свою пучеглазую сосватать хочет. Вот и копит жениху трудодни.
– Мели, Емеля, – сердито сказал Алексей.
– Ничего не остается другого делать. Мелю, братан, на все тридцать два зуба, без передыху. Плесни молочишка стакан, Михайловна!
Забираясь последним на кровать, к стене, Михаил, перелезая через брата, навалился на него и притиснул. Тот не остался в долгу. Они возились как ни в чем не бывало, свалили на пол одеяло, подушки. Старая деревянная кровать стонала под ними, того и гляди развалится.
Ребята баловались, пока Анна Михайловна не закричала на них.
Угнездившись, Михаил тихо спросил брата:
– Как тебя угораздило… гектар с осьмухой?
– А вот так и угораздило. Поменьше свисти на лошадей.
– Боишься – перегоню?
– Нет… угробишь теребилку.
– А-а… – протяжно, сладко зевнул Михаил. – Не твоя забота.
Помолчав, сонно пробормотал:
– Чур… за тобой… очередь… будить.
– Ладно, – согласился Алексей, потягиваясь. – Стащу за ноги ровно в три… как по будильнику.
– Ну, спи…
– Сплю.
«В гнезде – голуби, на работе – чисто ястребье… Вот и пойми их, – думала, засыпая, мать. – Чую, теперь не жди добра».
Но добро это само лезло ей в глаза. Глядя на ее сыновей, девчонки задорнее теребили лен. Они работали наперегонки и подшучивали над бабами, которые отставали. Тем стало вроде как неудобно и немножко обидно, что их обгоняет молодежь, и они прибавили усердия.
Незаметно разобрал задор и Анну Михайловну. Она теребила лен на пару с Дарьей, вела счет своим и ее снопам.
«А ведь это вроде соревнования… про которое в газетах пишут», – подумалось Анне Михайловне.
Николай Семенов вывесил у правления доску, бригадир писал на ней мелом, кто сколько выработал за день. И приятно было взглянуть на доску, идя вечером с поля, отыскать свою фамилию и цифру, проставленную рядышком. Все бабы это делали, хотя притворялись, что интересуются не собой, а другими, и будто им безразлично, что там про них нацарапано на доске. Однако, если фамилия какой-нибудь стояла последней и цифра возле нее была самая махонькая, так и знай – поднимется хозяйка завтра до пастуха, накажет бабушке подоить и согнать корову, заторопится в поле, будет теребить лен, не разгибаясь, попоздней уйдет завтракать и пораньше других прибежит с полдника, чтобы видеть вечером на доске свою фамилию первой.
Словно обсыхая, уменьшался в поле золотой разлив льна, все больше и больше обступала его берегами суглинистая, черствая земля. И радовалось сердце Анны Михайловны, примечая, как растут шалашики снопов, дозревая на ветру и солнце.
– Кажется, вовремя управимся со льном, – весело признался Семенов.
Он приказал Петру Елисееву зажинать с народом пшеницу, оставив на тереблении только машины.
– Не сожжете мне остатки льна, ребята? – спросил он, зайдя вечером в избу к Анне Михайловне. – Шесть гектаров на вашей совести лежат. Когда рассчитываете кончить?
Михаил метнул горячий взгляд на брата, подумал.
– Послезавтра разделаемся, – сказал он уверенно.
– Это ты за себя говоришь? – рассмеялся ему в лицо Алексей.
– Нет, за тебя, медведь! – закричал Михаил сердито. – Я берусь по полтора в день теребить. А вот ты попробуй!
– Мне и пробовать нечего, – брат равнодушно пожал плечами. – Сегодня ровно столько дал.
– Дядя Коля, врет он? – жалобно спросил Михаил.
– Правда. А ты не горячись, – остановил его Семенов. – Четыре дня сроку даю, авось не сгорит лен.
Михаил обиженно замотал головой.
– За глаза двух хватит. Берусь… вот! – Он оглянулся на Алексея, показал ему язык. – Только освободи ты меня, дядя Коля, от тетки Ольги. Сделай такую милость… Тряско ей, видите ли, барыне. Животик ее благородный не переносит.
– Да она о том же сама просит.
– Ей-богу? – обрадовался Михаил. – Уважь, дядя Коля, дай другую принимальщицу.
Семенов взглянул на Анну Михайловну, сердито собиравшую ужин на стол.
– Может, подсобишь парню? – спросил он.
Она молча резала хлеб, сдвинув брови…
– Выручи… мамка… – плаксиво пробормотал сын.
Не отвечая, она пошла на кухню. Михаил двинулся за ней.
– Ну, чего пристал? – проворчала она, оборачиваясь. – Не пропадать же льну… Марш за стол, сейчас щи подам.
VI
Вот когда Анна Михайловна почувствовала захватывающую силу молодого, отрадного соперничества.
Еще затемно поднял ее Михаил, не дал как следует подоить корову и, пока брат, потягиваясь, одевался и не спеша завтракал, слетал за лошадьми. Он привел их к крыльцу, и мать, заслышав под окном нетерпеливый стук копыт и фырканье, не допила своей чашки молока.
– Ну, Леня-соня, и твоих коней я привел. Поеные. Принимай да поворачивайся. Сегодня тебе жарко будет, – весело и задорно сказал Михаил, входя в избу и торопливо нагружая карманы вчерашними сочнями. – Пошли, Михайловна. Дорогой поем… Счастливой работенки, братан!
– И тебе счастливо… Ты маму, смотри, не убей, дурак, – нахмурился Алексей.
– Не стращай, не из нужливых. Мы всего-навсего тебя обгоним. Правда, Михайловна?
– Иди, иди знай, – толкнула его мать, повязываясь платком.
Михаил пошел в сени, потом вернулся и, просунувшись в дверь, со смехом сказал:
– А принимальщица твоя еще нахрапывает, Кузнечиха-то… Я под окошком был, слышал.
– Ничего, разбудим.
Ведя лошадей в поводу, быстро дошли сын с матерью до ярового поля. Гасли зеленые звезды, побелел над лесом ущербленный месяц, румяно и широко занималась заря. Отблески ее багряно легли на бронзовый лен, на теребилку у межи.
Доедая сочни, Михаил вытащил масленку, смазал шестерни, постучал по ним ключом, посвистел. Мать помогла ему запрячь лошадей. Он привычно вскочил на узкое сиденье, по брови надвинул кепку и подобрал вожжи.
– Михайловна, не зевай!
Она примостилась сзади и не успела путем оглядеться, как по ремню шурша поползли ей в руки длинные, еще влажные стебли льна. В ушах стоял звон, сидеть было неловко, тряско, того и гляди свалишься. Пришлось держаться одной рукой за раму, а лен набегал бесконечной желтой волной, обрушивался в протянутую ладонь, и Анна Михайловна не успевала сбрасывать его кучками на землю.
Сын скосил горячий глаз на мать и поморщился.
– Руку! – отрывисто бросил он.
Она не поняла и, робея, переспросила:
– Что, Миша?
– Что, что… Не держись, вот что! – сквозь гром теребилки крикнул он с досадой. – Не маленькая, не упадешь.
Пересиливая страх, она послушно оторвала от рамы руку. Ее так и подкинуло. Но она выпрямилась, сохранила каким-то чудом равновесие и не упала.
Теперь сын покосился с усмешкой, одобрительно.
– Обеими хватай, ловчее будет! – прокричал он.
На третьем заезде Анна Михайловна попривыкла, осмелела и сбрасывала лен без задержки. Загон пошел ровнее, трясти стало чуть-чуть, можно было смотреть, как встает солнце, как золотятся и светятся курчавинки волос на смуглой шее сына. Приподнявшись, мать огляделась вокруг, приметила, что теребилка ходит не вдоль, а поперек загона. «Лишние завороты, – смекнула она, – вдоль куда сподручнее теребить», – и указала на это сыну.
– Правильно, – быстро согласился Михаил, заворачивая коней. – Времечко сэкономим. Ну, братану теперь за нами не угнаться.
Мать видела, как получасом позже провел лошадей на свои участок Алексей. Должно быть, и верно, заспалась Кузнечиха. Она плелась позади, и мать пожалела Алексея.
Михаил помахал брату кепкой, живо обернулся.
– Прибавим ходу?
– Прибавляй… – усмехнулась мать.
Он свистнул, и теребилка загремела пуще прежнего. Ей задорно откликнулась Алексеева на соседнем загоне, и кажется, все поле вокруг загремело и запело. Ветер ударил в лицо матери, прохлада его была желанна. Колотилось и замирало сердце, трудно стало дышать, ныли руки от напряжения, следовало бы передохнуть. Но кони мчались так славно и лен падал в ладони таким могучим валом, только не зевай сбрасывай, и она, мать, летела с сыном, точно на крыльях, навстречу солнцу.
В утренней радужной дымке разворачивались перед ней поля. Везде кипела работа: взлетали серебряные серпы, вставали лохматые белесые суслоны, далекая жнейка приветливо махала ей руками. Почти рядом, стараясь обогнать их, стремительно плыл через льняное горящее озеро Алексей, легкой лодкой ныряла его теребилка, и белым парусом вздувалась полотняная рубаха.
И, тая дыхание, жмурясь от солнца и ветра, хотелось мчаться еще быстрей, чтобы свистело в ушах, холодило лицо и рукам было больше чем вдоволь работы. Невольно вспомнилась Анне Михайловне молодость, как она девкой в навозницу катила наперегонки с подружками и парнями, стоя в телеге и накрутив на голые руки обжигающие вожжи. Хохот, гиканье, звон бубенцов не смолкали тогда. Телега гремела и подпрыгивала вот так же, как сейчас теребилка, но босые упругие ноги крепко упирались в днище. Юбка хлестала Анку по коленям. Захватывало дух, а она горячила жеребца и, замирая от счастья, что всех перегнала, летела словно по воздуху…
Анна Михайловна смотрела в это невозвратно далекое время и улыбалась ему.
– Ну как? – спросил через плечо Михаил.
– Хорошо! – вырвалось у матери.
Сын засмеялся, приспустил вожжи, сел боком и, болтая ногами, затянул песню. Ветер рвал ее, слов нельзя было разобрать. Но мать и так поняла, что песня была хорошая, такая же, как певец, как его работа, как все, что окружало их.
А скоро пришло и забытье, которое она любила в работе. Перестали болеть руки. Все делалось будто само собой, легко и ловко. И не надо было следить за толчками, тело сохраняло равновесие без всякого усилия. Все виделось, и ничего не запоминалось, как в крепком сне. Много и хорошо думалось, но о чем, – Анна Михайловна не смогла бы ответить, если бы ее спросили.
Она очнулась от треска и грохота над головой. Палевая туча невесть когда закрыла солнце. Синевато промерцала в сумраке молния, пробежала розоватой змейкой вторая, раскатисто ударил гром, и пошел дождь, частый и теплый. Не успели они остановить лошадей, укрыться под кустом, как дождь, отшумев, затих, туча пронеслась, и выглянуло солнце. Над волжским лугом дождь еще шел косыми темными полосами, а здесь, в поле, уже было светло и радостно. Умытый лен чуть дымился. Просыхала рябая дорога. На Алексеевом участке зарокотала теребилка, и Михаил, стрельнув туда из-под козырька кепки прижмуренным блестящим глазом, тотчас тронул мокрых, фыркающих коней…
Вот так и вышло, что обогнал в этот день Михаил брата. И матери было жалко Алексея. Весь вечер она чувствовала себя как-то неловко, не смела поднять глаз на сына, словно в чем провинилась перед ним.
За чаем Михаил, не утерпев, стал было зубоскалить над братом, но мать так посмотрела на него, что он прикусил язык. Когда хлебали молоко, она подсунула Алексею лишнюю середку белого пирога, но сын, точно не заметив, протянулся через стол за хлебом.
Укладываясь спать, он постелил себе на полу.
– Ты у меня не дури, – сказала мать тихо.
– Жарко на кровати… Мишка лягается, – глуховато ответил сын.
Подавив вздох, мать замолчала.
«Началось…» – горько подумалось ей.
Она долго не могла уснуть, слышала, как, посапывая, ворочался на полу Алексей, как насвистывал, нахрапывал в безмятежном сне Михаил. А у нее, у матери, болели руки, ломило спину, черные думы полонили голову. Испытанная в поле радость казалась теперь смешной и ненужной, а соперничество сыновей – страшным.
«Сегодня спят врозь, завтра за стол вместе не сядут… А там, гляди, вся жизнь врозь, кувырком пошла… Обливайся, мать, слезами, уговаривай, мири их… Да разве затем я растила сыновей, господи?!»
Поправляя изголовье, Анна Михайловна решительно сказала себе: «Прекратить эту вражду, пока не поздно. Да… завтра же».
С тем и уснула, как в яму провалилась. Не слыхала, как трубил пастух, и не сразу подняла голову на сердитый окрик Михаила:
– Корову проспала… да мамка же!
В избе гуляло солнышко. Оно плескалось на щербатом полу червонным разливом. И полосатый, свернутый вдвое постельник плавал посредине избы лодкой, и мятая, загнутая подушка белела парусом.
Щурясь, мать покосилась на брошенный постельник, на Михаила, в одних трусах метавшегося по кухне. Она прибрала постель, подошла к окошку, распахнула его. В избу ворвалось погожее утро, с прохладой, горячим светом, пением петухов и далеким, чуть внятным рокотом теребилки. Неуловимое дуновение несло с полей хмельной запах спелых хлебов.
И мать поняла, что она не сдержит своего слова.
– Ушел и не побудил… Тоже брат называется, комсомолец, – кипятился Михаил, надевая штаны и прыгая на одной ноге. – Ну, припомню я ему!
– Оба вы хороши, – только и сказала мать, собираясь в поле.
В этот день работа не ладилась. Участок им попался каменистый, короткий – одни завороты. Лен перезрел, местами он полег, и теребилка, не захватывая стеблей, обрывала шумящие, граненые головки. Михаил, горячась, возился с ремнем транспортера. Он сделал захват пониже, и, пока кони шли ровно, пропусков и обрывов почти не было. Но стоило немного прибавить ходу, как теребилка начинала скакать по камням, ремень скользил поверху, обрывал и давил головки льна.
До обеда они не вытеребили и половины гектара. Запрягая после полдника лошадей, Михаил заплакал с досады. И матери нечем было его утешить.
Где-то, невидимая за хлебами, неумолчно гремела Алексеева теребилка. Михаил зажал уши ладонями, чтобы ее не слышать.
И, заметив это, жалея сына и сердясь на него, мать закричала:
– Как тебе не стыдно! Лен-то – колхозный. Что же, по-твоему, гореть ему надо, если у нас с теребилкой не ладится? И чему вас там, в комсомоле, учат! Да ты радоваться должен, что у брата так кипит работа.
– Не больно-то он… вчера… радовался… на мою работу, – ответил, всхлипывая, сын.
– Сам виноват, не хвастай, – сурово отрезала мать. Помолчав, добавила мягко:
– Полно реветь, глупый… Никто нас не казнит, что мы с тобой трошки отстали сегодня. Не диво, каменьев-то ровно леший наворотил на полосу. Убирать их надо весной, вот что я скажу Семенову… Мы поотстали, а Леша пообогнал… как ты вчерась. И хорошо. И нечего соперничать. Дело-то общее и вперед идет, не назад. Я так понимаю… это самое… соревнование. Вот Леша кончит, тебе же подсобит, дурашка.
– Очень мне нужны… подсобляльщики! – вспылил Михаил и, вскочив на теребилку, не дожидаясь матери, ударил вожжами.
Кони рванулись и понесли. Теребилку сильно подкинуло. Встревоженная, бросилась Анна Михайловна к машине:
– Стой! Стой!
Но было уже поздно. Обрывая и приминая лен, еще раз взлетела теребилка, раздался сухой треск и скрежет булыжника. Михаил упал. Не выпуская вожжей, он проехался на животе, с трудом остановив коней. Поднявшись, кинулся к теребилке.
Подбегая, мать видела, как сын медленно выпрямился, лицо его побледнело. Обходя мать, он пошел за оброненной кепкой, поднял ее, нахлобучил на глаза и сел на межу.
– Что… там? – дрогнув, спросила мать, не смея приблизиться к теребилке.
– Шестеренка… сломалась… – сипло ответил Михаил, пристально разглядывая колено.
Штаны были изорваны, он, просунув в дыру палец, порвал еще больше и засвистел.
Этот свист так и передернул Анну Михайловну.
Молча подошла она к лошадям, отстегнула вожжи, сложила их вчетверо и что есть мочи вытянула сына по плечам.
– Ой, что ты, мамка? – оторопело пробормотал он, валясь на межу.
Мать поймала его кудрявую потную голову, зажала между коленями, и вожжи загуляли по спине.
– Свистеть!.. Свистеть, негодяй?.. Машину сломал – и свистеть? А лен-то… А люди-то… А мне, матери… Господи! Да я с тебя всю шкуру спущу!
Ползая на четвереньках и плечами отталкивая мать, стараясь высвободить голову, сын бормотал:
– Перестань, мамка… вот выдумала… Да больно же! – вскрикнул он и, вывернувшись, поймал вожжи.
На один миг глаза их, одинаково черные, горячие, встретились: сердитые и непонимающе-испуганные – сына, знакомо-гневные, ничего не видящие – матери; пальцы Михаила, скользнув, выпустили веревку.
И как только сын затих, перестал сопротивляться, Анна Михайловна бросила вожжи, заплакала и ушла с поля домой.
VII
И надо же было так случиться, что в этот вечер Семенов назначил колхозное собрание. Из района прислали инструкцию, как авансировать по трудодням из нового урожая, следовало потолковать, а матери казалось – собрался народ у ограды, возле памятника, судить ее сына. Все знали, что Михаил сломал теребилку, и Анна Михайловна, опустив голову, сидела сама не своя.
Два чувства, одинаково сильные, боролись в ней: жалость к сыну и гнев на него.
Михаил стоял, прислонясь к ограде, поодаль, отвернувшись от народа. И так не ахти какой ростом, он сжался, поник и, совсем маленький, теребил белую замаранную кепку, ломал козырек. Рубашка сзади выбилась у него по-детски из-под ремня, висела хвостом. Матери хотелось встать, подойти, поправить рубашку и отнять кепку.
Ребенок ведь еще, что с него спрашивать. Хотел больше да лучше сделать, погорячился, вот и вышел грех. Выпорола она его, как прежде за баловство порола, ну что же еще? Зачем при народе бесчестить ее, мать? Она-то чем виновата?.. И не смотрят на него, а кто и глянет, так ровно на пустое место. Ну почто, разве пропащий он человек? Не задорили бы, не науськивали – и не случилось бы ничего…
Да ведь и он, стервец, хорош, по правде сказать. Недорос – так не суйся, слушайся матери, чтобы не пришлось ей краснеть за тебя. А раз взялся да испортил – сумей держать ответ… Нет, мало тебе вожжей, нечистый дух, мало! И не в машине тут дело. Теребилку, пес с ней, починить можно, а лен… лен теперь сгорит – не воротишь. Леша со своим не управился. Значит, вручную теребить надо. А кому? Оторвешь народ от жнитва – потечет, гляди, зерно… Ну и что же ты натворил, мерзавец? Чем ты матери стыд сотрешь?
Ей было совестно перед народом, так совестно, словно она поломала теребилку и сгубила лен. Она не слышала, как читал и разъяснял Николай Семенов инструкцию по авансированию, как обсуждали ее мужики и бабы. Щеки у Анны Михайловны жгло, губы пересохли, острый комок подступил к горлу. Вздохнуть бы, выпрямиться и закричать на всю улицу, как ей, матери, нехорошо и больно. Но она не может поднять тяжелой головы. Мучительно ясно видит она черный, выжженный лен и видит сына он все еще ломает козырек кепки, и рубашка сзади торчит у него хвостом. Анна Михайловна не знает, что делать.
«Хоть бы поскорей… На один конец, – тоскливо думает она. – Срам-то какой… и не переживешь».
Нет сил больше ждать. А Семенов, как нарочно, тянет собрание. И все рассуждают охотно и спокойно, будто не случилось ничего, будто и впрямь созвано собрание не для того, чтобы судить ее сына. Но ведь она-то, мать, чует сердцем: будут судить, беспременно. И правильно, нельзя иначе, она понимает, да вот тяжко ей. Крепись, Анна Михайловна! Немало ты горя хлебнула, отведай самого горшего – от сына… Ладно, она выдержит, все перенесет. Она еще от себя словцо сыночку скажет: «Так-то ты, разлюбезный, мать на старости утешаешь? Ну, погоди же!..»
А вышло все иначе, совсем не так, как ждала и хотела Анна Михайловна.
В конце собрания Савелий Федорович заикнулся было о Михаиле, но Семенов, не слушая его, громко и ясно прочитал наряд на завтрашнюю работу, помедлил чуточку, покурил, будто ждал чего-то. Стало на собрании тихо, и Анна Михайловна слышала, как, упав, застучало у нее сердце. А вздохнулось все-таки облегченно: «Сейчас начнется… давно пора… Ну, Мишка, не посмотрю я, что сын ты мне!»
И вдруг Семенов, нарушив тишину, объявил собрание закрытым. Анна Михайловна вскочила, ничего не понимая. Растерянно озираясь, приметила она, как, отправляясь по домам и толкуя о том о сем, народ, поравнявшись с оградой, выжидающе замолкал, а потом обходил Михаила стороной.
Сын качнулся, оторвал козырек у кепки, повернулся лицом к народу. В вечерней догорающей заре огнем полыхало его лицо. Рывком поправив рубашку, он, не трогаясь с места, сказал Семенову:
– Прошу обсудить мой вопрос.
– Какой вопрос? – спросил Семенов, складывая в папку бумаги.
– Ну, какой… сам знаешь какой… – пробормотал Михаил.
Семенов наклонился к столу, скрывая усмешку. Широким жестом он остановил народ:
– Минуточку внимания, граждане. Вот тут у нашего теребильщика Миши дело до нас есть. Послушаем?
– Послушаем. Отчего не послушать? Можно, – согласились колхозники, возвращаясь. – Поскорее только. Спать пора.
Мать тихо опустилась на скамью. Ей виделась первая колхозная осень, груда мешков с зерном в сенях, она сама, в слезах, смущенно просящая Николая позабыть ее малодушие, и слышался его ответ, что он ничего не помнит и не знает.
Она поняла его тогда точно так же, как поняла сейчас. «Умница… Знаешь ты ход в каждое сердце», – одобрила она Семенова и успокоилась.
Сын подошел к столу, маленький, прямой, горячий. Она увидела в нем себя, и ей поправилось, как он держался. «Вот так, начистоту, по-колхозному. Легче будет».
Михаил оглядел народ, отыскал ее, мать, и точно ответил ей черными горячими глазами: «Да, начистоту… конечно, легче».
Но ему не дал говорить Савелий Федорович Гущин. Его словно прорвало. Куда девались шуточки, ласковая веселость! Оскалившись, он залаял:
– Нечего народу морочить головы. Все сами знаем. Машину сломал, сопляк! Лен погубил… Вычесть у него из трудодней. К работе не допускать. Вот и весь разговор.
– Знамо, вычесть! И работы не давать… Навыдумывали соревнований, пусть сами расхлебывают, – в один голос, как всегда, отозвались Строчиха и Куприяниха.
– Да, уж это соревнование вскочит нам в копеечку, – плюнул Гущин.
– А ты на копейки-то не считай, – сказал Андрей Блинов.
– На рубли прикажешь? – скосив глаза, бросил Савелий Федорович. – Не больно много в нашем колхозе рублей-то.
– Получше добро храни – тыщи заведутся.
– А я не храню? Ты не на завхоза кивай, а на председателя. Он и вторую теребилку ухайдакает, потакая… хулиганам.
Анна Михайловна смотрела и не узнавала Гущина.
Полно, да он ли это, добрый, справедливый человек, с пеной у рта лает на ее сына, бесчестит? Да какой же хулиган Мишка? И почему нельзя его к колхозной работе допускать? Откуда такое зло у Савелия Федоровича?
Матери было горько. Платок свалился у нее с головы, и она не могла поправить его, перевязать. Ее пугало молчание Семенова. Навалившись локтями на стол, он сурово хмурил брови из-под ладоней, покачивая рыжей головой, как бы соглашаясь с Гущиным.
Слово взял бригадир Петр Елисеев.
– Не нравятся мне твои речи, Савелий Федорович, – сказал он, закусывая ус. – Правильно Блинов говорит – все-то ты считаешь на деньги… по-торгашески.
– Торгашом был, торгашом и остался, – кивнул Семенов, отнимая ладони от бровей и спокойно выпрямляясь.
– Прошу не попрекать прошлым! – взвизгнул Гущин. – Честным трудом все заглажено.
– Никто тебя прошлым и не попрекает. – Елисеев дернул плечом. – Мы сегодняшним попрекаем. Да! Черт тебя знает, как это у тебя получается… Лен сеять зачали – плохо. Машины купили – плохо. Люди стали нормы перевыполнять – опять нехорошо… Прямо куда ни глянь – везде дрянь. Или ты без глаз, или мы ослепли… Чего ты хочешь?
– Я уж отхотел, Петр Васильевич… стар, – нескладно пошутил Гущин, отступая. – А вот колхоз порядку хочет.
– Разные бывают порядки, – вставила словцо Дарья Семенова.
– Именно, – подхватил Елисеев, одобрительно взглянув на Дарью. – За копеечные порядки стоишь, Савелий. А других, видать, не знаешь… Вот ты о добре кричишь, а сам пол-амбара овса семенного весной сгноил. Как же это?
– Какой колхоз, такой и завхоз, – осклабился Гущин, разводя руками и становясь веселым. – Али забыл – овес сопрел на корню… Назначай ревизию, я отвечу. Да обо мне ли разговор? Гладь по головке хулигана, он тебе завтра не такой еще фортель выкинет.
Чернея лицом, Елисеев постучал обожженным кулаком по столу.
– Ты напраслину не городи. В бригаде моей хулиганов нет. И по головке мы никого не гладим.
– Оно и видно, – насмешливо отозвалась Строчиха.
– А что ты видишь, дура баба? Ничего ты не видишь. – Елисеев повернулся к Михаилу, пристально посмотрел на него, помолчал. – Ну, браток, отвечай мне, как командиру… по-военному. Как же это у тебя вышло?
Мать опустила голову, закрылась платком по самые глаза. Завозились, зашептались бабы. Говорок пролетел по собранию.
– Ти-хо! – строго сказал Семенов.
И многие повторили за ним:
– Тихо! Тише!
– Отвечай, – приказал бригадир.
– Моя ошибка, дядя Петр, – признался Михаил.
– Знаем. Да откуда она?
– Леньку хотел обогнать… побольше выработать.
– Похвально. А машину зачем ломать?
– Погорячился.
– Погорячился? А ежели бы ты не на теребилке сидел, а на коне… И не на поле был, а на войне? Ты б тоже горячиться стал?
Голос у Елисеева загремел железом, и матери показалось, что это поднялся из-за стола, как много лет тому назад, Семенов – контуженный фронтовик. Вот он стоит рядом с Сергеем Шаровым, высокий, костистый, он срывает окровавленную повязку с головы, размахивая ею, как флагом, зовет и учит ее, мать, учит всех, как надо жить. А может быть, это сам Леша, поправляя сзади солдатскую гимнастерку, точно затыкая за пояс топор, жалеет, что рубил он богачам дома, а не головы. И опять же мнится Семенов зимним вечером в Авдотьиной избе. Он ведет народ в колхоз, крыльями раскинуты его смелые руки, в неведомую даль устремлены глаза. Он смотрит вперед, поверх голов мужиков и баб, словно видит все хорошее, что ожидает их, перепуганных баб, и улыбается этому хорошему, столь далекому и невозможному тогда, что не верилось, а теперь ставшему явью, да такой, точно другой жизни никогда и не было.
– А знаешь ли ты, парнишка, к чему приводит… эта самая горячность? Глянь-ка сюда… – Елисеев шумно вздохнул, должно быть, показывая стесанное ухо. – Вроде тебя – погорячился и чуть башки не лишился… Конь спас. А кто тебя спасет, ежели ты… этому самому коню… ломаешь ноги?.. Что же нам теперь с тобой делать? – задумался Петр Елисеев.
– Дай-ка я скажу.
Мать вздрогнула. Невозможно знакомо прозвучал этот новый, глуховатый голос. Она вскинула голову и ужаснулась.
«Супротив брата?..»
Не глядя на Михаила, Алексей тяжело и медленно, как бы затрудненно, бросал слова:
– Ухарь… какой нашелся. Гектар с лишним… вчера вытеребил. И все ему мало… Ясно! Из-за себя поломал теребилку. Характер свой… дурацкий… тешит. Я его предупреждал.
– Ты лучше расскажи, как комсомольцы тайком на работу ходят… не побудивши других! – гневно крикнул Михаил, возвращаясь к ограде.
– Расскажу. Правильно. Я тоже дурака свалял… Дискредитировал соревнование… Больше этого не случится… А за поломку машины – выговор… я предлагаю… закатить.
– Прежде камни с полос уберите, а потом уж и… выговор, – пробормотал Михаил.
– А где у тебя были глаза? – спросила Ольга Елисеева.
– На затылке.
– Оно и похоже! – рассмеялись колхозники.
«Да что вы на него все напали? – хотелось крикнуть Анне Михайловне. – Ведь не нарочно он… И понимает… Я его вожжами отвозила». Но она не могла защищать сына, поступок его не имел оправдания, и она ничего не сказала.
– На первый раз, Миша, мы тебе выговор не дадим. Но смотри, не пори горячку в будущем. Предупреждаем на сегодняшний день. Нет возражений? – спросил Семенов колхозников. – Придется завтра, товарищи, лен руками теребить… Наделал ты нам делов, парень.
– Я сам… все вытереблю, – угрюмо сказал Михаил.
Прямо с собрания он ушел в поле.
VIII
Дома, не стерпев, Анна Михайловна набросилась на Алексея:
– Как тебе не совестно супротив брата идти? Ну, нехорошо он сделал, так поругай наедине. А то при народе… Срам-то какой, тьфу!.. И откуда слов набрался, молчун? Пусть бы другие говорили. А ведь ты… Как ты ему опосля этого в глаза посмотришь?
– А вот так…
Сын близко подвинулся к матери, прямо и ясно взглянул ей в глаза и рассмеялся:
– Эх, мама, до чего же ты еще отсталая!
– Ну, еще бы, – рассердилась Анна Михайловна. – Где же матери с тобой сравняться, все понять – стара. Только вы, молодые, глазастые, все знаете и все понимаете… Да, может, я подальше тебя вижу! Вот что! Может, от меня больше всех досталось Мишке… Чем зубы скалить, шел бы да подсобил брату.
– Не пойду… Угробил теребилку, пусть и выкручивается.
– Бессердечный ты… истукан!
– Уж какой есть…
Алексей поел и лег спать.
Мать побранилась еще, покричала, сын не отозвался. Тогда она, замолчав, налила парного молока в кувшин, заткнула его тряпицей, прихватила кашник сметаны, хлеба и пошла в поле к Михаилу.
Был одиннадцатый час, колхоз уже спал, и Ваня Яблоков, разжалованный за лень-матушку из конюхов в сторожа, изредка постукивал в свою деревянную колотушку. Роса лежала скупо, лишь по канавам и ямам, и отовсюду надвигалась душная мгла. Во ржи скрипел коростель. Всходила над Волгой узкой багровой полоской луна, ее тусклый, неживой свет стлался по сумрачной земле.
Анна Михайловна задержалась возле сруба. Дом вырастал из груды бревен, теса, вороха щепок, лежавших смутно-белой громадой. Чернели прорубы окон. Пахло смолой и сухими опилками.
«Будет ли мир в этом доме? – подумала Анна Михайловна. – Не понапрасну ли я затеяла… силы убиваю?»
Она понурилась и не обошла, как всегда, сруб кругом, повернула прочь. Ее пугали тишина и мрак. Все было мертво окрест: черные, будто нежилые избы, и тихие тополя, и белесая дорога с еще не остывшим песком, и темное небо с редким и слабым миганием зарниц. А страшней всего чудились поля, пустынные, короткие, точно обвалившиеся по краям в бездну.
Анне Михайловне стало тоскливо, и она пошла быстрее.
Летучая мышь с легким шорохом пронеслась над головой, чуть не задев платка.
– Ах, проклятая! – похолодев, отмахнулась Анна Михайловна.
Ей стало немного легче, когда она отыскала сына. Теребя лен на ощупь, Михаил как ни в чем не бывало мурлыкал песню. Видать, его не пугала эта мертвенная тишина ночи. Стебли мягко шуршали под его торопливыми руками, хрустели и падали комья земли. «Молодому и ночь – день белый и былинка – душа живая… – ласково подумала Анна Михайловна. – Певун ты мой незадашливый… воин во чистом поле… А брат-то дрыхнет… Ну, труд тебе на пользу».
Увидев мать, Михаил перестал мурлыкать.
Не говоря ни слова, Анна Михайловна подобрала готовые снопы, уставила в десятки и, зайдя с краю, принялась подсоблять сыну. Выпрямляясь, чтобы связать сноп, она оглядывалась вокруг, – тьма уже не была такой кромешной, глаза попривыкли, и матери не раз мерещилось, что она видит на конце загона человека, словно бы тоже теребящего лен.







