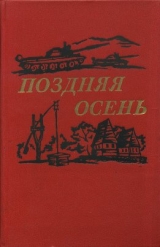
Текст книги "Поздняя осень (романы)"
Автор книги: Василе Преда
Соавторы: Елена Гронов-Маринеску
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 25 страниц)
– Я из Валахии…
В комнате было тепло, через приоткрытую дверь огонь отбрасывал на стены красноватые блики. Старуха поднялась, не спеша зажгла лампу. Илонка вышла по делам или просто хотела оставить их поговорить наедине.
– Значит, из Валахии. А где дом твой? – продолжала расспрашивать хозяйка.
– Под Бухарестом.
Женщина села на кровать, скрестив руки на груди, и молча смотрела на незнакомца, не зная, о чем говорить с ним.
– Хорошо, что зашли… – начала она. – Война-то еще протянется? Протянется… Боже, что будет с нами… С тех пор как этим летом убили мужа, я уж не знаю, на каком свете живу… Никакой-то надежи у меня нет. Хорошо, что еще дети, если бы не вернулся и Василе, я бы совсем пропала…
Она замолчала, поправляя рукой платок. Вошла Илонка, неся таз с водой, осторожно поставила его на горячую печку.
– … Перебиваемся и мы, как можем, – продолжала старуха, глядя в пол. – Что поделаешь. Может, вы и дети застанете лучшие времена. Ведь не зазря же столько людей погибло. Вас ранило, сыночек?..
Пришел Василе. Он остановился на пороге, в недоумении рассматривая сержанта. «Зачем я приехал сюда?» – только теперь спросил себя Никулае. На несколько мгновений в комнате повисла неловкая тишина, у всех на устах застыли невысказанные вопросы. Никулае первым пришел в себя. Он поднялся, подошел к Василе и пожал ему руку. Василе смущенно улыбнулся, узнав своего спасителя. Был он по-прежнему тем же долговязым подростком, которого Никулае встретил несколько месяцев назад, только, может быть, более спокойным, более уравновешенным, без страха и безнадежности в глазах.
– Ну что вы стоите, как на похоронах, – рассмеялась Илонка. – Воси, ты не забыл господина Никулае, ведь он наш крестный, приехал посмотреть, как мы поживаем.
Василе взглядом подал знак матери, та поднялась с кровати и торопливо направилась к двери. На пороге остановилась и сказала Никулае:
– Я рада, очень рада, господин сержант. Да хранит тебя бог!..
Вскоре она вернулась с плоской запыленной бутылкой, в которой болталась желтовая жидкость. Обтерла ее тряпкой, не спеша открыла, пошарила в шкафчике и достала оттуда две чашки, поставила их на стул посредине комнаты. В низкой комнате распространился терпкий запах сливовой водки.
– Палинка, – пояснил Василе, беря чашку и протягивая другую сержанту. – Бедный отец!.. Эту бутылку он хранил еще до войны…
Никулае выпил, закашлялся, лицо его побагровело. «Что, они думают, я приехал взять у них что-нибудь? – мелькнула мысль. – Я приехал, чтобы просто увидеть их. У нас люди вроде другие…»
В это время вошла Илонка с полотенцем, переброшенным через руку:
– Если хотите, можете умыться… А там и голубцы подогреются…
Сержант никогда не видел таких голубцов, величиной с большой мужской кулак. Он медленно разворачивал капустный лист, под ним открывался разваренный белый рис. Старуха снова вышла. Атмосфера мало-помалу стала теплеть. В какой-то момент Василе обхватил Илонку рукой, привлек к себе. Другую руку положил ей на живот.
– Она у меня в положении, господин сержант, с тебя, как с крестного, причитается, – проговорил он весело.
– Ну все, – ответил Никулае, поднимая чашку с палинкой до уровня глаз. – Как ты сказал, так и будет! Будьте счастливы! И ребенок чтобы был здоровеньким. Уговор дороже денег. Чтобы назвали его Никулае.
– Или Никулиной, – дополнила Илонка. – Ты не против?
– Нет! Ни в коем случае! – счастливый Воси засмеялся.
Лицо сержанта подобрело, теперь он чувствовал себя хорошо. Он расстегнул мундир, подтянул к себе рюкзак, извлек из него две плитки шоколада, протянул их женщине:
– Моему тезке. Авансом…
Потом из кармана мундира появились на свет несколько новеньких, шуршащих банкнот. Он вложил их в ладонь удивленной его жестом женщины и сказал:
– Я рад за вас. Купите, что хотите, ребенку. Прямо сейчас. Пусть лежит, хотя говорят, что это нехорошо, не приносит счастья. В такое время… А потом и деньги – сейчас хороши, а завтра кто знает… Счастья вам!.. Вот кончится война, я загляну к вам…
– А у тебя есть жена? – спросила Илонка, прижимаясь к Василе. – Как она выглядит?
– Есть, как же нет…
Потом Никулае начал рассказывать им о войне. Илонка настаивала, чтобы он снял повязку. Она была грязной, и к тому же сержант стеснялся снимать рубашку. Но женщина продолжала уговаривать, и Никулае уступил ее просьбе.
– Крестный, ты ведь не у чужих! Хорошо, что ты уцелел на фронте. А мы перебьемся, мы ведь молоды.
Скажи и крестной, и пишите нам. Ребенка назовем Никулае…
– Или Никулиной, – на этот раз дополнил ее Никулае смеясь и начал расстегивать рубашку. – Приеду, не беспокойтесь. Если я остался в живых до сих пор, то теперь мне сам черт не страшен. Мы подружились со смертью, так-то оно! Целыми днями с глазу на глаз, я растолковал ей, что лучше для нас обоих, если я останусь в живых…
Все рассмеялись. Потом Никулае пошел ложиться спать. И пока Илонка готовила ему постель, он украдкой посматривал на ее живот, будто пытаясь угадать, что скрывается за складками платья. Настоящий человек, конечно. Он будто уже видел его подросшим, уже разговаривающим с ним. Заснул он быстро. «Как-то будет, когда я стану отцом?» – с щемящей грустью спрашивал он, погружаясь в мир сновидений.
Глава восемнадцатаяЧерез два дня, утром, Никулае и Василе поехали в Клуж, оставив женщин в слезах. Василе ехал искать работу в городе – ведь он был опорой семьи. До прихода тепла еще далеко: могло пройти несколько недель, месяц. Зима в том году оказалась тяжелой, упрямой, повсюду царил голод, из траншей и лагерей люди приносили тиф и отчаяние. Страна напрягала силы, чтобы выправиться, одолеть военную разруху. Повсюду, в городах и селах, царило необычайное оживление.
К полудню, когда они подъезжали к городу, появилось солнце, от его лучей размяк снег на дорогах, с длинных сосулек на стрехах начали капать первые слезинки наступающей весны. Откуда-то слева доносился громкий треск, река пыталась освободиться от зимнего ледяного панциря.
Клуж встретил их толкотней и суматохой. Никулае показалось, что он снова очутился на огромной ярмарке. Столько народу он не видел даже в Бухаресте. Толпы людей, машины, повозки заполнили узкие улочки.
Парни добрались до центра, где жила дальняя родственница Василе, у которой они надеялись переночевать. Она жила в мансарде неподалеку от университета. Не застав ее дома, Никулае и Василе вышли снова на улицу, обогнули церковь Святого Михаила и статую Матиаша, пробиваясь через собравшуюся там толпу, и пошли к площади. Люди громко говорили о политике, группы юношей с бледными, измученными лицами ходили взад-вперед и выкрикивали коммунистические лозунги, фамилии, которые Никулае до этого никогда не слышал. По всему было видно, что они чем-то недовольны, что они хотят изменить жизнь. И призывают собравшихся стать в их ряды. В другом месте несколько человек вовсю торговали консервами, сигаретами, военной одеждой, американским мылом, лекарствами…
Никулае и Василе стали искать кафе, чтобы убить время, да и перекусить не мешало. Они вошли в «Корвин», где царила такая же атмосфера, как и на площади. Кроме того, там было темно и дымно. Они опять услышали разговоры о делах в стране, о Трансильвании, о коммунистах, о правительстве и забастовках, о наделении крестьян землей и еще о многом таком, что Никулае не мог даже понять. Он хотел подробнее разузнать об аграрной реформе, стал прислушиваться, но те, кто говорил о земле, сменили тему. Сержант начал думать, что из-за войны люди посходили с ума, и по-крестьянски решил, что самым правильным сейчас будет добраться домой, в свое село, где люди наверняка сохранили какую-то долю спокойствия, могли еще говорить не спеша и без того, чтобы колотить себя в грудь.
Друзья выпили по чашке кофе и вернулись в мансарду, где жила родственница Василе. В комнате горел свет. Их встретила худощавая старушка лет шестидесяти с остро выступающим вперед подбородком и большой бородавкой на левой щеке. Это была троюродная сестра матери Василе.
– Целую ручку, госпожа, – поздоровался с ней Никулае.
А она сразу:
– А у тебя тифа не было?
– Нет, только вот в плечо ранило, отпустили по чистой домой.
Потом пришел важный старик с бледным лицом и больными ногами и начал дотошно расспрашивать о войне, о том, где воевал, скоро ли кончится война…
На второй день старуха разбудила их на рассвете. Василе надо было идти на фабрику, она договорилась с каким-то мастером, тоже из соседей. Никулае пешком двинулся по дороге, забитой повозками, колоннами беженцев, возвращавшимися в родные края, покинутые после Венского диктата. Люди не разговаривали, они были сыты по горло скитаниями, холодом и голодом. Железная дорога на Турду все еще была закрыта, и там еще предстояли большие восстановительные работы. Так что путь домой обещал быть долгим.
По дороге сержант снова видел кругом следы войны – разбитые танки и машины по обочинам, брошенные колеса, каски, рваные ранцы, большие пятна машинного масла на начинавшем таять снегу. Ноги у него начали промокать, но он не обращал на это никакого внимания.
Да и плечо больше не ныло так, а напоминало о себе, только когда он неожиданно ступал в какую-нибудь ямку.
Никулае знал, что ему еще надо долго-долго идти до дому. И все его мысли были об этом.
* * *
Машины, поезда, повозки, дорога. Вены и артерии страны были ранены. Люди – ее живая кровь – текли по ним с трудом; но ими двигала огромная сила – тоска по брошенному дому. Никулае спал где попало, люди были не злые, но такие бедные, что ему не хотелось нигде задерживаться из-за страха заразиться их бедами. Дни проходили своей чередой, и каждый приближал на один шаг весну нового года и весну новой жизни.
В Брашове было спокойнее. На станции, забитой поездами, паровозами, людьми и дымом, он познакомился с ефрейтором из села, расположенного по соседству с его родным селом. «Пэтладжеле», – услышал он название села, произнесенное тщедушным старшиной, который в сопровождении двух жандармов с примкнутыми штыками проверял у ефрейтора документы. Старшина прохаживался взад-вперед, останавливался у того или иного военного, требовал предъявить документы, задавал разные вопросы.
Ефрейтор был высокий, бледный парень без одной руки. «Вот таким же мог бы быть и я, если бы мне не повезло», – подумал Никулае, глядя на него. Динкэ, так звали ефрейтора, воевал в 11-м артиллерийском полку, радовался, что остался в живых, пусть даже без одной руки. Главное, что он может вернуться домой, где у него оставались жена и двое детей – два мальчика.
– Бог помог мне выжить, – не раз повторял он Никулае в поезде по пути в Бухарест, – я еще буду жить, мне отняли только руку. И только теперь мне стало страшно, страшнее, чем на фронте, боюсь, как бы не попасть под поезд, не разбить голову – черепушка такая же хрупкая, как яичная скорлупа. Вот приеду к себе и запрусь в доме на месяц. Хм! Ха! Ха! Знаю, что в селе меня прозовут Одноруким, знаю я наших селян, а ты можешь звать меня Одноруким и сейчас, я не стану сердиться, надо привыкать. «А, это дети Однорукого», – будут говорить про моих ребят, а мне от этого ни холодно ни жарко. Зато мне дадут земли. Рука, без которой я остался, принесет мне не меньше двух погонов, чуешь.
Говорят, что я выполнил свой долг до конца. Важно, что мы возвращаемся, славу я оставил там вместе с рукой. Славой сыт не будешь и не согреешься. Нужна была моя рука – я отдал. Наш полковник говорил, что мы герои, покрыли себя славой. Но я уехал и оставил ее им. Мы – крестьяне, нам нужна земля, чтобы работать, жить, чтобы нас оставили в покое. Я уж привык без руки, пусть меня называют Одноруким, но я живой. Видишь, здесь уже сошел снег, весна, через две-три недели будем пахать, я еду в самый раз, мол даже не знает, что я еду без руки, я ей не писал. А ты женат?
– Ага, – ответил Никулае задумчиво.
– Детишки есть?
– Ага!
… В Бухаресте не утихали страсти. Пала прежняя власть, у всех на устах было имя Петру Гроза. Новому демократическому правительству предстояло многое сделать, люди говорили о нем с большой надеждой. Позавчера в городе состоялась огромная демонстрация, перед жителями Бухареста выступал сам Петру Гроза, и главное, думал Никулае, что он обещал дать крестьянам землю. Было отдано распоряжение о создании в селах комиссий по наделению крестьян землей, то есть от разговоров перешли к делу. Иначе было нельзя. Два заветных погона земли заменяли теперь ефрейтору Динкэ потерянную на фронте руку.
Но война еще не окончилась. Она еще кровоточила вдалеке, как открытая рана, а в ушах Никулае еще слышалось эхо разрывов снарядов и бомб. Да и смолкнет ли оно когда-нибудь?
* * *
Из столицы они направились до дома пешком. Никулае решил пройти этот путь по родной земле, через села, через поля, чтобы скорее забыть все то, что осталось позади. Он убедил и Динкэ не дожидаться поезда. Они будут идти весь день и к вечеру доберутся. Где на кэруце, где пешком. Он не хотел явиться домой днем, у него не хватало на это смелости. Что-то творилось с ним, его терзали сомнения: как рассказать о Думитру, как вести себя с Паулиной, о чем говорить с Анной…
Динкэ был весел, бледность с его щек сошла, он говорил без умолку и обо всем, перепрыгивая с одной темы на другую. Никулае не очень его слушал, но его присутствие было ему кстати, его слова, которые он и не слышал, помогали ему думать.
Он думал о Думитру, у него было впечатление, что идет домой рядом с ним, а не с одноруким разговорчивым ефрейтором. Он мысленно вел разговор с Думитру. О селе и, конечно, об оставшихся там их любимых. Вспоминал их ночные разговоры в холодных траншеях и окопах. «Не надо было тебе, Митря, идти тогда со мной… Даже если бы я там остался навсегда, понимаешь? Был бы жив ты!..» – «Да, но один из нас живет, Нику. Так случилось, что ты остался, что поделаешь! У нас не было выбора. Ты разве оставил бы меня? Одна из дочек Кырну все равно осталась бы без мужа!..» – «Но ведь у твоей Анны будет ребенок, не так ли? Это меняет дело. Из нас двоих ты должен был вернуться…» – «Анну не оставят в беде, помогут. Если нет, ты, Нику, позаботишься о ребенке, не так ли? Не останется он без крова и без куска хлеба». – «Конечно, Митря, так и будет, не останется…»
На перекрестке дорог он распрощался с Динкэ. Они обнялись и обещали друг другу встретиться через несколько лет. Дальше каждый пошел своей дорогой. Никулае осталось пройти еще немного. Одно-единственное село отделяло его от родного дома. Он устал, ноги горели, но тревожные мысли не отступали, не давали покоя.
В село он вошел уже поздно вечером. Путник, несущий в потертом ранце за спиной реликвии военной жизни, которая должна была уступить место другой, мирной. Ступал он ровно, обходя мелкие лужи посредине дороги. Остановился у корчмы в центре села. Никулае хотел задержаться здесь, у соседей, подольше, чтобы прийти домой, если можно, после полуночи. Корчма была небольшой. Несколько пожилых крестьян стояли вокруг стола, освещаемого тусклой газовой лампой. Ему вежливо уступили место, перестали разговаривать. Один из крестьян пододвинул ему стул, другой поставил перед ним рюмку цуйки.
– Все, господин сержант?
– Все, люди добрые! – ответил Никулае, тяжело вздохнув и опускаясь на стул.
Люди действительно были добрые. Они обрадовались, узнав, что он из соседнего села. У одного из них там были родственники, он стал вспоминать о них. Но сержанта тяготил этот разговор, и, чтобы переменить тему, он начал рассказывать им про фронт. Он знал, что это их интересует. Время от времени он подносил рюмку ко рту. Слушали его с благоговением, ведь у многих крестьян на фронте были сыновья и братья. Не слышал ли он о таком-то? А о том? Нет, не слышал. На фронте все солдаты одинаковы. У всех винтовки, сделанные на одном заводе. Один солдат, одна винтовка. И лошади все одинаковы. И невидимые, свистящие в воздухе пули. И смерть одинакова, и крики умирающих. Люди являются самими собой только вне войны.
Он оставался в корчме долго, все разошлись, и только двое местных жителей слушали его, спокойно затягиваясь цигарками и качая головой. Корчмарь храпел на стуле с кэчулой на голове возле черной печурки, огонь в которой давно погас. Никулае решил уходить. Встал, покачиваясь скорее от усталости, чем от выпитого. Чистая прохлада мартовской ночи обволокла его. Теперь он направился в сторону родного села твердым, уверенным шагом. Он что-то решил для себя, и это придало ему силы.
Лужи и снег, перемешанный с грязью дороги, подмерзли. Хрупкие кости уходящей зимы ломались под его солдатскими ботинками. Он снова мысленно повел разговор с Думитру, тяжелый разговор о долге и чести, о Паулине, об Анне и ее будущем ребенке. Но он, крестьянин Никулае Саву, для себя все уже решил! Война научила его многому, и главное – он знал теперь цену жизни и смерти.
Когда его шаги прогрохотали по деревянному настилу моста у входа в село, он окончательно вернулся к действительности. Он – дома. Сержант был доволен окружающей тишиной, глубоким покоем, в который были погружены дома. Несколько собак во дворах залаяли на него из своих конур, поленившись подойти к воротам. Они лаяли скорее от скуки, и он не обращал на них никакого внимания. Не обратил он внимания и на Цыгана.
Тот узнал его и заскулил, начал тереться у его ног своей свалявшейся, жесткой шерстью. Вышел Миту в одной рубашке и, увидев брата, заплакал.
– Ну все, брат! Конец! – медленно выговорил он, похлопав его по плечу и снимая ранец.
На небе луна спорила с облаками. С выгона дул сухой, бодрящий ветер. В доме было прохладно. Но Никулае было тепло.
Глава девятнадцатаяВернулся Никулае, сын Саву! Село узнало об этом быстро, с первым ведром воды, взятым на рассвете из колодца на углу улицы. «Эй, вернулся, сегодня ночью!» – «Цел-целехонек?» – «Говорят, будто его комиссовали, раз пришел из госпиталя…» Услышали и Никулина Матея Кырну, и ее дочки.
Около обеда Паулина прошла так, без дела, по дороге напротив ворот дома Саву; во дворе никого не было, дом казался пустым. «Войти? Позвать Ляну?» Ведь у нее были на то основания, все село знало, что она невеста Никулае. Она не пряталась, к чему это, она терзалась, была как на иголках, хотела видеть Никулае, знала, что он ранен, ведь последнюю открытку она получила от него из госпиталя. Но у нее не хватило смелости войти, позвать кого-нибудь, и она довольствовалась тем, что погладила Цыгана и пошла дальше до Мии Чиоатэ, потом вернулась домой, бросилась на кровать и разрыдалась. Она не хотела разговаривать ни с Анной, ни с матерью, ни с кем.
После полудня мужчины, как всегда перед посевом, собрались в круг на повороте дороги. Здесь говорили обо всем, можно было узнать свежие новости, каждый выкладывал, что он слышал, обсуждали дела на фронте, говорили о земле, об аграрной реформе, о том, пора ли проращивать для посадки картошку, есть ли семена для посева, и какие… Приближалась весна, и она, как никогда, волновала людей, они ожидали чего-то такого, что круто изменит их жизнь, и боялись, что эти перемены застанут их врасплох. Это «что-то» должно было прийти то ли с фронта, то ли из Бухареста, то ли от бога… Разговоров об этом было много, всех томила неизвестность.
Матея на поворот дороги послала жена узнать, что с Никулае, может, он встретит его там или хотя бы Миту увидит. «Будь там, пока выйдут Саву», – напутствовала она мужа. Но Саву все не появлялись.
И остальные ожидали Никулае, каждый по очереди высказывая свои предположения. Наконец подошел Миту в наброшенной на плечи фуфайке. Заложив руки в карманы, он сказал, что с Никулае все в порядке, здоров. «Как пришел сегодня ночью, сразу лег спать, даже ничего не ел, думаю, и сейчас спит. Здорово устал, наверное, но с ним ничего не приключилось». Все успокоились и начали говорить о другом, ведь им многое надо было обсудить, решить.
Но Никулае не спал. Он поднялся рано утром и все сновал по дому, перекусил немного, потом открыл окно и закурил. Курил и думал о своем. Уходя, Миту спросил, не хочет ли все же он пойти с ним на сходку, но он отказался. Предпочел остаться один со своими мыслями, накопившимися за это время после скитаний по разным местам. Оп смотрел, не отрываясь, на белую стену и думал свои думы. Временами ему чудилось, что на белой стене перед ним, как на экране, движутся тени, проплывают образы далекого мира, живого, но немого: лошади, солдаты, орудия, траншеи, опять лошади, опять солдаты… Он чувствовал себя нормально, ничего у него не болело, но душа была искалечена. Никулае понимал это, как и то, что обязательно должен выяснить свои отношения с дочерьми Матея Кырну, если не хочет помешаться, если не хочет, чтобы его душа разлетелась на куски от напряжения.
«Все, война кончилась! – говорил он себе. – Для тебя кончилась. Ты остался в живых, тебя впереди ожидает жизнь. Вот приходит весна, ты должен пахать, сеять, государство и тебе даст, как слышно, клочок земли, ты женишься, построишь дом!..» Но оптимизм, ободряющие слова не доходили до сердца, не могли разрушить что-то внутри него. Ему даже стало страшно: он испугался не будущего, нет, а того, что могло с ним случиться на фронте; только теперь сержант начал чувствовать страх перед смертью, которая подстерегала его столько времени, черное крыло ее столько лет висело над ним. В этом все дело: он видел смерть в лицо, своими собственными глазами, жил рядом с ней, в ее царстве. А из царства смерти никто не может вернуться таким же, каким он вступил в него. Он тоже не мог. Будто умер, и домой вернулись только имя и мысли, которые стучали в виски, терзали душу.
Вечером к нему в комнату вошел младший сын Миту и пригласил его на ужин. Никулае вошел и сел на стул за их круглый стол на трех ножках, их родительский стол. Ляна поставила на стол три миски с картофельным супом. Одну для Миту и ее самой, другую для детей, третью для Никулае. Он сразу начал есть, боясь, что его спросят о чем-нибудь, а ему не хотелось разговаривать, что-то объяснять. Дети, не спуская глаз с отца, притворялись, что бормочут молитву, толкали друг друга под столом, потом с любопытством уставились на дядю, который ел, не поднимая глаз от тарелки. Миту тоже взял в руку ложку и подал знак детям, чтобы они не озирались по сторонам.
– Нене [3]3
Нене – обращение к старшему по возрасту, уважаемому человеку.
[Закрыть], – осмелился Санду, старший, – сколько человек ты убил на войне?
Отец ударил его обратной стороной ладони, ребенок хмыкнул, опустив голову. Никулае замер с ложкой в руке. Но только на мгновение, потом все погрузили ложки в горячую похлебку.
* * *
Никулае не понимал, зачем он вернулся домой, почему не остался где-нибудь в Трансильвании или хотя бы в Бухаресте. Что он, не знал, какая жизнь в его родном селе? Ведь он повидал мир, многое понял. Какой смысл было убивать свою жизнь, схоронив себя заживо в бедности, от которой из поколения в поколение не мог отделаться его род? Поступил бы где-нибудь на работу, стал бы работать, работы-то он не боялся, война научила его быть более упорным, чем был прежде. Помимо прочего, она научила его каждый раз начинать все заново, делать все самому, не заглядывать на дела других, научила доверять самому себе. Ради чего он здесь? Ради клочка земли, которая переходила ему по наследству, ради дома в Арсуре? Он мог продать их, попытать счастья в другом месте. Тогда – из-за Паулины? В конечном счете она такая же девушка, как всякая другая. На фронте он усвоил и это: люди в любое время могут быть заменены другими. И его место в строю там, на фронте, занял кто-то другой. Незаменимых нет. И Паулина может быть заменена в его сердце другой, так же, как и он в ее сердце. Люди – крепкие и выносливые существа. А Думитру? Здесь все обстояло сложнее.
На другой день он также оставался дома, безвольно шатаясь по комнатам, заполненным со временем разными мелочами, и нигде не находил себе ни места, ни дела. Он очень хорошо знал, что его ожидают люди, все село, что он должен зайти хотя бы в примэрию, знал, что в доме Матея Кырну все разговоры только о нем. Но у него еще не было достаточно сил. Раны в душе зарубцовывались с трудом, он еще был не в состоянии показаться на людях. Ему нечего было сказать им. Но, может быть, людям было о чем поговорить с ним.
После обеда в их дворе появился жандарм, Никулае уже видел его прошлым летом, когда приезжал в отпуск. Жандарм не изменился, да и времени прошло не так уж много. Возможно, Никулае думал, что изменился он и что люди не узнают его. У жандарма было, как и раньше, красное, продолговатое лицо, снедаемое внутренней болезнью. «Что этому нужно от меня?» – подумал Никулае.
Жандарм принес ему воинское письмо. Фактически очень длинное извлечение из военного приказа. С номером, со всеми другими данными. В приказе речь шла о нем:
«… Ты, товарищ Саву Никулае, сержант призыва 1938 года, принял участие в великой битве за освобождение Трансильвании, благодаря и твоей храбрости, и героизму враг был разбит, изгнан и уничтожен. Блестящая победа горнострелкового корпуса останется в веках. Ты можешь с гордостью рассказывать односельчанам о героических боевых подвигах, совершенных тобой и твоими товарищами, горными стрелками.
Не забудь сказать им, что бойцы горнострелкового корпуса в течение 5 дней одни вели бои на фронте протяженностью 50 километров с пятью вражескими дивизиями, вооруженными до зубов, располагавшими многочисленной авиацией, которая днем и ночью обрушивала на вас смерть. Пусть знают люди, что противник днем и ночью непрерывно атаковал вас крупными силами. Что не раз тебя окружали вражеские танки. Но это не испугало тебя. Ты непреклонно стоял на своем посту, переносил голод, жажду и холод, не впал в отчаяние и не потерял веру в победу!
Ты можешь с полным правом сказать, что погибшие были отмщены, что горные стрелки вписали одну из самых славных страниц в историю войны против фашистов!
Не забудь сказать, что раненые молча переносили страдания!
Ты можешь с гордостью сказать, что выполнил клятву, данную родине! Ты принял участие в самых важных боях горнострелкового корпуса!
Генерал…»
Подпись была неразборчива. Никулае прочитал приказ несколько раз, жандарм тем временем исчез. Неужели это о нем, Никулае Саву, речь в приказе? Он не мог себе этого представить. Храбрость, героизм, слава? Подпись генерала. При чем тут он? Ошиблись, перепутали имена? Неужели он в самом деле принимал участие в событиях, о которых идет речь в бумаге?
Все это осталось в прошлом… Он вернулся домой, в родное село. Все, о чем писалось в приказе, его не касалось. Это осталось там, с Думитру, с рукой ефрейтора Динкэ, с глазом Иона, на полях сражений, среди взрывов, среди убитых, осталось позади, в воспоминаниях. Слава, если он чувствовал свою причастность к ней, осталась там, он не взял ее с собой, ему нечего было делать с нею. Он воевал не ради славы. Он воевал за землю, за страну, за то, чтобы люди были более счастливы, воевал потому, что так надо было.
Если бы сержант получил такое письмо на фронте, то, возможно, и понял бы его. Там он был другим человеком. У него было воинское звание, он выполнял боевую задачу, от которой зависели жизнь и смерть других. И еще у него была вера, он сам не мог бы сказать, откуда он приобрел эту веру в полную справедливость того, что он делал. Здесь, в селе, он мало-помалу снова становился крестьянином и не мог думать по-прежнему. Правда, ему нужно было еще время, чтобы перестроиться, измениться, снова стать тем, кем был раньше. Возвращение к мирному труду проходило болезненно, истощало силы его души. Нет, нет, он был крестьянином, к черту сержанта Никулае Саву, он просто Никулае, сын Саву, который хочет взять в жены дочку Матея Кырну. Война отдалилась, возможно, даже кончилась, и ее события отдалялись с каждым днем.
Он снова и снова с удивлением читал слова о своих подвигах. Все это казалось ему вымыслом, Никулае не мог представить себя на месте героя, о котором шла речь в письме.
Он выучил приказ наизусть. Чем больше перечитывал его, тем больше запутывался. В начальных классах учитель Предеску иногда заставлял его учить стихи Преды, Бузеску, Груи… Он читал стихотворения и не мог себе представить описанные в них события. Но все-таки он испытывал удовлетворение, когда декламировал их. Они говорили о далеком времени, и о далеких местах, о людях, которых давно не было в живых. Так и с этим письмом. Ему было непонятно, как его имя попало на бумагу, оказалось среди слов, взятых из какой-то книги, написанной давно о людях и событиях из другого времени.
* * *
На третий день он встал с утра и пошел в сад. Спал он хорошо, хотя ему и снились тяжелые сны. Снилось, что он никак не может попасть в свое село. Люди, которых он спрашивал, даже не слышали о таком селе, пожимали плечами и продолжали заниматься своим делом. Когда он проснулся, его лоб был покрыт испариной. На улице стоял хороший весенний день. «Ленится мой братец Миту, – думал он, шаря под навесом в поисках лопаты. – Вот-вот придет тепло, а он и не думает браться за дело. До обеда ходит в одних подштанниках».
Настоящий мартовский день. Ярко светило солнце, легкий ветерок просушивал землю и опавшие минувшей осенью листья. Никулае взял грабли, сгреб листья, сложил их кучками на прошлогодних грядках, где росли овощи. Потом принялся копать влажную землю. Земля была мягкой, своей, домашней. До этого ему приходилось копать землю твердую и мерзлую, так что теперь у него было впечатление, что он не копает, а балуется.
– Ляна, сколько грядок тебе сделать? – спросил он свою невестку, которая появилась во дворе с охапкой сухого хвороста для печки.
– Делай сколько считаешь нужным, – ответила женщина, бросая хворост возле летней кухни.
Санду и Никулае, сыновья Миту, набрали еще сырых листьев и подожгли. Им было весело. Они прятались в густой пелене – дым растекался между домами, заполняя все вокруг крепким кисловатым и удушливым запахом. Где-то сзади, вероятно на ореховом дереве в глубине сада, просвистела синица.
Никулае копал. Мягкая земля легко поддавалась ему, как бы узнавая. Большие, черные пласты он разбивал затем лезвием лопаты и мысленно уже видел грядки с луком, чесноком, салатом, редиской, позднее – со сладким перцем и помидорами. Работал он с упорством, даже с яростью, будто хотел наверстать упущенное время, нагнать самого себя, прежнего.
К обеду он вспотел и остановился передохнуть. Он стоял, опершись на черенок лопаты, и медленно затягивался цигаркой. Залаял Цыган, оповещая о появлении постороннего человека. То был Матей, Матей Кырну, в коричневой грубошерстной куртке и в сдвинутой на затылок дымчатой кэчуле. Он направился прямо к Никулае, коротко поздоровался с ним, будто они виделись всего лишь вчера и им надо было продолжить прерванный разговор, выяснить кое-что. Некоторое время оба молчали, рассматривая свежевскопанную землю.








