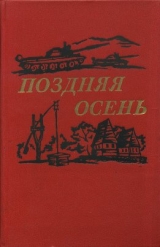
Текст книги "Поздняя осень (романы)"
Автор книги: Василе Преда
Соавторы: Елена Гронов-Маринеску
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 25 страниц)
– Он в церкви, господин сержант, – пробормотал невнятно ефрейтор.
– … Мать вашу! Церковь – это больница вам, что ли? Что, вы не знаете, что надо делать?
– Умер он, господин сержант. Вы притащили его мертвым. А сами были без сознания.
Никулае снова впал в беспамятство. Если можно назвать беспамятством то состояние, когда у него внутри будто все рухнуло. Он ничего не понимал. Или не хотел понимать. Он столько повидал за это время, столько людей умерли на его глазах, но сейчас он ничего не соображал. Сержант падал в пропасть, безостановочно, без боли, в неведении. Может, это и есть смерть? Как падение или как полет в неведомое? А в конце? Плоть осталась его, Никулае Саву, повидавшего в жизни столько мест, или осталась только его мысль? Смерть равносильна непониманию. Умереть – значит утратить способность понимать. Навсегда. Только за непониманием ничего не следует. Смерть – это непроницаемое стекло, через которое не видна даже сама мысль!
Он очнулся в санитарных санях, в которые его перенесли санитар и двое местных жителей – словаков. Сани были без верха, в них было наложено сено, его запах и вывел Никулае из оцепенения. Санитар сел рядом с ним на боковину саней и смотрел на него. Возница поднялся на облучок, сани тронулись.
Никулае было приятно чувствовать раскачивание саней, и в те моменты, когда боль оставляла, ему казалось, что он плывет по теплой воде, как в одно из лет своего детства. К чему это неотступное возвращение в детство? Почему все что с ним случается, обязательно воспринимается сначала через призму детства?
Морозный воздух лип к ноздрям, старался проникнуть в грудь, вернуть его к действительности, от которой он всем своим существом хотел скрыться. Болело в груди, ныла рука, которую бинты стягивали, словно тиски.
– Сначала отвезите меня к церкви! – приказал он санитару, схватив его здоровой рукой за рукав, чтобы подтвердить свое приказание.
Через несколько сот метров сани остановились.
– Вот церковь, повернись немного и увидишь ее, – сказал санитар.
– Э, а где господин лейтенант?
– Его уже похоронили. Стэнеску сказал мне, что его похоронили перед церковью. Примерно час назад. Были и наши, дали залп из минометов, чтобы отдать последние почести, ты не слышал? Видишь, вон там, отсюда и крест виден…
У Никулае комок подкатил к горлу, будто в него вцепились стальными когтями. Он, пересиливая боль, приподнялся на локте, увидел покрытый снегом купол церкви, потом внизу, перед церковью, участок затоптанного и запятнанного черными комьями земли снега. Рядом крест высотой с ребенка с надписью, которую он не мог разобрать. Крест примостился у молодого дерева с гладкой, матово поблескивающей корой – у липы или шелковицы. Могила – как всякая другая. Знак. Не смерти, а прошедшей жизни. «Человека никогда нельзя похоронить. Его близкие хоронят лишь воспоминания о нем. Они это делают для самих себя. Тот, о ком идет речь, давно свободен. Но все же людям трудно смириться с мыслью, что они не могут больше видеть родное лицо, не могут слышать его голос, что тот не может теперь быть среди них. Тогда они одевают его в саван забвения, пытаясь избавиться от него. Бегут от него. Они страстно любят его в последний раз, чтобы можно было быстрее навсегда забыть его».
Никулае со стоном рухнул в холодную кучу приятно пахнущего сена. Потом посмотрел в сторону могилы, чтобы как можно лучше удержать в душе образ этой церкви, этого дерева, холмика с комьями земли вперемешку со снегом, крестом над ним.
Он посмотрел в глаза санитару и спросил тихо и будто боясь услышать название незнакомого ему населенного пункта:
– Как называется село?
– Не знаю, господин сержант. Но я спрошу. Я вас провожу до выезда из села.
Дорога была крепко скована морозом, громко стучали копыта лошади, полозья подскакивали на ледяных выступах или тихо шуршали по нетронутому снегу. Через некоторое время сани остановились. Санитар сошел с саней, до Никулае донеслись голоса людей, которые, по-видимому, с трудом понимали друг друга. Потом Никулае увидел склонившееся над ним хмурое лицо ефрейтора-санитара.
– Село Зинек, господин сержант, так говорят местные, если я их правильно понял. Зинек.
– Зинек… – тихо повторил Никулае.
Слово упало, словно эхо, в память, вызвав к жизни другие неизвестные звуки, которые не стихали; еще одни голос, еще другой повторяли его то тихо, то громко, букву за буквой, будто отыскивая в нем скрытый смысл. Он знал, что в любом случае никогда не сможет забыть это слово.
Санитар попрощался с возницей и Никулае, и сани тронулись дальше.
Часть третья
Глава шестнадцатаяСуровый, безжалостный февраль. Холод повсюду настигал людей.
В полевой госпиталь поступало бесчисленное число обмороженных. Никулае все ночи слышал их крики, исходившие будто из самого ада. Нечеловеческие, протяжные крики, от которых у него внутри все содрогалось. Иногда крики переходили в пронзительные вопли – хирурги ампутировали конечности.
Война всему находила радикальные решения. С людьми поступают так же, как с деревьями в саду, когда у них обрезают засохшие ветки. Но у людей, в отличие от деревьев, никогда не появляются новые побеги. Ни в одну весну.
Никулае поместили в небольшой сельский дом. Три смежные комнаты, двери между которыми были сняты с петель. Образовалось нечто наподобие вагона с двумя перемычками – стенами. В средней комнате находились санитары. Они толпились вокруг печки-времянки, которая не остывала ни днем ни ночью. На ней постоянно стоял большой таз с отбитой эмалью, наполненный снегом, из которого получали воду. В двух других комнатах вдоль стен разместили раненых.
Вначале Никулае было тяжело, особенно в первую ночь. У него было ощущение, что вся его кровь собралась в опухшем плече, что само сердце переместилось туда. Он тихо стонал в хоре с несколькими пехотинцами, доставленными в один с ним день. Потом он понял: все, что он мог сделать, – это ждать около месяца, как сказал ему доктор, и тогда он будет «пригодным к строевой». «Но прежде, послушайте меня, вам дадут отпуск, господин сержант, – шепнул ему на ухо санитар после обхода, но так, чтобы слышали и другие раненые. – Не думаю, что вы попадете снова на фронт. Как только наступит весна, немцы сдадутся, вот увидите. Сейчас они зарылись в сугробы, и им еще не приперло. Они не знают, что им делать».
Но сильнее всего у него болело не плечо. Не давали ему покоя мысли о Думитру. Перед его глазами в часы бессонницы проходили образы убитых, разорванных на части осколками снарядов, пронзенных штыками, пробитых пулями. Они умирали на его глазах, некоторых он хоронил сам. И каждый раз, когда он накрывал их землей, то чувствовал, как в него переселяются и навсегда остаются в душе их образы. Только теперь он четко осознавал: со смертью Думитру умерла половина его самого. При свете попыхивающей свечки, прилепленной к краю жестяного ведра с водой, он мучился над открыткой, которую писал Паулине. «У меня все хорошо…» – начал он и улыбнулся про себя. Никулае ничего не хотел ей рассказывать о ранении. На фронте, если избавился от сиюминутной опасности расстаться с жизнью, от огромного напряжения, которое вот-вот обрушит на тебя нечто оглушающее, ослепляющее и вечное, – значит, «у тебя все хорошо». Остальное не в счет. Отрезанные руки, выколотые глаза, разбитые зубы – все равно «у тебя все хорошо». То есть ты жив и тебя не подстерегает никакая пуля. Он написал немного, хотя у него было достаточно времени. Никулае с трудом выдавливал из себя слова, они нехотя ложились на бумагу из-под химического карандаша. Ему нечего было сказать Паулине, он чувствовал неловкость от своих собственных мыслей. Вставил несколько фраз и для Анны, чтобы ободрить: надо заботиться о ребенке, что поделаешь, такова уж война, каждый день гибнут тысячи людей, смерть не выбирает, у некоторых дома осталась куча детей, все будет хорошо… «Хорошо? – Он опять горько улыбнулся. – То есть мы будем жить! А что бы написал ей Думитру, что бы ей сказал?»
Солдатские письма похожи друг на друга и почти всегда начинаются примерно так: «Мне хотелось бы, чтобы, когда вы получите эти мои несколько строк, вы были счастливы и здоровы. О себе могу сказать, что здоров, беспокоюсь за вас…», а кончались словами: «… поскольку нет больше места, говорю вам «до свидания», крепко целую вас и всю нашу родню…». Да, люди пишут друг другу, лишь чтобы сказать: «Жив, здоров», остальное все не имеет значения, так – словесный балласт. «Жив» – какое емкое слово! «Жив – значит не мертв, как Думитру…» Все же он заключил письмо словами: «Может, скоро приеду домой».
В левом углу стандартной почтовой открытки он аккуратно вывел адрес… Положил бумагу под подушку. На дворе, как изголодавшийся волк, выла вьюга. В средней комнате, словно маленький паровоз, гудела печурка. У санитаров выдалась свободная минутка, и они, стоя вокруг печурки, курили. Никулае тоже не отказался бы от цигарки…
Он встал, перекосившись от боли в плече, опираясь правой рукой о край железной койки, покрытой скомканным коричневатым одеялом и его шинелью. Сделал несколько осторожных шагов, чтобы не задеть кого-нибудь и не наступить на разбросанные по полу вещи. В какой-то момент резко остановился, прислушиваясь. Сержанту показалось, что его кто-то окликнул. Будто с улицы. Его назвали Нику, Нику, а не Саву, как к нему обращались раненые и санитары, Нику! Он хорошо слышал мягкий и тревожный голос за заиндевелым, темным окном, которое отделяло его от вьюги. Конечно, то был голос Думитру, он не мог его спутать ни с каким другим.
По всему телу с головы до пят пробежала дрожь, и Никулае снова почувствовал резкую боль в плече, будто когти невидимого коршуна впились в него и не отпускали. Он вернулся и, охваченный беспокойством, вытянулся на койке. Прислушался: эхо того голоса еще не заглохло в нем. Оно бродило где-то рядом с ним. Что же это было? Неужели галлюцинация? А может, это просто ветер?..
Капрал с соседней койки, у которого осколок вырвал глаз, со стоном повернулся к нему:
– Ну что, не можешь заснуть? Я тоже не могу.
– Да, не могу, – не сразу, шепотом, ответил ему Саву.
Потом сержант снова ушел в себя, настороженный. Но ничего больше не услышал. Только опять, как всегда в полудреме, будто на экране, перед его глазами поплыли образы, лица. Немой фильм с порванной во многих местах лентой. Никулае уже никогда больше не сможет остаться один на один с собой. Эти образы поселились в нем, создали свой мир. Мир, от которого он не мог ни отделаться, ни скрыться. Или, может быть, он ошибался. Нет, не вселялись в него, а скорее проистекали из него. Только так он мог истолковать и услышанный им только что голос. Он пришел не снаружи, а как бы изнутри него. Фактически он окликнул самого себя, только голосом Думитру.
* * *
Соседа-капрала звали Ион Асандей. Он был с гор, из-под Бузэу. Никто из раненых не называл его кривым. Тем более санитары. Он сам себя прозвал так. Шутник, он нашел в случившемся с ним повод для шуток.
Осколок ударил его по глазам в момент взрыва. «Какой черт дернул меня высунуть голову из окопа, – рассказывал он при каждом удобном случае. – Будто получил оплеуху по глазам. Все время в глазах стоял яркий свет, а голову будто сунули в пламя. Осколок срезал бровь и выбил левый глаз. Когда пришел в себя, я был весь в крови. Посмотрел вниз правым глазом и увидел на снегу мой глаз. Я перепугался, схватил его со снега, завернул в платок и положил в карман: думал, что доктора поставят мне его на место. Ведь он был совсем целехонек. Когда я положил его на ладонь, он смотрел на меня. Понимаешь, что значит видеть себя не в зеркале, а как говорят – смотреть самому себе в глаза. Я закрыл выбитый глаз кэчулой и заорал. Другой глаз был целым, но в затылке была такая страшная боль, будто туда всадили штык и не вынимали. Я упал в обморок. Когда очнулся, знаешь, совсем ничего не видел. Ну, думаю, ослеп, уж лучше бы мне тот осколок голову продырявил. Только через некоторое время снова увидел свет, ты не представляешь себе, что значит опять увидеть свет. Было будто раннее утро, все виделось как в тумане, свет резал здоровый глаз. Я показал санитару глаз, который достал из кармана: возьми, мол, его, отнеси господину доктору, пусть поставит на место, ведь он цел. Тот выпучил на меня глаза, как на сумасшедшего, но пошел, понес мой глаз, как он был в платке, доктору. Вернулся, говорит: «Нельзя, господин капрал». Я готов был схватить его за глотку. Потом и сам доктор сказал, что нельзя, отдал глаз назад, мясники они, из-за них я остался кривым. Ты тоже думаешь, что нельзя было? Просто хотели отделаться от меня побыстрее, готово, давай следующий! Ну попадутся они мне на пути, я посчитаюсь с ними по-своему. За то, что остался кривым, – кому я такой нужен? А доктор еще говорит, ну что ты переживаешь, ведь у тебя остался один глаз и ты будешь видеть, это главное. Что ему до того, что я теперь буду видеть мир только наполовину. Ведь не он остался без глаза, ведь не над ним будут насмехаться люди».
Ион тянулся к Никулае, и они подружились. Всего в маленькой комнатушке было шестеро раненых, и они большую часть времени рассказывали друг другу разные случаи из своей жизни. У окна лежал раненный в легкие, всем нравилось, как он рассказывал. Он умер первым. Харкал всю ночь, стонал, бормотал непонятные слова, имена. Через два дня после него от заражения крови умер капрал Ион.
Никулае первым обнаружил это. В комнате было холодно, и под утро он проснулся, весь закоченев. Ион лежал непокрытый и не двигался. Никулае протянул к нему здоровую руку, чтобы натянуть одеяло, задел его пальцы – они были ледяными.
* * *
«Почти все, сержант! – сказал ему врач, капитан. – Кости срослись, им только надо закрепиться. Через несколько дней снимем гипс, и ты можешь уезжать. Мы тебе приготовим документы. Хотя не забывай, ты еще не полностью поправился, какое-то время тебе надо беречься».
После обхода врача санитар вернулся к нему веселый и попросил закурить.
– Вернешься домой, господин сержант: я видел твою бумагу, тебя демобилизуют. Для тебя война кончилась! Пройдешь комиссию – и все. А немцы сдадутся…
* * *
День выдался противный. Зима упрямилась, хотя уже февраль был на исходе. Стояли морозы. Дороги были разбиты – снег, перемешанный с грязью колесами и гусеницами. На небольшой станции, куда Никулае большую часть пути добирался пешком, он провел целый день. Станция была забита солдатами. Слышалась в основном румынская речь. Чехи, занятые своими делами, говорили мало и тихо, как хозяева, которые не хотят мешать гостям. Только несколько бродячих торговцев, предлагавших сигареты, еду, разную военную одежду, говорили по-местному. А так повсюду слышались только румынские слова, румынские имена. Да и здания были такие же, как на какой-нибудь станции в Трансильвании.
Большинство эшелонов направлялось в сторону фронта… Около сотни румынских военных, главным образом раненых, бесцельно бродили по станции, ожидая, когда их отправят на родину. Одни ковыляли на импровизированных костылях, другие размахивали пустыми рукавами шинелей, у третьих руки, лица были обмотаны бинтами. Вокзал походил на больницу с ходячими больными, терзаемыми одним желанием – как можно скорее уехать оттуда, чтобы провести оставшуюся часть жизни подальше от фронта. Домой! На родину!
Но их эшелон все не подавали. Железнодорожный путь, занесенный местами снегом, особенно вдоль здания вокзала, пустовал. Около полудня проследовал эшелон с советскими войсками, потом румынский – с боеприпасами, но их эшелон задерживался. Румынский старшина, комендант станции, уже не осмеливался выходить из заполненного табачным дымом кабинета, где телефон звонил непрерывно, но все не сообщал о подаче долгожданного эшелона.
Наступил вечер. Высоко в небе прожужжал самолет и удалился в направлении фронта. Но теперь никто не обратил на это внимания. Возможно, все отъезжавшие уже начали забывать о войне. Конечно, то, что можно забыть… Прежде чем совсем стемнело, комендант вышел наконец из кабинета с повешенным на раненую руку фонарем. К перрону подавали состав. Румынские солдаты узнали его по паровозу «Малакса», который, въезжая на станцию, угрожающе шипел.
Все бросились к вагонам. Бегом, толкаясь, размахивая во все стороны и задевая друг друга деревянными солдатскими чемоданами. Каждый старался занять место получше, потеплее, чтобы можно было укрыться от проникающего со всех сторон ветра и холода. Путь им предстояло проделать долгий, поэтому солдаты устраивались в вагонах основательно, зная, что ехать будут не один день. Торопились, ругались, звали друг друга. Начальник эшелона, артиллерийский майор, пытался навести порядок. Кричал на солдат, подталкивал их в вагоны, как будто и сам торопился. Солдаты задавали бессмысленные вопросы, опасаясь, что вагоны могут увезти их еще дальше от родных мест. Состав стоял на станции два с половиной часа.
Была ночь, когда эшелон наконец тронулся с места.
Пассажиры спали в вагонах. Они уже были не на чужой земле. Не успели люди подняться по ступенькам вагонов, и все изменилось, как по мановению волшебной палочки. Они начинали чувствовать себя дома. Мало-помалу, метр за метром. Доски вагона пахли чем-то родным, и этот запах был больше, чем надежда на скорую встречу с родиной, – он вселял уверенность, придавал силы.
По всем вагонам прошел радостный гул, смешавшийся со стуком набиравших скорость колес, с воем ветра, начавшим проникать через щели в досках, с шумным пыхтением паровоза, выбрасывавшего снопы искр и клубы пара на потемневшие от сажи сугробы по краям железнодорожного полотна.
В товарном вагоне, где отыскал себе местечко и Никулае, было темно, и соседей невозможно было разглядеть. Люди сидели, тесно прижавшись друг к другу. В углу солдат запел песню, которая все набирала силу. И пелось в той песне о солдате, который остался лежать в Татрах, а дома жена спрашивает у вернувшихся в село, где остался ее муж. И крошка сын не знает, кого ему называть отцом.
Колеса вагонов мерно стучали по промерзшим рельсам. Крылья сна витали над головами, но люди не хотели отдаваться во власть ночи. Они знали, что начинают новую жизнь, и их охватывало волнение перед будущим – неизвестным, но таким желанным.
Та песня затихла: может, устал невидимый певец. Но не надолго. Вскоре снова послышался голос, возможно, тот же самый, сливавшийся с монотонным перестуком колес. На этот раз в песне говорилось о солдате, который остался без ног и без одной руки и просит своих возвращающихся домой земляков не говорить об этом его матери и невесте.
Глава семнадцатая
Да они и не могли спать в таком холоде. Забили всем, чем могли, щели в полу, в потолке, в стенах вагона из еловых досок, будто хотели полностью отгородиться от внешнего мира, ничего не знать о том, что происходит за пределами их временного пристанища. Они были сыты по горло незнакомыми местами. Иногда солдаты замирали, как статуи, задумываясь каждый о своем, иногда кто-то начинал рассказывать о доме, о фронтовой жизни, в которой остались их товарищи.
Все они возвращались героями. Их миновала смерть, но жизнь провела их словно по острию ножа, их души были отягощены всем виденным и пережитым. Они уже почти не чувствовали добытых ими «трофеев» – ран, настоящих медалей, рубцы о которых они несли на своем теле. Если бы вдруг в вагоне разорвалась граната, или взорвалась бы жестяная печурка, которая хоть немного усмиряла холод, вероятно, никто бы из них не тронулся со своего места.
Эшелон подолгу стоял на станциях, некоторые выходили из вагонов и бегали вдоль состава, чтобы размяться и согреться, приносили воду в бидонах, обтирали снегом руки, лицо, искали между рельсов куски досок или угля, оброненного паровозом, для своей печурки. Так повторялось на каждой остановке.
Забинтованное плечо больше не беспокоило Никулае, скорее всего, оно онемело от холода. Иногда он снимал перчатки, скручивал цигарку и уносился мыслями в родное село. Думал о Паулине, об Анне, о своих домашних. Сомнения терзали его. Радоваться ему или нет возвращению домой? Ведь он столько времени мечтал об этом.
Никулае ехал в эшелоне, который доставит его с одного берега на другой, из одного мира в другой, через туннель в ночи – этом море тьмы и холода, через которое состав несся, скрежеща железом. Сейчас эшелон находился посередине туннели. На кромке памяти Никулае смутно проглядывали лишь очертания двух берегов. На одном, оставшемся позади, еще толпились тени и облака, грохотали взрывы, свистели пули. Так привычно было слышать это. Даже не надо было напрягать слух, все происходило у него за спиной, если не ближе – в затылке, в его мозгу.
Среди теней он мог различать несколько образов, но никто не представал перед ним так ясно, как Думитру. Он знал его походку – тот ходил, ступая на пятки, будто у него за спиной всегда был тяжелый ранец. Думитру шел вдоль берега, иногда останавливался и подавал ему знаки рукой. Он не поворачивался лицом к нему, но Никулае узнал его. Сержант даже слышал голос погибшего друга. Он не понимал, что именно тот говорил, но мог догадаться: Думитру просил позаботиться об Анне и ребенке до своего возвращения. Она родила уже? Никулае начал мысленно считать месяцы, истекшие с сентября. Нет, еще нет. Но он совсем не удивился бы, если бы увидел рядом с Анной ребенка, который уже разговаривал, спрашивал бы его о чем-то…
На другом берегу, впереди него, хорошо были видны крыши домов села, купол церкви с покосившимся направо крестом. На окраине села у реки две девушки с подвернутыми подолами и засученными рукавами стирали белье в реке. Это были Паулина и Анна. Они стирали чью-то черную, причем военную, одежду и смеялись чему-то только им одним известному. Как и предполагал Никулае, Анна не была беременна, она написала об этом Думитру лишь для того, чтобы он больше думал о ней. Конечно, это проделки Паулины, это она, чертовка, все выдумала. Вот поэтому они теперь и смеялись. Смеялись и стирали одежду, с которой в реку стекала полоса черноты вперемешку с кровью. А вокруг девушек играли незнакомые дети, откуда ему знать их – сержант уже давно уехал из дому, а дети растут быстро, их замечаешь лишь тогда, когда узнаешь, что они женятся, и удивляешься: когда же они выросли?
Анна и Паулина продолжали стоять, нагнувшись над водой, и не видели его или притворялись, что не видят, смотрели лишь одна на другую заговорщически, говорили что-то друг другу и смеялись. Обе были в хорошем настроении.
На их берегу было тепло…
Никулае заснул под перестук колес, который он слышал не ушами, а кожей, всем существом; короткие звуки проникали в плоть, в глубину. Ему ничего не снилось. Да и что могло сниться? Что может сниться, когда переправляешься через черное, как смоль, море или едешь по длинному, как ночь, туннелю? Ничего. Сны давно перепутались в его душе клубком, который невозможно было распутать.
Сержант проснулся от суматохи, от голосов солдат, с трудом поднимавшихся со своих мест, где они провели всю эту бесконечную ночь, на самом деле длившуюся день и две ночи. Они были у себя на родине, в Орадии! Через поднятую шторку виднелся снег на улицах, терявшихся среди домов города. Никулае вздрогнул от ворвавшейся в вагон волны холода. Почему это он ожидал, что дома, то есть на родине, будет все по-другому? Почему-то он думал, что здесь застанет другое время года, то есть лето, зелень, тепло, солнце, людей в рубашках с засученными рукавами.
Он медленно спустился по ступенькам, держась за поручни правой рукой, и пошел вслед за другими. Какой-то старшина направил их в помещение на другом конце вокзала, где их ожидала военно-медицинская комиссия. Пустая формальность. Неужели они прибыли на родину?
* * *
На другой день Никулае смог сесть на поезд до Клужа. Далее до Турду железнодорожная линия была разрушена немцами, там еще шли восстановительные работы. Этот поезд – пассажирский – был получше воинского эшелона, правда, он тоже был забит до отказа, но теперь в нем были и гражданские, женщины. Пассажиры говорили без умолку, и не было ни одного человека, кто не спросил бы сержанта: который теперь час, куда едет, когда приедет поезд на место, что он намерен делать дома, когда кончится война?
Впервые с тех пор, как он уехал с фронта, Никулао почувствовал себя свободным от бремени, которое сбросил где-то далеко, в той ночи, откуда прибыл. Он был дома, еще не в своем селе, но это уже лишь вопрос времени. Он ехал по родной земле – и это главное. Люди говорили о чем попало: о земле, о волнениях в Бухаресте, где были убиты несколько человек, требовавших что-то от правительства, о том, что немцы вскоре капитулируют, ведь русские и наши уже дошли до Австрии и воюют в сердце Чехословакии.
Через разбитое окно Никулае смотрел в мирный день: мимо проплывали холмы, покрытые зелеными, слегка запорошенными снегом елями, за холмами далеко тянулись горы, которые на горизонте сливались с небом. По долинам то тут, то там разбросаны села со стайками прижавшихся друг к другу домов с дымками над крышами. Трансильвания! За ее освобождение он воевал. Красивая, чудесная земля! Ему, жителю равнины, это чередование холмов и долин, похожее на огромные волны, было в диковинку, казалось чем-то сказочным, волшебным.
В Хуедине поезд стоял долго. Никулае вышел из вагона, он замерз и хотел размяться, а главное – увидеть людей, город… На перроне слышалась румынская и венгерская речь. Никулае с жадностью прислушивался к разговорам, хотел почувствовать пульс и заботы нового мира, в который вступал.
И вдруг он услышал слово «Кэпуш» – так называлось село, куда тревожной боевой ночью его приглашали Илонка и Василе. Охваченный воспоминаниями, сержант подошел к крестьянину в сдвинутой на затылок барашковой шапке и спросил:
– Э, а где этот Кэпуш?
– Я как раз оттуда, – ответил крестьянин, окидывая его внимательным взглядом, по-видимому пытаясь вспомнить, где видел подошедшего к нему человека.
– Мне нужен Кэпуш-Мик. Это далеко?
– Да нет, недалеко. К вечеру буду там… А что у тебя там, родня?
Никулае не ответил, и человек хотел было уйти. Только теперь сержант заметил в его руках кнутовище. «Значит, он – извозчик», – мелькнула мысль. Недалеко от здания вокзала его ожидала запряженная, нагруженная дровами кэруца.
– Не подвезешь меня? – чуть помедлив, попросил сержант.
Крестьянин с радостью согласился захватить Никулае с собой. «Наверное, ему скучно одному», – подумал сержант, забрасывая ранец на здоровое плечо и трогаясь вслед за ним.
Молоденькая лошадка, еще почти жеребенок, упиралась, скользя по дороге, ведущей в гору. Но у хозяина хватало терпения не погонять ее, а кнут он держал в руке скорее для формы. Он только подбадривал лошадку:
– Ну давай, родная! Еще чуть-чуть, а потом все под гору! Еще немного, родная!
Никулае сидел, свесив ноги через боковину. Извозчик бросил ему засаленный овечий полушубок, он подложил его под ноги. Сержант с нескрываемым любопытством смотрел по сторонам. Он видел много гор, он карабкался на них, рыл в них укрытия, видел, как от разрывов снарядов они разлетаются на куски, – один такой осколок разбил ему плечо и погубил его лучшего друга. Он боролся с горами, большей частью враждовал с ними. И никогда у него не было времени полюбоваться их красотой.
Теперь он радовался такой возможности, рука по привычке то и дело тянулась за биноклем, который сейчас не висел, как всегда раньше, на шее. Никулае мечтал после войны приобрести бинокль и показывать его детям как память о боевом прошлом… Время от времени он бросал взгляд на извозчика, и спокойствие того передавалось и ему. Крестьянина интересовали лишь его лошадь и дорога.
– Вы венгр? – спросил Никулае, бросив взгляд на его закрученные кверху усы.
– Нет, – в задумчивости ответил крестьянин. – Я так и не сделался венгром! – добавил он, глядя прямо вперед. – Пусть они сменили мне имя, невелика беда! Главное, как ты себя называешь, а не как другие зовут тебя…
Ему явно не хотелось ни рассказывать, ни слушать. Сержант ожидал, что тот будет расспрашивать его в мельчайших подробностях о фронте, а он даже о ране не спросил, хотя хорошо видел, что левое плечо сержанта забинтовано и он оберегает его. Нет, возница смотрел только на лошадь и дорогу. Иногда сходил с кэруцы и шел рядом с лошадью, похлопывая ее по загривку. А то начинал подталкивать повозку со словами:
– Ну давай, родная!
На окраине какого-то села остановился. Показал рукой прямо и сказал, редко выговаривая слова:
– Кэпуш-Мик там! Пойдешь по тропинке, потом вдоль ручья. Я живу в другом Кэпуше.
Никулае сошел с кэруцы, потоптался на месте, потом махнул на прощание рукой крестьянину, но тот поехал дальше, не оглянувшись.
Мороз ослабел, пальцы у Никулае свободно шевелились в ботинках. Что ему нужно было здесь? Почему он не поспешил в свое село, к женщине, которая ждала его?
Он встряхнул здоровым плечом и решительным шагом направился по скользкой от натоптанного снега тропинке.
* * *
Небольшой покосившийся дом был покрыт дранкой. Первое, что пришло в голову, когда он увидел его издалека, это то что там живут люди очень маленького роста. Домик находился на другом берегу почти замерзшего ручья, делившего село надвое. Никулае прошел по деревянному мостику, подошел к домику, постоял, опершись рукой о ворота, окинул взглядом дворик, сад за ним, окруженный редким забором. Сразу за забором начинался крутой холм, он поднимался до укутанных снежным покрывалом елей.
Черный пес встрепенулся в своей конуре, сипло пролаял четыре раза, подавая сигнал, и замолчал. Заскрипела дверь сеней, и под навесом появилась Илонка. Увидев человека в военной форме, она, удивленная и даже несколько испуганная, остановилась на каменных ступеньках крыльца. Через несколько секунд женщина узнала его, улыбнулась и поспешила к воротам. Она широко раскрыла их, приглашая войти. Потом пропустила сержанта вперед и пошла следом за ним, таща за собой импровизированные тапочки из пары старых мужских ботинок. На пороге Никулае остановился, осмотрелся, не решаясь войти, спросил:
– Василе дома?
– Дома я со свекровью, Василе пошел за дровами. Входите, пожалуйста.
Никулае осторожно, чтобы не удариться головой о притолоку, вошел. В доме его встретила пожилая крестьянка. Она держала руки под фартуком и суетилась, не зная, что делать, что сказать.
– Мама, это Никулае, тебе о нем рассказывал Воси. Он едет с фронта, – пояснила молодая невестка, становясь у нее за спиной.
– А ты сам из каких краев будешь, сынок? – спросила старушка, присаживаясь на стул и оглядывая его, пока он осторожно ставил свой ранец у края стола и расстегивал шинель.








