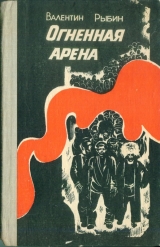
Текст книги "Огненная арена"
Автор книги: Валентин Рыбин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 19 страниц)
– Состоится гражданская панихида, – отвечал спокойно Нестеров. – Люди пришли, чтобы отдать дань любви и уважения прекрасному человеку, каким был Людвиг Стабровский.
– Люди, говоришь? Да какие же это люди, если в руках у них красные флаги и транспаранты? Да ты, сукин сын, всю социал-демократию на ноги поднял! Нарочно поднял!
– Никто никого не поднимал. Время всех на ноги поднимает, господин Пересвет-Солтан. Не мешайте нам. Все равно вам не справиться со всеми. Посмотрите сколько народу! Это только здесь. А сколько примкнет потом к похоронной процессии?! Не советую. Будьте благоразумны…
– Да как же так! Да я же… Что скажет генерал
Уссаковский?!
– Господин Пересвет-Солтан, – попросил Нестеров, – идите к генералу и скажите: если со стороны властей не будет никаких насилий во время шествия процессии, то похороны пройдут нормально. Всякое же вмешательство полиции или казаков чревато серьезными последствиями, за которые ответим не только мы, но и вы. Поверьте мне!
Поняв, что с народом не сладить, не уговорить, Пересвет-Солтан со всей своей свитой вскоре уехал. Нестеров организовал дежурство у гроба, а вокруг лазарета выставил пикеты. Охранять улицу и задворки взялись солдаты железнодорожного батальона во главе с Метревели. Уже больше месяца воинская асхабадская организация РСДРП состояла на автономных правах при организации эсдеков Асхабада. Дважды Метревели присутствовал на заседаниях комитета, получал от Нестерова партийную литературу. В войсках асхабадского гарнизона партийная работа велась успешно. И сегодня, как только узнали солдаты-железнодорожники о смерти Стабровского, пришли на помощь своим товарищам по борьбе. Метревели заверил Нестерова:
– Будьте спокойны, Иван Николаевич. Идите в город, занимайтесь делами. Наши не подведут…
Нестеров оставил на ночь в лазарете Вахнина и Красовскую. Сам отправился в город.
Весть о смерти и завтрашних похоронах революционера распространилась по всему Асхабаду. Готовясь к гражданской панихиде, деповцы делали красные флаги, надписи на транспарантах, сплетали венки и обвивали их черными лентами учащиеся гимназий и технического училища, типографские рабочие, приказчики магазинов, хлебопеки. Город погрузился в траур. Не слышалось ни звуков духового оркестра в городском саду, ни кавказской музыки в армянских и персидских кварталах. Лишь азанчи в туркменском ауле не изменил себе: прокричал клич к вечернему намазу. Но он показался людям призывом к завтрашним похоронам.
Предстоящее траурное шествие повергло в смятение уездные власти. Полковник Куколь-Яснопольский собрал у себя всех, кто так или иначе мог воздействовать на благополучный исход завтрашней демонстрации. О том, что это не просто панихида, а самая настоящая политическая демонстрация социал-демократов и примкнувшего к ним населения, – в этом начальник уезда не сомневался. Об этом говорили и Пересвет-Солтан, и Тонакевич, и целая куча других господ, собравшихся в военно-народном управлении. Сюда же явились офицеры штаба начальника Закаспийской области, среди которых были Ораз-сердар и Черкезхан. На совещание были приглашены старшины близлежащих аулов – Асхабадского, Кеши и Карадамак. Каюм-сердар в шелковом халате я новом тельпеке по праву арчина тоже присутствовал здесь. И его новый родственник Хезрет-ишан был рядом с ним. Оба с удовольствием и гордостью поглядывали на штабс-капитана Черкеза Каюмова.
Когда все собрались, Куколь-Яснопольский взял слово:
– Мы благодарим командующего Закаспийским краем, который выделил нам в помощь две роты конных казаков, надеемся на полицейское управление и администрацию учреждений и учебных заведений, но нам бы хотелось, чтобы господа туркменские старшины и духовенство способствовали порядку. Не исключено, что туземная чернь примкнет к демонстрантам, любопытства ради. Этого бы очень и очень не хотелось, господа старшины и ишаны!
Произнеся эти слова, Куколь-Яснопольский все время бросал взгляды на Каюм-сердара, и арчин, распираемый гордостью, не сдержал своих чувств, сказал важно:
– Господин полковник, ни один туркмен не пойдет за красным гробом. Мы всем сегодня объявим. Кто не послушает – того накажем.
– Очень жаль, – продолжал Куколь-Яснопольский, – что на совещании нашем нет знатных людей от армянской и персидской общин. Это весьма и весьма настораживает… и заставляет опасаться, что в случае столкновения полиции, а может быть, и войск с партией революционеров, все мусульманское население города, пользуясь случаем, сведет свои счеты с армянами. И случаи грабежа лавок и товаров непременно будут…
Совещание продолжалось до вечера, и начальник уезда принял решение: действовать в соответствии с обстановкой, держа наготове казаков и полицию. Переодетые же в гражданскую одежду полицейские и сыщики должны занести в списки всех, кто выявит своим поведением принадлежность к социал-демократии.
Расходясь по домам, господа вместе шли через Гимназическую площадь к каретам. Начальник вел под руку Каюм-сердара и расспрашивал о благополучии в доне. Каюм-сердар, польщенный столь высоким вниманием, терялся и отвечал односложно:
– Хорошо, господин начальник. Спасибо, господин полковник.
– Ну, а что с вашей невесткой? – спросил Куколь-Яснопольский. – Выяснилось что-нибудь? Написала она хотя бы письмецо из Петербурга или Казани?
– Ай, зачем нам письмецо? – отмахнулся Каюм-сердар. – Сама убежала… Письмецо – бумажка… Бумажка нам зачем?
– Как говорится, скатертью дорога, – засмеявшись, ободрил старика полковник. – У нас говорят! что ни делается – всё к лучшему. Так вот и я думаю… Если б ваша невестка осталась здесь, то видимо пришлось бы ей нести ответ вместе с редактором Любимским. Правда, она лишь косвенно причастна к крамольным статейкам, печатавшимся в газете, но все равно. – Господин полковник, – вмешался Черкезхан, шедший с отцом рядом. ~ Я не сомневаюсь, что причина ее бегства в том и заключается, что она испугалась справедливой кары за свои крамольные делишки. Хорошо бы как следует произвести расследование да обвинительный акт на Галию отправить ее отцу, в Петербург. Пусть бы полюбовался, какими делами занималась в Асхабаде его красавица-дочь! Или, еще лучше, отправить акт в Петербургскую полицию, чтобы арестовали ее.
– Ух, какой вы беспощадный, господин штабс-капитан, – пожурил его Куколь-Яснопольский и тотчас сменил тему беседы: – Вы, штабс-капитан, особенно будьте внимательны… Следите за положением дел в ауле,
– Слушаюсь, господин полковник.
– Вот так-то, – удовлетворенно сказал полковник, – На вас и Ораз-сердара особая надежда.
Возвратившись домой, Каюм-сердар велел принести ужин и пригласить среднего и младшего сыновей. Слуга побежал к времянке братьев и тотчас вернулся.
– Сердар-ага, их нет дома, – доложил он.
– Вот всегда так, – проворчал Каюм-сердар. – Когда надо – их никогда нет. Амана третий день не вижу.
– Отец, Аман уехал в Багир смотреть кобыл двухлеток, – пояснил Черкез. – Он меня просил, чтобы я сказал тебе, да я забыл.
– Ратха тоже что-то не видно, – сказал Каюм-сердар.
– Этот тоже с конями, – опять охотно пояснил Черкезхан. – Скоро же осенний сезон скачек – вот они и носятся со своими лошадями, о доме и родителях совсем не помнят.
– Тогда мы поговорим с соседскими парнями, – проговорил, вздохнув, Каюм-сердар и приказал слуге: – Ну-ка, ты, отправляйся по дворам, скажи всем мужчинам, чтобы шли ко мне… на совещание.
Слуга удалился и немного погодя на подворье Каюм-сердара потянулись из соседних дворов старики и молодые, чтобы послушать своего арчина…
С самого утра властвовал зной. Город с его тесным скопищем крыш жарился на солнце, источая в небо сизое марево. За ночь едва успели остынуть горы, а утром вновь начали нагреваться. И теплый ветер, словно из огромной духовки, потек душной одурманивающей рекой. Опять, как всегда, поутру гудел деповский гудок. Но сегодня гудел будто бы дольше, гудел с особым смыслом. И рабочих, спешащих к паровозам и вагонам, было меньше. Деповцы ладили флаги и транспаранты, знаменосцы и запевалы надевали красные рубахи. И вот уже начали собираться группами около дворов. И потянулись через железную дорогу на Анненковскую и дальше, мимо городского сада, за город, к лазарету.
К 4 часам у лазарета собралась, по подсчетам пристава Тонакевича, пятитысячная толпа: запружены были все улицы и переулки. Пристав с несколькими полицейскими, подъехав ближе, остановил лошадь, посмотрел, посмотрел, покачал головой, тяжело вздохнул и отправился к Пересвет-Солтану. Здесь, в управлении, у полицмейстера распинался исполняющий обязанности прокурора господин Слива:
– Ради бога, господа, только не принимайте репрессивных мер – это чревато последствиями. До тех пор, пока со стороны толпы не последует каких-либо насильственных действий, оружие не применять!
Сам начальник уезда в это время со свитой офицеров находился возле товарного двора на станции, где стояли наготове две роты конных казаков. Куколь-Яснопольский и сам был на коне. Беспрестанно разъезжал от товарного двора к вокзалу и обратно. В конторке вокзала висел на стене телефон. Начальник уезда поднимал трубку, адъютант его энергично крутил ручку и вопросительно заглядывал в глаза начальнику. Полковник просил соединить то с Уссаковским, то с Пересвет-Солтаном, то с начальником лазарета. Наконец, когда ему сообщили, что процессия вынесла гроб и двинулась по Анненковской, он с адъютантом и десятью казаками выехал навстречу. Как человек опытный, и в меру дальновидный, он не пытался предотвратить демонстрацию. Но, по крайней мере, как он считал, его появление подействует сдерживающе на самых ярых революционеров. Не будет песен, не будет лозунгов. А если обойдется без них, тогда и страшиться нечего. Тогда он спокойно отчитается перед Уссаковским, а тот – перед генерал-губернатором Туркестанского края Тевяшовым о попытке революционеров устроить политическую демонстрацию и четких действиях уездных властей. Но, увы, помыслы Куколь-Яснопольского полетели в тартарары. Не доезжая до похоронной процессии, за целую версту он услышал нарастающие звуки песни:
«Вихри враждебные веют над нами, Темные силы нас злобно гнетут…»
Начальник уезда попридержал лошадь и остановился. «Вот она, эта проклятая песня!» – подумал со злобой и отчаяньем, вспомнив, как весной асхабадские эсдеки распространили «Варшавянку» по всему городу, а властям – Уссаковскому, прокурору Лаппо-Данилевскому, Сливе, Пересвет-Солтану, Тонакевичу и ему самому – начальнику уезда, – прислали эту крамольную песню в конверте, с пожеланием разучить и запомнить. Это привело тогда в ярость Куколь-Яснопольского. Он поднял на ноги всю полицию, чтобы отыскать тайную, подпольную типографию эсдеков, но тщетно. Полиция произвела обыски у всех подозреваемых в причастности к распространению листовок, но ни у кого ничего не нашла. Слыша сейчас приближающуюся песню, начальник уезда сидел на коне и хмыкал, не зная, что предпринять. И слова «Варшавянки» вспоминались ему сами по себе. «Бывает же, – досадовал он, – иную песню специально разучиваешь, а запомнить не можешь. А эту раза два всего прочитал – и всю помню!» И все ближе и ближе слышалось:
«Но мы подымаем гордо и смело
Знамя борьбы за рабочее дело…»
И прежде чем грянул припев, начальник уезда повторил его в памяти: «На бой кровавый, святой и правый, марш, марш вперед, рабочий народ». И понял, что стоять и дожидаться, пока толпа приблизится, нет никакого смысла. Он повернул коня и отъехал на угол, к Управлению железной дороги. Толпа же у городского сада свернула влево и остановилась возле женской гимназии, где служил до ареста Людвиг Стабровский.
Сыщики едва успевали заносить в записные книжки все увиденное и подмеченное: и надписи на венках, и кто их несет, и кто несет гроб, и крышку гроба, и кто произносит речи.
Пересвет-Солтан, окруженный полицейскими и офицерами штаба областной канцелярии, смотрел на демонстрацию удивленными глазами и спрашивал, спрашивал без конца:
– А кто же это с веночком в первом ряду?
– А, брат с сестрой – Асриянцы, – отвечали ему.
– А этот, в красной рубахе, со знаменем?
– А, конторщик из службы движения, Вахнин. Он только что, ваше благородие, перед областным судом речь держал.
– Так, так, – принимал к сведению Пересвет-Солтан. – Ну, а гроб кто же несет? Первые двое, кажется, Шелапутов и Петерсон. А вон те двое?
– Это циркачи, ваше благородие. Клоун Романчи и, кажется, наездник.
– Туркменец, что ли? – насторожился Пересвет-Солтан.
– Да вроде бы…
И никто из офицеров и полицейских не заметил, как растерялся штабс-капитан Каюмов, стоявший тут же. Черкезхан, разглядев у гроба Ратха, побледнел, закрыл глаза, думал, обознался. Вновь взглянул и простонал от стыда и ужаса. Он сразу даже не разозлился, а лишь испугался до перебоев в сердце. Вот сейчас кто-нибудь заметит: «А ведь это ваш младший брат, господин штабс-капитан!» Но никто этого не сказал, и Черкезхан почувствовал, как покидает его страх и место его заполняет невероятный гнев, от которого стало трудно дышать, говорить, мыслить, потому что кровь ударила в голову.
От Гимназической площади до армянской церкви демонстранты беспрерывно выкрикивали лозунги и пели "Варшавянку». Но вот процессия остановилась у голубой армянской церкви с оградкой. Гроб внесли в ограду и поставили на тяжелую длинную скамью. Два армянских священника в черных рясах и клобуках совершили обряд отпевания и похоронная процессия двинулась дальше, к железной дороге. За линией открылась узкая улочка, в тупике которой виднелись ворота на кладбище, и сбоку – асхабадская тюрьма. Поравнявшись с тюремными воротами, Нестеров остановил процессию и приказал дежурному надзирателю, чтобы поз «вали начальника тюрьмы. Хлопоты были излишни: начальник оказался тут же, у ворот. Все это время, пока шествие приближалось к тюрьме, он говорил по телефону с начальником уезда, находившимся с казаками близ товарного двора. И когда Нестеров потребовал, чтобы арестованным Аршаку Хачиянцу и Ивану Егорову разрешили выйти и проститься со Стабровским, тюремный начальник вновь кинулся к телефонной трубке и вызвал Куколь-Яснопольского:
– Ваше высокоблагородие! – закричал в трубку. – Требуют заключенных… Как бы тюрьму… Как бы ворота не снесли. Что прикажете делать?!
– Пронеси господи, – ответил в ужасе начальник уезда и пообещал: – Ждите, сейчас приеду с казаками!
Начальник тюрьмы отскочил от телефона и начал призывать людей к порядку. Но противостоять многотысячной толпе, решительно наступающей на ворота тюрьмы, было бы безумием. И начальник велел привести Хачиянца и Егорова к окну дежурки: пусть попрощаются через окно.
– Бросьте издеваться, выведите арестованных сюда! – потребовал Нестеров.
И тут грянул выстрел, а вслед за выстрелом зазвенело разбитое оконное стекло и из окна разнесся зычный голос Аршака Хачиянца:
– Вот еще одна жертва царского произвола! Надзиратели тотчас оттащили его от окна. А на улице началась паника. Кто-то прокричал:
– Казаки! Казаки скачут!
Часть толпы двинулась в суматохе прямо на скачущих казаков, сгоняя их с дороги в сторону, к домам. Но большинство не растерялось. Вновь гордо и громко зазвучала «Варшавянка»:
«Месть беспощадная всем супостатам, всем паразитам трудящихся масс!..»
И тысячи асхабадцев, неся на плечах гроб с телом революционера, вошли в кладбищенские ворота и зашагали среди частокола крестов. Куколь-Яснопольский не посмел въехать на кладбище. Так и стояли конные казаки у кладбища до тех пор, пока не кончились похороны и толпы начали расходиться по домам.
Надвигался душный июльский вечер…
ЧАСТЬ ВТОРАЯ

До самой осени в Асхабаде наблюдалось относительное затишье. Отбурливший во время похорон Стабровского город словно прислушивался, присматривался и спрашивал: «Что же будет дальше?»
Власти Закаспия, теша себя сознанием, что, слава богу, массовые митинги и демонстрации прекратились, а издание газеты «Асхабад» остановлено самим министром внутренних дел, встречали золотую асхабадскую осень развлечениями. В городском саду и в офицерском клубе выступали приезжие артисты, уже пестрели цирковые афиши, извещая о скором открытии осеннего сезона. На ипподроме каждое воскресенье устраивались скачки.
В один из воскресных дней начала октября генерал Уссаковский приехал на ипподром в фаэтоне вместе с чиновником особых поручений Остен-Дризеном. Полусотня казаков сопровождала их. У входа на ипподром Уссаковский слез с коляски первым и подал руку Остен-Дризену, хотя гость и чином был ниже, и должность занимал не генеральскую. Столь величайшее почтение Уссаковский оказывал гостю по весьма важным обстоятельствам: дело в том, что Остен-Дризен был командирован в Закаспий самим туркестанским генерал-губернатором Тевяшовым. Месяц назад Остен-Дризен, приехав в Асхабад, предъявил документ о праве проверки политической обстановки в Закаспий, тем самым недвусмысленно дав понять, что, по сути, проверяется боеспособность генерал-лейтенанта Уссаковского и его штаба со всеми военными и хозяйственными службами.
Взойдя на трибуну и усевшись в плетеные кресла, генерал и его гость подождали пока усядутся другие господа, затем направили взоры на джигитов; несколько человек, в светлых атласных рубахах и белых тельпеках, проезжали застоявшихся коней по скаковой полосе.
– У вас в Ташкенте тоже, небось, проводят скачки? – спросил Уссаковский.
– Проводят, – отозвался гость, не сводя глаз с джигитов. – У нас больше козлов дерут. Слышали о коз-лодрании?
– Отчего же не слышать, – отозвался Уссаковский и подумал: «С намеками, сволочь, изъясняется. Небось, и меня, как козла, хотят разодрать… Иначе почему молчит, не докладывает – чем недоволен? Вчера еще приехал, и хоть бы слово о замеченных недостатках. Видно, решили одним махом снять голову с Уссаковского».
– Между прочим, я уже наблюдал ваши скачки на Челекене, – сказал Остен-Дризен. – Правда, туземная голытьба не дала как следует насладиться столь прекрасным зрелищем.
– Что так? – насторожился генерал.
– С требованиями пожаловали. Сижу этак на паласе, пью чай и гляжу на джигитов, а тут приходят какие-то юродивые и суют бумагу: подай им восьмичасовой рабочий день и больницу.
– Это общая картина в области, – с пренебрежением ответил Уссаковский. – В Красноводске, Кизыл-Арвате, Асхабаде – везде одно и тоже.
– Приятно, что не возражаете, господин генерал, – довольно улыбнулся Остен-Дризен.
– А что тут такого?
– А то, что до прошлого года в Ташкенте и Самарканде вовсе не наблюдалось революционеров. А теперь и там есть. И все оттого, что в Закаспии ослаблен надзор. Позволили им демонстрировать, бастовать… С паспортным режимом у вас тоже не все в порядке. Переселенцев много, и все голодранцы из русских деревень. Дали волю народу, вот он и бастует.
– Да уж какая воля, господин Остен-Дризен? Тюрьма асхабадская забита революционерами. Вы имели случай посетить Кизыл-Арват: знаете, как обошлись тамошние власти с рабочими мастерских… Всех зачинщиков, взорвавших бомбу, к суду привлекли по 126-й.
– Грубо работает ваша жандармерия, грубо, – поморщился Остен-Дризен. – Если б соблюдалась повседневность поддержания порядков, уверяю вас, не было бы ни взрывов бомб, ни сходок, ни демонстраций.
– Оно, конечно, так, – согласился Уссаковский. – Но если взять обстановку в целом… – И про себя: «Вот, сволочь. Можно подумать, в Петербурге, Москве или в Баку лучше с порядками! Ясно как божий день: сбросить хотят с поста начальника области… Задобрить бы тебя, скотина ты эдакая». И генерал, извинившись перед гостем, лишь на минуту отлучился. Подойдя к Махтумкули-хану, он что-то сказал ему на ухо, отчего хан сначала напыжился, а потом заулыбался, польщенный. И генерал вновь вернулся к гостю и сел в кресло.
– Между прочим, – продолжал Остен-Дризен, – в аулах Западного Закаспия тоже наблюдаются некоторые беспорядки. В Гасан-Кули, например, рыбаки отказались платить налоги и требуют, чтобы кибиточные подати сократили вдвое. Какой-то дьявол, не то бахши, не то бачи, распространил среди них слух, будто баи и ханы не платят русским властям никаких налогов: расплачивается за них беднота.
– Бывает иногда и такое, – согласился вновь Уссаковский. – Но вряд ли сами туркмены пропагандой революции занимаются. Тут скорее всего, не бахши, а какой-нибудь купец-керосинщик по аулам проехал и наплел небылиц.
– Потом сами разберетесь, – не стал настаивать Остен-Дризен. – Мое дело доложить губернатору то, что замечено лично мной.
– Насколько я начинаю понимать, не очень-то благоприятную картину вы собрались нарисовать перед Тевяшовым.
– Только суть, господин генерал-лейтенант, и ничего больше.
Тут прозвенел гонг, восьмерка всадников вихрем сорвалась со старта и помчалась по скаковой полосе, огибая огромное, заросшее колючкой, поле, на котором паслись верблюды. Внизу, слева от трибуны, начались выкрики. Это наиболее нетерпеливые подбадривали и поучали скачущих по кругу всадников. И чем ближе приближались они к финишу, тем чаще раздавались крики. И вот голоса слились в единый рев. Все поднялись на ноги, махали руками и подбрасывали тельпеки. Победитель первого заезда, джигит с курчавой бородкой, гордо проехал мимо трибуны и возвратился назад. Распорядитель скачек, начальник «куропаткинской конюшни», конопатый майор в белом кителе и фуражке с чехлом, взбежал на трибуну и щелкнул каблуками:
– Господин генерал-лейтенант, разрешите обратиться?
– Да, пожалуйста.
– Изволите сами вручить приз победителю или скажите – кому это сделать?
– Ну зачем же сам, – великодушно проговорил Уссаковский. – Вот у нас гость, весьма почитаемый… Прошу вас, господин Остен-Дризен, спуститься и вручить приз жокею.
– Ну что ж, я с удовольствием. Правда, никогда не приходилось.
– Господа, – обратился генерал к офицерам и туркменским ханам и сердарам, сидящим рядом, – давайте попросим губернаторского посланника… – И захлопал в ладоши.
Все начали аплодировать, и польщенный столь большим вниманием Остен-Дризен сошел вниз с трибуны.
Как только он удалился, Уссаковский повернулся в кресле и сказал небрежно Махтумкули-хану:
– Давай, Махтум… Пора замазать рот этому «земзему».
Сидящие на трибуне сдержанно засмеялись. Махтумкули-хан отошел и тотчас вернулся со свертком. Остен-Дризен между тем вручил победителю большую медаль и важно поднялся наверх, к креслу. Но сесть ему не дали. Махтумкули-хан, остановив его, взял за руку, подвел к барьеру трибуны и обратился по-туркменски к собравшимся со словами, что высокий губернаторский гость приехал к туркменам, чтобы сделать их жизнь раем. В знак особого почтения, геоктепинский хан дарит ему почетный халат и белый тельпек. По скамейкам внизу прошел гул: окрики одобрения смешались с ропотом. Махтумкули-хан надел на гостя халат, затем снял с него белую фуражку и нахлобучил белый тельпек. Повязав поверх халата кушак, хан обнял Остен-Дризена и, довольный, сказал:
– Теперь он – наш, туркмен. Теперь у туркмен есть хороший защитник!
Снова толпа зашумела, словно весенний поток. И хорошо что Остен-Дризен не понимал по-туркменски. Иначе бы расслышал в хаосе голосов и такое, что не понравилось бы. Кто-то злобно и настойчиво выкрикивал: «Подавиться бы ему вонючей кишкой!», другие: «Пусть подавится налогом, взятым с нас!». Махтумкули-хан, услышав это, грозно глянул на толпу, и быстро отвел гостя на его место.
– Это такой обычай у туркмен, – пояснил самодовольно Уссаковский. – Иногда вместе с халатом они дарят и лошадей, но это бывает в особо исключительных случаях.
Остен-Дризен понял намек генерала: алчно улыбнулся и начал рассматривать на себе туркменский красный халат.
– Второй заезд, – сказал Уссаковский, кивнув на скаковую полосу, и спросил: – Не утомились вы?
– Да не особенно.
– А то ведь предстоит ужин. Может быть, изволите отдохнуть перед ужином?
– Посмотрим еще этот заезд, – ответил Остен-Дризен, и помолчав, добавил: – Какие у них красивые скакуны. Прямо на загляденье.
– Вы имеете свою конюшню?
– Нет-с, признаться. Но хотелось бы…
– За ужином поговорим, – многообещающе намекнул генерал. – У Махтумкули-хана есть молодой жеребец Араб – потомок куропаткинской пары, с которой началось асхабадское коневодство.
Гость согласно кивнул и оба, вполне удовлетворенные беседой, вновь обратили свои взоры на скаковую полосу, где в дикой скачке неслись, приближаясь к трибуне, наездники, и публика неистово ревела, подбадривая джигитов…
* * *
Слева от трибуны, в самой гуще тельпеков и халатов сидели, наблюдая за скачками, Нестеров с Аризель, Арам с Ксенией и Андрюша Батраков.
Нестеров только что вернулся из Москвы, где пробыл все лето, и в воскресенье, навестив друзей, увлек их на ипподром. Он соскучился по всем, но больше, конечно же, по Аризель. Девушка в светлом чесучевом костюме, в широкополой шляпе, сидела справа от него и, вложив ладонь в его руку, все время чувствовала легкое пожатие. Слева, сгорбившись и дымя папиросой, сидел Арам. Он почти не смотрел на поле, где кипели спортивные страсти. Смотрел сбоку на Нестерова и задумчиво слушал его.
– Арам, ты должен понять, – вполголоса внушал Нестеров. – Подошло время объединиться и совместно с оружием выступить. Москва уже гудит, как растревоженный улей. Весь рабочий класс собирается на баррикады. К рабочим примыкают солдаты…
– Но не армяне же, – тихонько упорствовал Асриянц. – У партии «Гинчак» есть свои задачи, Ваня. Первая ее заповедь – сохранить многострадальную армянскую нацию. Если мы примкнем к русской революции и выйдем с оружием, мы растеряем последних наших бойцов-гнчакистов. Ты знаешь, сколько всего армян в Асхабаде? Мало, Ваня. Всего шесть тысяч. В их числе – обыватели, женщины, дети и служащие. Ребят с оружием совсем мало… Разговаривал с Гайком, спросил, как он смотрит на всенародные волнения. Он мне ответил: «Подумай, сын мой, о братьях и сестрах своих. Нельзя заботиться обо всем мире!»
– Арам, побойся бога, – улыбнулся Нестеров. – У меня такое впечатление, что добропорядочный Гайк оказывает на тебя сильное влияние, уводит в сторону от наших, пролетарских задач.
– Ваня, не о себе говорю, – обиделся Арам. – Меня сбить с истинного пути невозможно. Я говорю о братьях своих – гнчакистах, которые спят, и во сне видят только армян. Все их мысли только о спасении этой нации.
– Выходит, когда братья Мякиевы распространяли прокламации, они делали это во имя одних армян?
– Нет, зачем же! – возразил Асриянц. – Они это делали для всех, но думали о своих армянах…
Разговор друзей продолжался в таком духе долго. Прошло уже несколько заездов. Нестеров не только не смотрел на состязания, но и на время забыл об Аризель. С первой же минуты, как только встретился с ней после долгой разлуки, он обрел покой и не допускал мысли, что у девушки за эти три месяца его отсутствия появились какие-то сомнения. Аризель же то прислушивалась, о чем говорил он с братом, то смотрела на скаковую дорожку, но думала лишь о своей сопернице-москвичке. Аризель не знала – что она собой представляет, но уже давно нарисовала в своем воображении образ синеглазой красивой блондинки в белом платье, с белой сумочкой. Пока Нестеров был в Москве, Аризель ни на минуту не забывала о нем, но вместе с его образом возникала перед глазами и эта красавица. Аризель мучилась от ревности, но ничего не могла с собой сделать. Она на время успокоилась, когда получила от Нестерова письмо: это было в августе. Письмо было очень нежным, и в нем не было ни слова о Жене Егоровой. Прочитав письмо, Аризель несколько дней с радостью вспоминала каждую строчку из него, но потом вновь ревность вернулась к ней. Сейчас же ее удручало еще и то, что Нестеров не известил о своем приезде телеграммой. Ей так хотелось его встретить на вокзале, а он появился в их доме внезапно, словно с неба свалился. И хотя при встрече, прямо при матери и Араме, поцеловал ее в губы, и, обняв, закружил по комнате, она все еще сомневалась: «Почему же он не говорит ни слова о Той?»
Выждав, когда Арам сделал паузу, Аризель легонько ущипнула за палец Нестерова. Он сразу спохватился.
– Прости, Ариль, заговорились мы…
– Ванечка, ты видел ее? – спросила Аризель.
– Кого?
– Ну, эту… Женечку…
– Ариль, милая, не надо, – взмолился он. – Не надо о ней!
– Ну, скажи, видел?
– Видел, конечно, – улыбнулся он доверчиво.
– Ваня, что тут спорить, – прервал Арам, продолжая неоконченный разговор, – давай все-таки дождемся указания от Центрального комитета «Гнчак».
– Я думаю, Арам, надо усилить разъяснительную работу среди гнчакиетов, – отозвался Нестеров. – Надо, чтобы все они поняли, что партия «Гнчак» всего лишь часть сил огромного революционного движения, а объединение всех революционных сил – крайняя необходимость…
Аризель вынула свою руку из ладони Нестерова и, показав всем своим видом полное безразличие к нему, стала смотреть на скачки. Это сразу возымело действие: Нестеров вновь повернулся к ней и взял за руку.
– Не надо, – попросила она. – Мне так удобнее.
– Я потом тебе все расскажу о Москве, Ариль, – сказал он.
– Ты думаешь, мне так интересно знать, о чем ты беседовал со своей москвичкой? – ответила с усмешкой Аризель.
– Ариль, в Москве я все время думал о тебе,
– Обо мне думал, а встречался с ней? – Но необходимо было встретиться.
– И где же ты встречался с ней, Ванечка?
– Не встречался, а встретился только один раз. Мы совершили прогулку на пароходе по Москва-реке.
– Ничего себе – встреча! – воскликнула девушка.
– Ну ладно, Ариль, ты просто немножко не в духе. Принести тебе пирожное? В буфете у выхода есть всякие сладости.
– Ладно уж, не подлизывайся.
– Аризель, я люблю тебя, – шепнул он ей на ухо. – Хочешь я принесу покера и выпьем вместе, прямо из горлышка.
– Хочу…
Он встал и пошел к выходу. Спускаясь под трибуну, увидел на левой стороне Ратха. Джигит сидел с туркменскими парнями и уныло смотрел на поле. Нестеров поднял руку, но Ратх не заметил его.
* * *
Ратх был в жокейских брюках и сапогах. Атласную куртку и белый тельпек он снял в раздевалке. Надел обыкновенную, белую в полоску рубашку и соломенную шляпу, которую всегда носил в жару, вместо тельпека.
Как только джигит появился среди парней, они тотчас забросали его недоуменными вопросами:
– Разве ты сегодня не участвуешь, Ратх?
– Нет…
– Почему, Ратх? Ведь ты час назад проезжал Каракуша и все считали, что во втором заезде победителем станешь ты!
– Разве не видите, кто сидит на трибуне! – отвечал Ратх. – Черкезхан и отец там, вместе с генералом. Это они запретили. Пришел начальник конюшни, говорит: «Ратх Каюмов, вместо тебя сегодня участвует в заезде Тойли, такова воля вашего родителя и старшего брата».








