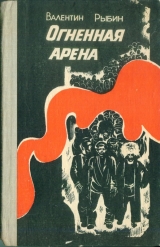
Текст книги "Огненная арена"
Автор книги: Валентин Рыбин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 19 страниц)
Машинист ошалело подбрасывал в топку уголь, я беглецам удалось оторваться от преследователей. Когда выехали на прямой путь Безмеин-Асхабад, и все поняли, что казакам не догнать, Вахнин, покусывая губы, зажмурился и простонал:
– Ух, Иван, Иван… Но и мы хороши! Бросили в беде товарища! Ох, совесть моя мне не простит такого!
Остальные молчали. Все понимали, что случилось непоправимое: теперь его «разделают «под орех» эти офицерики с револьверами и казаки с шашками.
Поезд вернулся в Асхабад. Все тотчас соскочили было наземь, но бросились опять к паровозу: по перрону прямо на лошадях разъезжали казаки. И эшелон, прибывший из Ташкента, стоял на четвертом пути. Метревели, крадучись, слез и побежал к казарме. Вах-нин, Шелапутов, а глядя на них и Ратх с Андрюшей, мгновенно стащили с себя рубахи и побросали в тендер с углем.
– Сюда, в топку, пусть горят лихим пламенем! – выругался машинист. – А то за эти рубахи меня в первую очередь к стенке поставят.
– В депо, по одному, – распорядился Вахнин. – А ты, Ратх, беги к Гусеву, скажи, что Нестеров схвачен.
Обходя вагоны, все четверо ринулись в рабочую слободку и вскоре вышли на опустевшую улицу. Вахнин, Шелапутов и Андрюша свернули в сторону депо, а Ратх поспешил к кладбищу. Почти у самого дома Гусева он увидел толпу рабочих и догадался: забастовщики ушли подальше от глаз казаков. Гусев тоже был среди них, и Ратх тотчас торопливо и сбивчиво рассказал, что произошло в Ак-Тепе. Слушали его молча, не перебивая, и потому как все огорчились, узнав об участи Нестерова, Ратх понял: «Его расстреляют или отправят на каторгу в Сибирь». Тоска вдруг навалилась на Ратха. Такая жуткая тоска, что эта тихая слободская улочка, эта станция с ее черными грязными паровозами, этот город с его злыми офицерами показались ему враждебными. Он не мог представить себе, как будет жить без своего лучшего друга. И, думая о нем, смотрел на рабочих растерянными глазами: «Что же вы стоите? Надо выручать Нестерова!» Но вот они заговорили именно об этом, стали спрашивать друг друга, где он теперь: в тюрьме или еще там, в Безмеине? И о Вахнине вспомнили. Ратх тогда живо отозвался, что он с Шелапуто-вым и Андрюшей отправились в депо, поднимать рабочих, и Гусев сразу оживился:
– Дорогой сынок, что же ты раньше молчал? Если
Вячеслав живой, значит не погибнет и Нестеров. Давай беги, зови его сюда!
Рабочая слободка, с ее трехтысячным пролетарским населением, зашевелилась, загудела. Вечером и ночью только и шли разговоры о Нестерове. Рабочие послали своих разведчиков к полицейскому управлению и на безмеинскую дорогу, чтобы узнать, что с Нестеровым, Было уже темно, когда посланцы возвратились и сообщили: «Сидит в полицейском управлении. Привезли со связанными руками. Завтра – показательный суд. Но участь его решена, ибо плотники уже строят на Скобелевской площади виселицу». Собрались деповцы в железнодорожном саду, начали советоваться: как быть? К деповцам присоединились и солдаты-железнодорожники, которых привел в сад Метревели. Погорячились, поспорили, и вот уже пошли солдаты по дворам, чтобы переодеться в гражданскую одежду. Вахнин взял дело по спасению в свои руки. Сказал с яростью:
– Клянусь, братцы, умру, но Ивана вырву из лап черносотенцев!..
В тот самый час Нестеров сидел в кабинете полицмейстера и слушал обвинение. Еремеев смотрел на него, избитого, в истерзанной солдатской робе, с взлохмаченным черным чубом, с окровавленной бородой и безжалостно выговаривал:
– Главарь асхабадских социал-демократов – раз! К девизу «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» присоединил еще слово «и вооружайтесь!» – два! Непочтительно отзывался о государе – три! Объединил русскую и армянскую партии – четыре! Взял у армян на революционные нужды три тысячи рублей – пять!
Пятый пункт вызвал у Нестерова протест.
– Послушай, штабс-капитан, – сказал он устало. – Разве без этих трех тысяч мало у меня грехов против царя-батюшки? Ну, зачем ты над покойником измываешься? Ты же знаешь, что эти три тысячи армяне внесли на похороны Людвига Стабровского!
– Не знаю, не знаю, – проговорил Еремеев. – Тая ранее было записано. И прошу-с не перебивать. Прошу-с выслушать до конца. Итак, три тысячи взял – это пять. Далее… Проводил в своей квартире пропаганду среди туркмен – шесть! Поднял и возглавил восстание солдат асхабадского гарнизона – семь! Прошу-с подписать обвинительный протокол.
– Слушай, штабс-капитан, сядь и не выкаблучивай из себя дурака, – усмехнулся Нестеров. – Ну, кто же подпишет такой протокол? Тут же нет ни слова правды. Я – частный поверенный, верой и правдой служу отечеству. В силу своих возможностей защищаю пролетариев, вот и все.
– Ах вот как! – ухмыльнулся полицмейстер. – Не хочешь признаваться? Хочешь чистеньким отправиться на тот свет? Стража, ну-ка, все сюда! Ну-ка, проучите малость господина частного поверенного, чтобы не брыкался!
Полицейские грубо вытолкнули Нестерова из кабинета. В коридоре сбили с ног, принялись избивать, затем увели в камеру,
* * *
Ни днем, когда его схватили в казарме офицеры и грозили пристрелить на месте, ни вечером, когда полицмейстер упомянул «о том свете», Нестеров не думал о смерти. Почувствовал он ее ночью. Двое стражников, караулившие его, заговорили у двери тихонько, едва слышно:
– Что, вправду что ли этого главаря хотят вздернуть?
– Да вроде бы. Виселица уже готова. Сам видел, когда шел на дежурство…
Больше Нестеров ничего не услышал. Черное, грозное слово «смерть» вспыхнуло в его мозгу, парализуя все мысли, забило уши. Он словно перестал слышать извне. И слышал только изнутри! «Смерть! Смерть! Смерть!» Чувствуя, как стынет кровь в жилах и подступает к горлу тошнота, Нестеров поднялся на ноги и подошел к двери. Он напряг слух, чтобы услышать хотя бы одно слово стоявших там, в коридоре, но всюду было тихо. И Нестеров решил, что с ним была галлюцинация: не было у двери ни надзирателей, не было сказано ничего о виселице. Он снова сел в угол и опустил голову в колени. «Смерть…Виселица». Мучительно зло и навязчиво властвовали в его сознании эти два слова, и он думал с отчаянной тоской – как просто оказался в руках черносотенцев. Вбежал в казарму, и пока поднимал солдат, налетело офицерье. Самое глупое, что Жалковский, узнав его, ударил белой перчаткой по лицу. Потом только накинулись они, разъяренные, со всех сторон, сбили с ног и скрутили руки. Надо было хотя бы этого негодяя с серыми змеиными глазами пристрелить. Все не так обидно было бы умирать!.. Нестеров представил виселицу на Скобелевской площади, возле военного собора: деревянную глаголицу с веревочной петлей, себя, стоящим на помосте. Представил тысячи асхабадцев, сбежавшихся взглянуть, как будут вешать революционера, и увидел пробиваюшуюся в толпе Аризель. Он представил ее плачущую, молящую о пощаде, и вздрогнул всем телом: «Нет! Ариль, милая моя Ариль, ты не должна видеть, как они будут вешать меня. Я не выдержу твоих слез и рыданий… Ты должна уйти со мной в вечное небытие улыбающейся и нежной, какой я оставил тебя в день нашей помолвки… Судьба, судьба, смилуйся ты надо мной, не трави душу перед смертью!»
В коридоре чиркнули спичкой. Нестеров подошел к «волчку» и увидел надзирателей: одного, второго, третьего. «Усиленная охрана», – догадался Нестеров. И тут один сказал:
– Хоть бы священника привели. Причастился бы, А то у нас всегда – абы как.
– Там, на площади, и причастится, – отозвался второй и прошел дальше по коридору.
Третий вздохнул:
– Вот так, ни за понюх табаку. А им, солдатикам-то что? Загнали их казаки, разоружили и вся недолга. Ну, может, кого и арестуют. Только вряд ли. Говорят, Косаговский пообещал помиловать, если покаятся.
– Может и этого помилуют, если покается?
– Тогда на что виселица? Тут все предусмотрено.
«Да, смерть на твоем пороге, Иван!» – выговорил про себя Нестеров и стал ходить по камере,
До утра он не сомкнул глаз.
В девять утра начали доноситься голоса: сначала из кабинетов, потом из коридоров. И все чаще и чаще называлась фамилия – Нестеров. Вскоре к двери подошли несколько полицейских. Отомкнули замок, громыхнули задвижкой.
– Выходи, арестованный! – строго приказал Еремеев.
– На суд? – безразлично спросил Нестеров.
– Да, будут судить… в офицерском собрании. Суд военный.
– Вот оно что, – усмехнулся арестант. – А защита будет?
– Ишь ты чего захотел!
Его вывели на крыльцо четверо или пятеро полицейских. Нестеров успел увидеть черную крытую карету, в каких возят арестованных, улицу перед собой и улицу Левашова – слева. И вдруг оттуда, с Левашовской, из боковых ворот Русского базара хлынула огромная толпа. Толпа в несколько секунд приблизилась к полицейскому управлению и, прежде чем стража поняла, что происходит, Нестерова схватили под руки и уволокли в ревущей, несущейся людской массе. Полицейских, стоявших с ним рядом, тоже увлекли за собой. А черную карету перевернули вверх колесами. Люди с базарной площади видели, как все происходило. Позже рассказывали: «К девяти утра на базаре собралось столько народу, что все решили, что привезли картошку из Чувашии. А потом весь базарный люд бросился на полицию и чуть не снес самое здание».
Нестеров почувствовал, что спасен, когда, отбежав метров за триста, за проспект Куропаткина, увидел рядом Вахнина и Шелапутова. С ними же были Ратх, Андрюша и Гусев. На Козелковской улице они лишь на мгновенье остановились. Остановил их Гусев.
– Товарищи, только не в слободку! Там казаки. Сейчас из управления им позвонят, и нас встретят штыками!
– В цирк, в цирк! – предложил Ратх. – Там есть место, никто не найдет.
И вся группа повернула влево, вбежала во двор акционерного общества «Рудольф и К», затем проскочила мимо мусорных ящиков и оказалась за цирковой конюшней. Здесь все остановились, чтобы отдышаться и решить: что делать дальше.
Ратх первым пробрался во двор цирка. Во дворе никого не было. Только Никифор, как всегда, возился на конюшне. Все остальные артисты и прислуга еще не приехали. Ратх тотчас вернулся, позвал Нестерова и, проведя его под купол цирка, ввел в уборную комнату. В ней стояли столик, стулья, ящики и всюду на стенах висели афиши… Ратх быстро открыл крышку в погреб, спустился сам и подал руку Нестерову; Здесь было сыро и пахло одеждой.
– Вот здесь до вечера сидите, Иван Николаевич, потом посмотрим… Я найду Амана…
Дальнейшие события разворачивались довольно просто. После полудня, когда все стихло, и лишь по улицам разъезжал казачий патруль, Никифор вывел двух жеребцов из конюшни. Сел на одного, второго взял за повод и отправился за город, на «клевера». На севере Асхабада, возле новой бойни, где протекал арык, цирк имел свои небольшие угодья, и там частенько паслись лошади. Ратх, тем временем спустившись в погреб, облачил Нестерова в туркменский халат и сапоги, надел на него белый тельпек джигита. А Аман, явившись домой, сказал Каюм-сердару, что его благородие Махтум-кули-хан просил Амана привезти ему на той четыре ящика коньяка из ресторана.
– Ну что ж, отвези, – согласился отец. – Только не пойму, чего ради Махтумкули-хан заговорил с нами? Раньше я этого не замечал.
– Суровая жизнь всех мирит, отец, – сказал Аман и стал запрягать лошадей. Тут же он и выехал. И когда остановился возле цирка, то со двора вышли в туркменской одежде Ратх и Нестеров. Спокойно, без суеты, сели в ландо, поставили на колени дутары. Затем Аман занял место кучера и повозка двинулась в сторону новой бойни, на арыки. Благополучно проехали через армянские кварталы, миновали казачий пост на железнодорожном переезде. Правда, здесь унтер-офицер, подняв руку, остановил ландо и велел открыть дверцу. Но когда увидел туркмен с дутарами, то улыбнулся:
– На свадьбу, небось? – полюбопытствовал он.
– Угу, – ответил Ратх. – Наш отец, Каюм-сердар, берет четвертую жену.
– Живут же эти сердары, – позавидовал унтер и сам прикрыл дверцу.
На «клеверах» Аман распряг лошадей. Никифор помог ему. Затем оседлали трех скакунов. Нестеров, Ратх и Аман сели на них, попрощались с Никифором и поскакали на север, в пески. Аман хорошо знал дорогу к озерам Джунейта. Шестьдесят верст он проходил по пескам не один раз…
Никифор вернулся из-за города в сумерках. В цирк не поехал. Заглянул прямо к Гусеву: тут ему приготовили билет на пассажирский поезд. На рассвете он сел в вагон…
О брошенном ландо полиции стало известно лишь на другой день, когда управляющий бойни, осматривая скот в загоне, приметил: стоит золотистое ландо, кажется, сельского арчина, а людей и лошадей рядом нет. Управляющий подъехал, осмотрел коляску, понял, что дело тут нечисто и заявил полицмейстеру.
Лишь на третий день обо всем узнали Каюмовы. А известил штабс-капитана, как всегда, Ораз-сердар. Придя на службу и разговаривая с Жалковским, он приятно изумился, узнав о судьбе золотистой коляски, о которой два дня бубнил штабс-капитан, дескать, уехал Аман в Геок-Тепе и пропал.
– Ну что, штабс-капитан Каюмов, поздравляю вас,
– сказал с ехидной улыбкой Ораз-сердар. – Нашлось ваше ландо.
– Где, господин майор? – обрадовался Черкезхан.
– За городом, на Хивинской дороге. Лошадей ваших выпрягли и угнали, а ландо бросили. Видимо, такое оно и новое, если им не воспользовались грабители.
– Господин майор, я буду вам благодарен, если вы позволите мне сесть в ваш тарантас и съездить на Хивинскую дорогу!
– Что ж, пожалуйста, штабс-капитан, – не отказал Ораз-сердар. – Пожалуй, и я прокачусь с вами.
Офицеры сели в тарантас и минут через двадцать были за городом. Тут около арыка они увидели ландо, которое стояло, ткнувшись в землю оглоблями, а на оглобле сидел полицейский и курил самокрутку.
– Уму непостижимо, – сокрушался Черкезхан. – Главное, лошадей увели. Теперь покупать придется.
– Взяли бы вы, Черкезхан, коней у своих братьев-разбойников. Они же оба – революционеры. Гнать их надо из цирка… – И тут вдруг Ораза-сердара осенило:
– Штабс-капитан! – воскликнул он. – А вы не допускаете мысль, что это братья-циркачи выпрягли из ландо лошадей? Выпрягли и увезли с собой в пески Нестерова! Ведь младший ваш, Ратх, несколько месяцев жил у Нестерова! Почему бы не допустить такую мысль, что он помог ему бежать?
– Господин майор, умоляю вас, не порочьте нашу благородную фамилию. Все что угодно, только не связывайте нас с революционерами!
– Я не собираюсь порочить вашу фамилию, штабс-капитан. Но, согласитесь, доводы мои более чем убедительны. Я бы на вашем месте, Черкезхан, непременно проверил эту версию. Впрочем, извините заранее меня, но о моих подозрениях я сообщу Жалковскому.
– Господин майор, вы всегда были беспощадны ко мне. Ну зачем вы желаете мне зла?
– Это я беспощаден! Да вы что, штабс-капитан? – засмеялся Ораз-сердар. – Я докажу, что это не так, причем сейчас же. Выпрягайте одну лошадь из моего тарантаса, запрягайте в ландо и поезжайте домой. Лошадь потом приведете в канцелярию. А что касается «беспощадности», то замечу вам: всякие деяния на пользу государя и отечества не подходят к этому слову.
– Спасибо, господин майор. Вы, конечно, правы.
– Ну, вот видите!
Спустя некоторое время офицеры возвратились в асхабадский аул и рассказали о случившемся Каюм-сердару.
Поиски Нестерова продолжались уже третий день. На ноги была поставлена вся полиция города и приданные ей группы конных казаков. Ищейки беспардонно врывались в армянские дворы на Нефтоновской и Чехова, где, по предположениям, мог спрятаться бежавший преступник, лезли в сараи и погреба в рабочей слободке, за железной дорогой. Заодно произвели обыск в квартирах Вахнина, Шелапутова и слесаря Гусева, которые тоже бежали из города.
Приезжая на службу, генерал Косаговский каждое утро, войдя в кабинет и вызвав Жалковского, спрашивал о результатах розыска, качал головой, затем останавливался у окна и с сожалением говорил, глядя на виселицу:
– Боже ж мой, неужели эта глаголица так и не испытает смертный груз? Неужели так и будет стоять, как символ несбывшегося?
– Ваше превосходительство, – говорил Жалков-ский. – Я все-таки склонен думать, что случай кражи лошадей у арчина и бегство революционера – единая цепь. Может, нам отправить в пески отряд казаков?
– В пески? Казаков?! – удивился Косаговский. – Да вы что, генерал! Это же раскаленное пекло, я бы сказал. Казак хорош в чистом ковыльном поле, а в барханах при такой невыносимой жаре сразу скурожится. Да и чего гоняться-то попусту? Пустыня – она вон какая! С юга на север до самого Оренбурга тянется, а с востока – до Каспия. Попробуй-ка найди в ней беглеца. Пока ищите в городе.
Прошло еще три дня, и Косаговский поостыл. Виселицу приказал убрать, но поиски не прекращать. Жал-ковскому сказал самодовольно:
– Я думаю, виселица сделала свое дело. Не будь ее на площади – может быть революционеры еще подумали, бежать им из Асхабада или не надо. А как поняли, что не тому, так другому придется висеть на ней, так все и разбежались. Но жаль, конечно, что не удалось повесить этого частного поверенного… В центре России, по последним сведениям, уже несколько тысяч революционеров вздернуто. Плохо все-таки работаем. Плохо!
Розыск продолжался. И на тумбах всюду висел портрет Нестерова: красивое худощавое лицо, обрамленное бородкой, внимательный строгий взгляд и крепко сжатые губы. Но внимание к нему ослабевало, и уже кое-где портрет был залеплен свежими афишами или содран. И разговоры о беглеце прекратились. Но не переставал о нем думать штабс-капитан Каюмов.
В канцелярии о неполадках в семье Черкезхана уже забыли, а он только еще «созрел», чтобы отвратить от себя эту беду. В один из дней он обратился к Жалковскому:
– Ваше превосходительство, я и мой отец решили обратиться к вам за помощью. Дайте мне в дорогу двух казаков: я поеду в пески и постараюсь разыскать бежавшего преступника. Я не сомневаюсь, что он у чабанов. Его увезли туда мои братья. Их я тоже привезу и сдам вам собственноручно!
– Напрасная затея, господин штабс-капитан, – сказал Жалковский, но в голосе его не было уверенности. – Понимаете, сам начальник области против того, чтобы гоняться за одним преступником по всей Каракумской пустыне. Впрочем, если вам требуется всего два человека, пожалуй, есть смысл поговорить с Косаговский. Потерпите немного, сегодня же я решу этот вопрос.
– Ну что ж, – согласился он, – поезжайте, коли душа зудит. Привезете преступника – получите награду и в звании повысим сразу, а нет… У нас говорят: «На нет и суда нет». Доброго пути вам, штабс-капитан.
Вечером, часа за два до сумерек, Черкезхан отправился в пески, взяв с собой двух конных казаков и кучера Язлы, с нагруженным верблюдом. Язлы бывал у чабанов раньше, знал к ним дорогу. А на верблюда погрузили бочонок с пресной водой, хлеб и жареное мясо.
Ночь застала офицера и его сопровождающих в пятнадцати верстах от города. За спиной растворились очертания Копетдагских гор, над головой засверкали крупные звезды, а из глубины Каракумов повеяло прохладой… И чем глубже погружалась вселенная в ночь, тем холоднее становилось в песках. И жуть наваливалась от непонятных ночных звуков. Казаки, храбрясь, пугали друг друга разными чудовищами из сказок, Черкезхан с Язлы беседовали о том, что надо спешить и успеть добраться до чабанов не позднее завтрашнего полудня. Иначе пригреет солнце, и тогда придется туго– и людям, и лошадям. Привал сделали в час ночи. Дали отдохнуть скакунам, не расседлывая их. Верблюда осадили на брюхо, не снимая поклажи. Сами легли, подстелив шинели, а Язлы – чекмень. В четыре, когда на горизонте засверкала утренняя звезда, отправились дальше. Еще три часа ходу, и вот оно – урочище чабанов: высокие, поросшие саксаулом барханы, а в низине несколько кибиток.
Конечно же, чабаны сразу увидели приближающуюся группу всадников. В пустыне подойти к одиноким кибиткам и быть незамеченным почти невозможно: днем увидят люди, ночью – собаки. Днем безопаснее, поскольку люди успеют разобраться – кто едет, и предпримут соответствующие меры. Ночью же всякий – враг. Черкез об этом хорошо знал и приблизился к кошу, когда развиднелось. Подъезжая, услышали лай собак, затем кто-то из чабанов появился на бархане, а следом еще двое. Язлы удовлетворенно сказал:
– Это Алты-ага со своими. Я узнал его.
– Это хорошо, что у тебя такой зоркий глаз, – похвалил Черкез и предупредил: – Но язык придержи, не хочу, чтобы он у тебя был длинный. Я сам расспрошу обо всем чабана.
Язлы вобрал голову в плечи, и пока здоровались с хозяевами, помалкивал. А Черкезхан, едва поздоровавшись, спросил:
– Ну и чего они хотят сделать с этим русским?
– О каком русском говорите? – не понял Алты-ага.
– Не прикидывайся дураком! – повысил голос Черкезхан. – Русский босяк прячется где-то здесь! И с ним еще двое.
– А кто могли быть эти двое, ваше благородие?
– Братья мои!
– Нет, не было ваших братьев, – отвечал чабан. – Русского тоже не видел.
– Алты-ага, вы почтенный человек, а почему-то врете мне. – Черкезхан вынул револьвер. – Если не скажете, придется пристрелить вас.
– Хан-ага, ваше благородие, не видел я никого, – стоял на своем чабан.
– Ну-ка, казаки, заставьте его говорить правду! – приказал штабс-капитан.
Казаки тотчас выхватили плетки и принялись стегать чабана. Алты-ага бросился было бежать, но его сбили с ног и ударили плетью по лицу.
– Черкез, собачий сын! – взъярился чабан. – Ты чего со мной делаешь?! Ты думаешь, если ты хозяин, тебе все можно. Ну стреляй тогда, сын паршивой овцы, выкормыш Петербурга! Но не было тут твоих братьев, не было!
– Господин офицер, – учтиво вмешался подпасок. – Может, они на Джунейте?
– Где этот Джунейт? – сразу оживился Черкезхан,
– Кто там живет?
– Там седельщик живет.
– Еще кто, ну говори!
– Еще старуха его… и одна беленькая.
– Кто такая – беленькая?
– Городская она, господин офицер.
– О аллах! – воскликнул отчаянно штабс-капитан. – Ты молвишь истину губами вот этого глупого подростка. Значит, все мои предположения сбываются! Казаки, садитесь на коней, поедем к Джунейту. А ты, чолук, иди вперед – покажешь нам это место.
– Сын паршивой овцы… Предатель из предателей,
– злобно проговорил Алты-ага, презрительно глядя на своего подпаска. – Не будет тебе места на земле. Я удавлю тебя собственными руками!
Но чабан перестарался в своей ненависти. Слова его взбесили штабс-капитана. Обернувшись, он замахнулся на старика и в бешенстве два раза выстрелил в него. Две женщины тотчас выбежали из кибитки и бросились к мертвому. Заплакал подпасок, охваченный горем и страхом. Черкезхан ткнул его дулом револьвера в спину и проговорил:
– Веди и покажи нам место, где прячутся городские, или я тебе всажу пулю в спину!
* * *
Джунейд – это райское местечко известно было лишь немногим. Находились оно в двадцати верстах от караванной дороги, и сюда почти никто не заглядывал. Даже те, кто слышал о голубом чистом озерце в песках, не стремились к нему. Путешественники из Хивы, едущие в Асхабад, увидев Копетдагские горы, спешили поскорее к ним, и не было смысла сворачивать в сторону, к озеру. А отправляющиеся из Асхабада в Хиву не сворачивали к озерцу, поскольку не было смысла делать остановку в самом начале пути. Седельщик, обосновавшийся здесь, жил преспокойно. Путники к нему не заезжали. Седла он возил на базар в Асхабад и продавал там. И время от времени появлявшиеся на Джунейте калтаманы не только не грабили старика, но и защищали его,
Аман и Ратх, спасая Нестерова, предосторожности ради, не стали заезжать к чабанам. Проехали прямо на озеро. Тут помылись после трудного пути, ибо ехали днем, в самую жару. Расположились в черной кибитке седельщика: вынесли из нее вонючие кожи, которыми обтягивал седла хозяин, взбрызнули пол и постелили кошмы. Аман тотчас отправился в другую кибитку, к Галие. После недолгого отдыха сошлись все. вместе и вновь стали думать, что делать дальше. Ясно было, что возвращаться в Асхабад ни братьям, ни тем более Нестерову нельзя: ни через неделю, ни через год. Пока в Асхабаде властвуют монархисты, находиться там опасно. Ехать через всю пустыню, в Хиву, а оттуда на Мангышлак – не менее опасно. В пути, на большой дороге» можно наткнуться на казачий разъезд. Решили выждать: пусть успокоится Косаговский, пусть подумает, что Нестеров уже выбрался из Закаспия. Потом можно будет выйти на какую-нибудь ближайшую станцию, где останавливается поезд, и уехать.
Так, в разговорах, прошло четыре дня. Беглецы окончательно успокоились. И тут приехал Байкара. Увидев Нестерова, насторожился сразу:
– Аман, только не темни, говори прямо: это тот человек, которого хотели повесить?
– А ты что, хотел получить награду за поимку его? – вопросом на вопрос ответил Аман.
– Нет, Аман, – отмахнулся Байкара. – Если это тот человек, то я хотел бы спросить у него, как чувствует себя приговоренный к виселице.
– Странные у тебя желания, – удивился Ратх.
– Странного ничего, циркач, – ответил Байкара. – Махтумкули-хан давно уже распустил слух: «Как поймаю Байкару, сразу повешу по-русски, на столбе». Вот и хочу знать: не тот ли, приговоренный, приехал с вами? Если он, то я должен назвать его своим братом по судьбе.
Все это время, пока Байкара говорил, весело поглядывая на Нестерова, Иван Николаевич внимательно слушал калтамана, стараясь понять, о чем он толкует. И Ратх тотчас перевел. Нестеров усмехнулся:
– Схожесть судеб измеряется не виселицей, Байкара. Английская королева Мария Стюарт и вождь французской революции Робеспьер – оба погибли на эшафоте, но они не были единомышленниками. Мы с тобой, Байкара, тоже по-разному понимаем жизнь. Ты, как мне сказали мои друзья – вольный разбойник пустыни. Грабишь богатых купцов, кормишь свою шайку – этим и ограничивается твоя деятельность. Что касается меня, я состою в партии социал-демократов, в которой сотни тысяч человек. И у нас задача – не грабить и не убивать купцов и капиталистов, а совсем свергнуть их и отдать власть рабочим и крестьянам.
– Да, я слышал о ваших желаниях, – без обиды отозвался Байкара. – Но то, о чем ты говоришь, урус, вы желаете сделать для своих, русских. А мы живем по-своему и расправляемся с богатыми и жадными людьми по-своему. У нас своя революция.
– Это не революция, Байкара, – возразил Нестеров. – Это лишь ее зачаточное проявление. В русской истории много было таких, как ты, добрых разбойников. На прошло время и люди поняли: добрые разбойники не смогут одолеть царя и его многотысячную армию полицейских, казаков, дворян и помещиков. А когда поняли, то пришли к мысли, что нужна единая партия, которая бы защищала интересы бедного народа, боролась бы за его права и в конечном счете свергла насильственный царский строй.
– Иван, вот что я тебе скажу. Как бы не закручивались завитки жизни, Байкара не затеряется в них малой блохой.
– Может быть и не затеряешься, – согласился Нестеров, – если поймешь самую суть. Но пока что ты смотришь на жизнь глазами ребенка. Вот ты мне сказал: «У туркмен своя революция». Туркмены, дескать, сами по себе, объединяться им с русскими бедняками, вроде бы, самим аллахом запрещено. А знаешь ли ты, Байкара, почему туркменские баи и ханы сильнее дехканской бедноты сегодня? Да потому, что они с русскими господами давно объединились против бедняков-туркмен и против русских рабочих. Я приведу тебе лишь один-два примера, и ты поймешь, Байкара, что это так. Например, все ханы Туркмении получают из казны начальника области по триста рублей в год! Триста рублей, понимаешь? А ты задумываешься, за что-им платят такие деньги? А платят им за то, чтобы своих: дехкан усмиряли и подчиняли русскому падишаху.
Дальше так скажу, Байкара. Видел ли ты, чтобы крупные события в области проходили без участия туркменских ханов, баев и ишанов? Нет, такого не бывает. Начальник области никогда не забудет о них, потому что это его опора! И вот, когда они сходятся, то кричат: «Русских и туркмен водой не разольешь!» А на самом деле, не разольешь генерала и хана, бая и купца, а бедняка-туркмена с бедняком русским пока что разлить можно. И они, эти баи и генералы, не дают нам объединиться. Ты понимаешь это, Байкара? Основная политика царской власти в Туркмении – не дать беднякам-дехканам соединиться с российским пролетариатом. И вот что получается… Получается, Байкара, что ты, вместо того, чтобы бороться с царской политикой, вольно и невольно способствуешь ей, не признавая русских пролетариев!
Байкара слушал очень внимательно. И раздумывал долго. Компания уже заговорила о другом, а он все думал над сказанными словами русского революционера Наконец проговорил:
– Ладно, Иван, я хорошо запомню то, что ты сказал. Но ты прости нас, мы не такие грамотные, как вы, русские. Были бы грамотными, давно бы сами догадались. Скажи, какая помощь тебе нужна? Байкара все для тебя сделает.
– Нужна помощь, Байкара, – проговорил Нестеров. – Очень нужна… Ты знаешь Арама Асриянца?
– Ты говоришь о главаре армян? – уточнил Байкара.
– Да, о нем… Он пока в Асхабаде, но через несколько дней уедет. Надо успеть передать ему записку. Если я попрошу тебя, ты сделаешь это?
– Иван, ему передадут мои люди. Его все знают. Давай записку, – сказал Байкара.
– Я сейчас напишу! – заторопился Нестеров: оторвал от старого письма чистый неисписанный клочок и написал: «Милая Ариль! Я жив и здоров, жди меня в Шуше!» – Вот, Байкара, пошли сегодня же человека к Асриянцу. Если Арам получит ее, я весь век не забуду эту услугу.
Трое джигитов собрались в путь и, выехав, тотчас скрылись за барханами. Проводив их, Байкара вернулся в кибитку.
Пока мужчины вели беседу в кибитке, женщины стояли у казана, подбрасывали в огонь стебли сухого камыша и любовались малышом Амана, которого держала на руках Галия. Мальчику уже исполнилось полгода, он лепетал бессвязно, и это доставляло радость матери, а старуху – жену седельщика – забавляло.
– Царские! Царские едут! – послышался вдруг детский крик.
Женщины оглянулись и увидели всадников, едущих по берегу озера. Обе вскрикнули и заспешили в кибитку, к мужчинам.
– Аман, – проговорила испуганно Галия. – Царские военные едут.
Все, кто был в кибитке, сразу схватились за оружие и вскочили с кошмы. Аман хотел выйти наружу, но Байкара остановил его:
– Сразу видно, что неопытный джигит. Не спеши. Надо узнать, с каким настроением приехали. Тебя, наверное, разыскивают, Иван, – посмотрел он на Нестерова.
– Ничего, живым я им не дамся, – отозвался тот. – Это Черкез! – первым узнал брата Ратх.
– Да, это Черкез, – подтвердил Аман. – Все-таки удалось ему узнать, где Галия. Ну ничего, встретим с достоинством!
Галия, узнав, что приехал с казаками Черкезхан, изменилась в лице: стала бледной, словно ангел смерти уже занес над ней свои черные крылья. Попятившись в глубину кибитки, она прислонилась спиной к териму и прижала к груди дитя.








