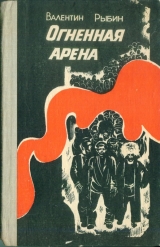
Текст книги "Огненная арена"
Автор книги: Валентин Рыбин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 19 страниц)
– Приступайте к составлению протокола, – распорядился Слива.
Пересвет-Солтан сел за стол, послюнявил языком химический карандаш, вывел сверху листка: Протокол.
– Ни стыда у вас нет, ни совести, – насмешливо сказала Ксения. – Я ведь эту прокламацию на дороге подобрала, когда шла домой. Подобрала, чтобы разжечь печку, а вы нас сразу в революционеров превратили!
– Помолчите, мадам, не мешайте исполнять службу, – торопливо попросил Пересвет-Солтан.
– Вы это называете службой… И даже гордитесь такой службой, – заметил Стабровский. – Но вы же просто-напросто оскорбляете людей!
– Помолчите, не мешайте…
Возвратившийся со двора Тонакевич доложил, что ничего предосудительного на ближайшей территории не найдено. Тогда Пересвет-Солтан предложил произвести обыск у хозяина дома, господина Асриянца, но Слива запротестовал.
– Только в качестве свидетеля. Попросите, чтобы пришел засвидетельствовать…
Асриянц, в ночной пижаме, поверх которой куце висел халат, вошел в комнату.
– Чем могу служить? – спросил, быстро оценивая обстановку.
– В каких связях состоите с учителем Стабровским? – спросил Пересвет-Солтан.
– Он у меня снимает квартиру… Платит исправно. Так что, претензий у меня к нему нет никаких.
– Не замечали ли вы что-нибудь противозаконного в его действиях и поступках?
– Ну что вы, господин полицмейстер. Людвиг Людвигович порядочный человек! И Ксения Петровна, дай бог, каждой быть такой честной.
– С какого времени он у вас снимает квартиру? – Если не ошибаюсь, с середины сентября.
– Может, что-то добавите еще?
– Нет, ничего…
– Хорошо, господин Асриянц, ступайте. Мы вас еще вызовем…
Около шести утра Людвига и Ксению вывели из комнаты и посадили в телегу. Туда же бросили гектографический ящик. Полицмейстер, пристав и помощник прокурора сели на лошадей, полицейские чины зашагали сбоку повозки,
* * *
Утром взревел деповский гудок. Ревел долго, перемежая басовитый храп жалобным фальцетом. Это был самый обычный гудок, возвещавший о начале самого обычного рабочего дня. К нему в Асхабаде давно все привыкли, почти не замечали его. Но если б вдруг не загудел он вовремя, то, наверное, нарушил бы весь городской уклад жизни. Вместе с гудком заскрипели двери в домах, захлопали калитки, потекли людские толпы по мокрым тротуарам и грязным расквашенным дорогам, загремели колеса фаэтонов и арб. Город зашумел, загалдел, задвигался, чтобы переварить еще один день истории и проводить его в вечность. Но этот день для истории все-таки начался необычно. Необычность его была в том, что рабочие депо, чиновники управления железной дороги, служащие банка и всевозможных акционерных обществ и товариществ с самого утра занялись разговорами о ночных вылазках социал-демократов. Прокламации с напечатанной Программой РСДРП и листовки «Ко всем жителям Асхабада» распространились не только в цирке, но и в депо, в стрелковом батальоне, среди солдат, в обеих гимназиях, в школе садоводства и огородничества, в хлебопекарнях и во всех прочих присутственных местах. Необычность этого дня вскоре превратилась, по выражению начальника уезда Куколь-Яснопольского, в знамение, ибо в десятом часу утра начальником Среднеазиатской железной дороги генерал-майором Ульяниным была получена шифровка о массовой демонстрации рабочих Санкт-Петербурга и применении огнестрельного оружия против них. В шифровке предписывалось об усилении бдительности на окраинах империи, и начальник дороги немедля сообщил о депеше Уссаковскому. Начальник Закаспийской области, уже извещенный о ночных прокламациях и аресте группы эсдеков, связал эти события с происшествиями в Петербурге. Тотчас он созвал экстренное совещание…
В рабочей слободке, за железной дорогой, до десяти утра никто о ночных происшествиях не слышал. И частный присяжный поверенный Иван Нестеров узнал о событиях крайней важности в прокуренной комнатенке областного суда. Сюда он пришел без пяти десять. Ровно в десять должно было слушаться дело о возмущении арбакешей-туземцев, перевозящих грузы по Гауданской дороге. Нестеров приготовился к защите обвиняемых, но, увы: придя в суд, он не нашел на месте ни прокурора Лаппо-Данилевского, ни его помощника Сливу. Один из знакомых заседатели тотчас пояснил.
– Все, как есть, помчались к Уссаковскому. Видно, дело нынче вовсе не будут слушать.
– А что там такое? – полюбопытствовал Нестеров.
– Батенька мой, да вы что! Или не знаете? Ночью Пересвет-Солтан целую группу социал-демократов арестовал! Да и в Питере, говорят, беспорядки.
– Странно, – затаив дыхание, проговорил Нестеров. – И кого же арестовали ночью?
– Да учителя из женской гимназии! Знаете, наверное. Высокий такой, горбоносый, с кадыком. Все время в длинном пальто и шляпе ходил!
– Видел, как же… – глухо отозвался Нестеров и почувствовал, как екнуло у него в груди сердце.
– Говорят, кто-то из своих же предал, – продолжал заседатель. – Гимназисты какие-то замешаны, попечитель гимназии…
– Н-да, дела, – с трудом выговорил Нестеров, и а мозгу застучало: «Красовская! Красовская!» На миг он представил желтое ландо, циркового джигита Каюмова, и почувствовал, что дышать ему больше тут нечем, надо выйти на улицу.
– Коллега, вы-то чего ради расстроились? – удивился заседатель. – Ловить их надо и судить всех до единого! Ни в позапрошлом, ни в прошлом году не было у нас прокламаций, а в этом – беда, аж страх берет! К черту жалость!
– Себя пожалейте, – бросил на ходу Нестеров и спустился с крыльца.
Он зашагал по тротуару, с трудом находя в себе силы, чтобы успокоиться. Вновь перед ним всплыло желтое ландо, Тамара и ее друг. «А если не Красовская?» Нестеров перебрал в памяти всех, кто участвовал ночью в распространении прокламаций, но не нашел никого, кто был бы способен на предательство, и опять вернулся к желтому ландо и наезднику. «Легкомыслие – хуже предательства… Если джигит даже заподозрил что-то неладное – и этого достаточно для раскрытия тайны… Черт меня угораздил! – тотчас выругал он самого себя. – Ведь это я сам навязал ей идейку воспользоваться каретой аульного арчина!». Нестерову нестерпимо захотелось поскорее узнать все подробности ареста Людвига. Но как?
Словно оглушенный, ходил он по закоулкам возле вокзала. «Она, только она!» – твердо решил он. И тут он увидел Тамару, возвращавшуюся из гимназии. Не окликая девушку, он пошел следом за ней, и так дошел до ее дома. Лишь когда она отворила калитку, позвал:
– Красовская, постой.
– Иван Николаевич, дорогой! Беда-то какая! Заходите ко мне, – обернувшись, со слезами в голосе заговорила Тамара.
– Мадам твоя дома?
– Нет… Она же торговка…
Они вошли в дом.
– Что тебе известно об аресте Людвига?
– Иван Николаевич, беда-то какая! Его и Ксану арестовали ночью. Кто-то предал.
– Кто именно? – И тут же продолжил: – Я подозреваю твоего джигита, Ратха Каюмова. Вчера он ездил с тобой, и ты, наверняка, посвятила его в суть нашей операции.
– Иван Нестерович, но Ратх честный и преданный нам человек!
– Я спрашиваю: знает ли джигит о нашем деле? – жестко выговаривая каждое слово, спросил Нестеров.
– Да, Иван Николаевич, знает, – растерянно созналась Тамара. – Но я ручаюсь за него собственной жизнью! – тут же твердо выговорила она.
– Слушай, Красовская, – сурово проговорил Нестеров, – то, что ты сделала, у меня не укладывается в голове. Будешь держать ответ перед эсдеками. А что касается джигита… Если он предал, то пусть пощады не просит.
Нестеров тяжело вздохнул, запахнул полы кожанки и вышел во двор. Тамара сдвинула занавеску и, прильнув к окну, посмотрела ему вслед. «Ратх – предатель? Не может этого быть… Никогда не поверю!». Она отошла от окна и заходила по комнате. «Нет, нет, не он… Но кто же тогда? Ведь ни одна живая душа, кроме своих, проверенных людей, не знала о распространении прокламаций. Что же делать?»
Успокоившись немного, она все же решила навестить Ратха и поговорить с ним.
Тамара захлопнула дверь дома, сунула ключ в карман и заспешила через железнодорожные пути к вокзалу. Пройдя по перрону, вышла на площадь и направивлась в сторону туркменского аула.
Вскоре она уже шагала по тесной улочке, сдавленной с двух сторон глинобитными дувалами и стенами кибиток. Во дворах виднелись оголенные урюковые деревья и кряжистые тутовники. Блеяли овцы или козы. Тамара шла, не выпуская из поля зрения купол мечети. Рядом с ней должно быть подворье Каюмовых. Ратх говорил ей, где они живут. И о приметах сказал: большие деревянные ворота, и на калитке синий почтовый ящик. По этим приметам и отыскала девушка двор аульного арчина. Тамара осмотрелась: нет ли кого поблизости, кто бы мог позвать Ратха? Но переулок был пуст. Оставалось единственное: постучать в калитку. Так она и сделала. Тотчас во дворе залаяла собака, затем послышались голоса. Старшая жена Каюм-сердара приоткрыла калитку, при виде русской барышни тотчас отступила назад.
– Кому тибэ, урус?
– Ратха мне, бабушка.
– Вий! – удивленно вскрикнула старуха и удалилась.
И опять до Красовской донеслись женские голоса. По их интонации она догадалась, что ее, наверняка, осуждают. Так оно и было. Нартач-ханым, знавшая, что младшенький Ратх знается с гимназистами, дала волю своему красноречию. «Виданное ли дело, – говорила она своим собеседницам. – Появилась без стыда, без совести, с открытым лицом и потребовала нашего сына! Ох, горе, горе мне! Сначала татарку в дом взяли, а теперь русская сама в дом лезет!»
Сыну о приходе русской барышни сообщить она не успела. Ратх догадался, что пришли к нему. Он вышел к Тамаре улыбающийся и в то же время смущенный упреками женщин.
– Не обращай на них внимания, – успокоил девушку, – Здравствуй… Не думал, что это ты…
– Ратх, мне с тобой надо поговорить. Давай отойдем подальше, чтобы никто не слышал.
– С тобой хоть куда, Тамарочка.
– Ратх, нас предали. Стабровские, Хачиянц и Егоров арестованы.
Произнеся эти роковые слова, она заглянула парню в глаза, надеясь увидеть в них смятение, страх и еще что-нибудь такое, чем бы выдал себя Ратх. Но глаза его лишь удивленно расширились, и он неуверенно спросил:
– Кто предал?
– В деле участвовали верные, проверенные люди, – отозвалась с тяжким вздохом девушка. – Все свои. Подозрение пало на тебя.
Выговорив эти горькие слова, Тамара опустила голову, совершенно уверенная в том, что предал не Ратх. А он как-то странно ойкнул, словно сраженный пулей, потом растянул губы в брезгливой улыбке и глухо спросил:
– Ты долго думала?
– Ратх, пойми меня. Все до единого были наши. Ратх, может быть ты нечаянно сказал что-нибудь лишнее своему старшему брату или Аману?
– Нет, Тома джан, – зло и слишком четко выговорил он, словно за этой короткой фразой должен был последовать удар.
Сердце у Тамары похолодело. Невольно она отступила от него. А он еще четче произнес;
– Значит, Ратх – предатель! Значит, все хорошие, а один Ратх – последний человек?
– Не горячись, Ратх, – испуганно попросила Тамара. – И не думай, что мне легче твоего.
Тамара замолкла, потому что судороги в горле сковали ее голос и дыхание. Ратх тоже молчал. Наконец он встрепенулся и гордо произнес:
– Запомни, Ратх никого никогда не предавал и не предаст. Но тебя я презираю… поняла? Презираю! – еще злее выпалил он, повернулся и зашагал к дому.
* * *
Поезд через Асхабад проходил вечером: время самое удобное. Нестеров сел в общий вагон. В Кизыл-Ар-ват приехал перед рассветом. Темень – хоть глаз коли. Только на станции два тусклых фонаря. Да через дорогу, возле железнодорожных мастерских фонарь. Обошел паровоз спереди, зашагал через пути к мастерским. Пройдя вдоль длинной кирпичной стены, вышел на узкую улочку и вскоре отыскал барак, в котором жил Батраков.
Это был барак времен Скобелева. В годы присоединения Туркмении к России в нем квартировали штабные офицеры и медперсонал военного госпиталя. Госпиталь ныне размещался в расположении войск гарнизона. Старое здание госпиталя, рухнувшее наполовину в последнее землетрясение, было восстановлено рабочими железнодорожных мастерских, и в нем размещался приемный покой. Попросту его называли «рабочей больницей». Заведывала ею жена Батракова, Надежда Сергеевна. Лечила простуду, делала прививки против заразных болезней. И лишь в особо исключительных случаях, когда требовалось вмешательство опытного врача, она вызывала из госпиталя военного фельдшера Красовского. «Рабочая больница» была создана на благотворительные средства. Обо всем этом Нестеров знал по первому своему приезду в Кизыл-Арват еще три года назад.
В предутренней темноте, поднимаясь на веранду, Нестеров наступил на хвост спящей собаки. Взвизгнув от боли и страха, пес поднял такой лай, что окна барака тотчас засветились.
– Кого тут еще носит? – прогремел раскатистый бас.
– Гордеич, здравствуй. Убери своего кобеля.
– Кажется, Ванюша? – обрадовался Батраков и столкнул собаку с веранды.
Пес сразу перестал лаять и обиженно заскулил.
– Здравствуй, Гордеич, – повторил Нестеров. – Не ждал меня, конечно. – А я вот примчался.
– О забастовке нашей узнал? – спросил Батраков, похлопывая гостя по плечу и слегка подталкивая в комнату.
– О какой забастовке?
– Бастуем второй день. Петицию на десяти страницах настрочили. Пока власти не выполнят требования – не отступим. Ты надолго?
– Да нет, вечерком, думаю, назад.
– Вот ты и отвезешь нашую петицию в газету, Любимскому… Ну, проходи, проходи, раздевайся. Наденька! – крикнул он. – Гость к нам. Ванюша Нестеров!
Надежда Сергеевна залегла в другой комнате лампу и вскоре вышла, сонно улыбаясь.
– Здравствуй, Иван Николаевич. С приездом. Как там мой Андрюшенька? Видите его?
– А как же! Учится хорошо. Недавно в цирке видел, разговаривали. Толковый парень.
– Боюсь за него, – вздохнула она. – Отчаянный он. Все думаю, как бы не набедокурил.
– Теперь тебе только и осталось – думать, – усмехнулся Батраков и пояснил гостю: – С неделю уже сидит дома. Больницу закрыл пристав. Явился с полицейскими, вынесли стол и стулья, и вселили какого-то приезжего офицера.
– А вы что! – возмутился Нестеров. – Неужели позволили?
– С этого, собственно, и началась забастовка, – пояснил Батраков. – Теперь полиция рада офицеришку выгнать, да рабочие большего требуют. На вот, ознакомься… – Он взял с этажерки несколько листков и подал Нестерову. – Не сегодня-завтра сам начальник дороги приедет.
Нестеров принялся было читать петицию, но Надежда Сергеевна с укоризной сказала:
– Ну и эгоист же ты, муженек! Ванюша приехал, у него, наверное, стряслось что-то, а ты со своими заботами!
– Да, да, в самом деле… Прости, Ваня. Видимо, у тебя срочное дело ко мне, а я и слова тебе не даю сказать? Спрячь эту бумагу, передашь Любимскому. Говори, что там у вас?
– Стабровский арестован…
– Как так?
– Да вот так. Нашелся предатель, заявил полицмейстеру. Прямо с поличным взяли. Четверых. Его вместе с женой и еще двух рабочих типографии.
– Кто предал? – спросил, сжав пальцы в кулаки, Батраков.
– Если б знать, я бы предателя сам вот этими руками задавил! – проговорил жестко Нестеров. – Но в том-то и дело, что одни подозрения. Сначала подозревал твою землячку. Думал, ее приятель, джигит, донес, но вряд ли. Если б он, то Тамару первой бы арестовали.
– Красовскую не обижай, – посуровел Батраков. – Тамара – товарищ проверенный, надежный. – Поразмыслив, спросил: – С протоколами допроса знаком? Может, из протоколов можно что узнать?
– Не идти же в гости к Пересвет-Солтану! – нахмурился Нестеров.
– Да, дела неважные…
– Неважные, Гордеич. Приехал к тебе за советом. Не знаю, на кого теперь положиться.
– С Вахниным советовался?
– Разумеется. У нас с ним одно на уме: поскорее достать денег на типографию. Но вот где их взять – вопрос! И не только на типографию. Деньги, в первую очередь, сгодились бы на освобождение Людвига. Я думаю, можно подкупить следователя, или даже самого прокурора, если, конечно, с умом действовать.
– Ты что же, за деньгами ко мне приехал? – скептически усмехнулся Батраков. – Если так, то я тебе не помощник… Мог бы, конечно, свои последние отдать, да только помогут ли они!
– Гордеич, да ты что! – спохватился Нестеров. – Речь идет о тысячах, а ты черт знает что подумал. Ты-щенок бы десять достать – эх, развернулись бы! А ты, Иван Гордеич, на первый случай снабдил бы нас прокламациями. С голыми руками сидим…
Батраков задумался, затем сказал:
– Дам тебе последние номера «Искры». Почитаешь о борьбе партийных фракций. А что касается прокламаций, вот что… Ты чал пьешь? Пойдем-ка, по чашке выпьем. Тут недалеко, у соседа-туркмена.
Выйдя, они перешли улицу, и остановились возле двух туркменских кибиток. Батраков кликнул хозяина. Из кибитки вышел среднего роста, плотный туркмен в тельпеке и халате. Пышная седая борода украшала его лицо.
– Кертык, – назвал он себя, подав Нестерову руку.
– Число говорите по-русски, – заметил Нестеров.
– С русскими давно живу, научился, – пояснил старик и внимательно посмотрел на Батракова.
Гордеич улыбнулся:
– Ванюша Нестеров – мой друг. Ему доверяю все. Если ему придется туго и придет к тебе – помоги.
Кертык кивнул, ввел гостей внутрь юрты, усадил на кошму и подал две чашки с чалом. Тотчас принялся расспрашивать об асхабадских новостях. Нестеров охотно отвечал на все его вопросы. Старик слушал, поддакивал и опять спрашивал. Наконец сказал:
– Русские бастуют, а туркмены горюют. Туркменским беднякам поддержка нужна. Безграмотные все. А живут – один здесь, другой там. Кочуют по пескам. Армяне, татары бакинские дружнее живут. В Баку недавно был, там совсем иная жизнь.
– Там пролетариат, Кертык-ага, – пояснил Нестеров. – В Баку тысячи рабочих мусульман на промыслах, а у вас – единицы на железной дороге. С русскими вам надо объединиться…
Когда возвратились домой, Батраков сунул руку за пазуху, вынул бумажную пачку и подал Нестерову:
– Держи. Ванюша, тут «Марсельеза» и «Варшавянка». Дарьял на днях из Баку прислал
– Так, выходит, ты у туркмена хранишь?
– Т-сс, – поднес палец к губам Батраков. – Напился чалу и ладно. Тебе я вот что посоветую. Как приедешь в Асхабад, – загляни к Любимскому. Когда-то он нам помог шрифтами. Я напишу записочку, передашь ему.
Ночью Нестеров отправился в обратный путь.
* * *
Любимского он знал отдаленно, понаслышке. «Хороший человек, обходительный, отзывчивый!» – отзывались о нем все в городе. Но никогда раньше не беседовал с ним. Отзыв о нем Батракова, как о человеке своем, настроил Нестерова на оптимистический лад.
В понедельник, объехав на черной кавказской коляске Скобелевскую площадь, где маршировали с песней пехотинцы, Нестеров слез у редакции и вошел в коридор, с несколькими комнатами по бокам. В первой за «Ремингтоном» сидела машинистка. Женщина не заметила его. Он притворил дверь и двинулся дальше. В другой комнате, склонившись над столом, ретушировал надписи объявлений художник в желтой блузе. Нестеров поздоровался, спросил, где отыскать редактора, и художник проводил его в самый конец коридора. Тут в тесной, явно не редакторской комнатенке, обложившись кипами газет, сидел Любимский – лысый, низенький интеллигент с живыми черными глазками.
– Чем могу служить, милостивый государь? – тотчас спросил он, поднявшись из-за стола. – Если не ошибаюсь, передо мной вже частный поверенный господин Нестеров?
– Откуда вы меня знаете?
– Ха! Откуда я его знаю! Вы спрашиваете, откуда я вас вже знаю? Вы лучше спросите у меня, кого я не знаю? Ви, молодой человек, совсем недавно вели защиту обманутых арбакешей, так кажется? Ну, так мы вже поместили информацию об этом! Ви знаете, – еще дружелюбнее заговорил он, и, выйдя из-за стола, положил руку на плечо Нестерову. – Откровенно говоря, я сам находился в зале суда и слышал вашу речь. Я тогда сказал себе: «Да это вже асхабадский Цицерон! Цицерон нового века!» Если бы взяли на себя отдел судебной хроники, господин Нестеров, ваш слуга, честный, воспитанный еврей Любимский был бы вже счастлив! Что ви скажете по этому поводу?
Ошарашенный потоком слов и сбитый с толку неожиданным предложением сотрудничать в газете, Нестеров решил было, что господин редактор ошибается: принял его за кого-то другого. Но все было верно: и фамилия, и звание, и даже упоминания о первой, хорошо проведенной защите бедняков-амбалов – все совпадало.
– Вы знаете, господин Любимский, – освоившись, заговорил Нестеров. – Я, пожалуй, подумаю над вашим предложением. Мне ведь никогда не приходилось писать, и потом я занят судебными делами… Просьб, прошений, петиций очень много… Время такое, что… Вот и вчера обратились ко мне кизыларватцы с просьбой, по возможности, помочь им. У них, кажется, забастовка…
– Я уже слышал! – с готовностью отозвался Любимский. – Сегодня мы даем заметку о выезде генерала Ульянина в Кизыл-Арват.
– Но мне железнодорожники передали копию петиции.
– Где эта петиция? – с любопытством встрепенулся Любимский, словно ждал её.
– Да вот ока, здесь. – Нестеров достал из бокового кармана кожанки свернутые листки и подал редактору.
Любимский мгновенно развернул их, бегло и как-то жадно прочитал и прокричал, толкнув дверь:
– Дора Аверьяновна!
Вскоре появилась та самая машинистка, которая сидела за «Ремингтоном», и взяла листки у редактора.
– В номер? – спросила, удаляясь.
– В номер, – твердо произнес он и добавил: – Что творится, что творится на свете! Бастуют железнодорожники, бастуют хлебопеки и печатники. Даже фармацевты бастуют. Вы представляете что это такое? Я вам скажу, господин Нестеров, так: если вже забастовали евреи, то что-нибудь случится!
– Что со Стабровским? – перебил его Нестеров. – Вам известно что-нибудь.
– Как же, как же, милый друг, ну конечно! – опять пришел в движение Любимский. – Мы вже сообщали о его аресте. Но мы не можем знать, где он находится и как с ним обращаются. Я посылал сотрудника к Пересвет-Солтану, так тот ему ответил: «Не лезьте не в свое дело, пока до вас не добрались!». Но вы знаете, что они затеяли? Они же передали дело Стабровского ташкентской судебной палате. Приедет из Ташкента следователь! И пока следствие не кончится, никто не может пойти к Стабровскому на свидание. Они вже всех их держат в одиночках!
– Вы уверены, господин Любимский, что дело послано в Ташкент? – спросил Нестеров.
– Да, конечно! Этот же хам полицмейстер сказал Зиновию – моему сотруднику: предварительный протокол допроса отправлен Лаппо-Данилевскому, а проку, рор послал этот протокол в Ташкент.
– Как я раньше не мог догадаться! – с досадой проговорил Нестеров.
– А вы тоже заинтересованы судьбой Стабровского? – удивился Любимский.
– По долгу службы… И вообще, – несколько смутился Нестеров. – Вообще-то я должен поговорить с вами… У нас есть общие знакомые. Я должен вам передать привет от Батракова. И вот это. – С этими словами передал Любимскому записку, в которой значилосьз «Соломон, помоги, по возможности». И стояла подпись Батракова.
– О боже, боже! С этого бы и начали, – рассердился Любимский. – Когда вже ви его видели?
– Вчера… Я был в Кизыл-Арвате… Гордеич выразил надежду, что вы наверняка поможете нам в обзаведении типографией.
– Деньги нужны, – мгновенно отозвался Любимский. – Без денег нельзя сделать ничего. Ви меня понимаете? Только поймите правильно: деньги нужны не Любимскому. Деньги нужны людям, которые могут найти или изготовить шрифты. Вам, вероятно, нужна полная касса набора?
– Желательно…
– Ви дадите мне неделю на размышление, а потом зайдете ко мне, – тут же решил Любимский. – Но сначала давайте договоримся о вашем участии в юридическом отделе.
– Я согласен сотрудничать с вами, – сказал Нестеров. – Через неделю, как и условились, зайду… Сколько потребуется на типографию? Какая сумма?
– На первый случай рублей триста… Потом посмотрим.
– Хорошо, господин Любимский.
– Жду вас, милостивый государь!
Выйдя на Скобелевскую площадь, Нестеров еще раз в душе ругнул себя: «Черт меня побери, как же я сразу не догадался, что они отправят протоколы в ташкентскую судебную палату? Ведь дело-то политическое!»
Теперь он знал как ему поступить. План созревал на ходу. Не слишком затейливый и главное, наверняка, беспроигрышный. Он лишь на мгновение замешкался – в какую сторону идти, и тотчас свернул к русскому базару. Начиналась вторая половина дня: магазины только что открылись после перерыва. Полусонный старик-армянин в галантерее завернул для Нестерова флакончик духов и сказал со знанием дела:
– Лучше «Камелии» ничего не может быть. Пусть ваша дама помажет за ушами, и от нее до утра будет исходить благовоние.
Нестеров сунул покупку в карман и, не задерживаясь больше нигде, отправился в прокуратуру. Здесь, в казенной прихожей, он кивнул старику швейцару, отдал кожанку и взбежал на второй этаж. Как он и предполагал, пани Ставская – секретарша прокурора, пожилая, седеющая женщина с крашенными волосами, встретила его не слишком любезно.
– О боже! – скорчила она обиженную гримасу. – Но разве вы не знаете, что господин прокурор…
– Знаю, пани Ставская. Все знаю… Но я только на минутку. Не откажите в любезности принять этот маленький презент. – Он подал духи и пока она, улыбаясь, рассматривала их, спешно рассказывал, как услышал, что в галантерее появилась «Камелия» и как удалось ему с помощью знакомого продавца купить флакончик. Затем, когда пани «растворилась в благодарностях», Нестеров попросил: – Конечно же, я прекрасно понимаю, что господин прокурор страшно занят или вовсе нет его на месте… Но мне – всего лишь заглянуть в папку переписки с ташкентской судебной палатой. Послезавтра я защищаю одного влиятельного господина. Но мне кажется, он проходит по политическому делу… параллельно, так сказать… Если не трудно, пани Стазская, найдите мне папку переписки…
Секретарша еще раз улыбнулась, повела бровями: для вас, мол, всегда пожалуйста, и вынула из шкафа серые казенные корки с подшитыми бумагами. Нестеров сел за стол, быстро перевернул несколько машинописных страниц и вот оно: «Предварительное обвинение по делу Стабровского». Пробежав несколько казенных обязательных фраз вскользь, Нестеров впился гла» зами в самую суть:
«С девятого января в ночь на десятое, примерно около полуночи, в полицейское управление г. Асхабада в сопровождении околоточного Богоявленского, явился директор мужской гимназии, господин Белоусов. Войдя, означенный положил на стол сверток с надписью: «Только осторожно». Полицмейстер Асхабада, господин штабс-капитан Пересвет-Солтан развернул сей сверток и нашел в нем пачку отпечатанной Программы РСДРП. На вопрос: «Где господин Белоусов взял оную?», последний ответил: «Нашел в арыке», но тотчас поспешил удовлетворить любопытство. Из его рассказа выяснялось, что вечером ученик мужской гимназии Мартыненко Алексей был приглашен на квартиру к наборщикам газеты «Асхабад» Хачиянцу и Егорову, которые знали сего гимназиста по его матери. Сей Мартыненко, войдя к означенным, увидел там незнакомых ему людей и подъехавшего к дому в фаэтоне учителя женской гимназии господина Людвига Стабровского. Когда Мартыненко спросил, зачем его позвали, то Хачияиц дал ему пачку прокламаций и велел их распространить среди учащихся гимназии. Выйдя на улицу, Мартыненко, однако, растерялся и, не зная, что ему делать, бросил пачку в арык. Затем побежал домой к господину Белоусову и рассказал ему все, как было…»
– Спасибо, пани Ставская, – с трудом выговорил Нестеров, возвращая папку. Какая-то невероятная тоска, злость и радость от того, что еще не поздно отомстить предателю, подавили волю Нестерова. Он еще раз поблагодарил секретаршу, спустился в вестибюль, молча оделся и вышел.
Он был подавлен прочитанным и никак не мог вспомнить: кто такой Мартыненко и откуда он взялся вообще. Ни Красовская, ни Андрюша Батраков, ни Вахнин никогда не произносили этой фамилии. «Впрочем, мать этого ренегата – знакомая Хачиянца и Егорова! Видимо, они, доверяя этой женщине, доверились и ее сыну? Но какая же сволочь этот ее сын!»
Вечером, едва стемнело, Нестеров зашел к Красовской. Поздоровавшись, неловко улыбнулся и поцеловал ей руку.
– Прости, Тамара…
– Что с вами, Иван Николаевич?
Нестеров вынул из бокового кармана пистолет, подкинул его на ладони и хладнокровно произнес:
– Предатель найден… И он должен умереть.
– Кто? – испуганно спросила девушка, чувствуя холодок на губах.
– Алексей Мартыненко – ученик мужской гимназии.
– Знаю такого, – произнесла она и глаза у нее сощурились. – Подонок высшей степени… Галантный ухажер, а главное – подлец. Знаете, что он сделал с Зиночкой Бесовой? Она хотела отравиться.
– Ты знаешь, где живет этот негодяй?
– Знаю, Иван Николаевич.
– И ты, наверняка, можешь вывести его из дому на какой-нибудь конфиденциальный разговор? Например– о той же Зиночке?
– Могу, наверное.
– Тогда идем.
Дом Мартыненко стоял в Хитром переулке, выходя двумя окнами на улицу. Было уже темно, и в окнах других домов давно горел свет, а эти два темнели, словно черные мертвые глазницы. Нестеров остановился за углом, Тамара прошла по двору, налегла плечом на калитку – не поддается. Постучала – не отвечают. Подошла к окну, побарабанила пальцами по стеклу – тишина. Барабанила раз десять – все сильнее и сильнее. Увлекшись, она не заметила, как сзади остановилась старуха и спросила:
– Кого тебе, сердечная?
– Алексея… Мартыненко, – растерянно произнесла Тамара.
– Мартыненко? – переспросила старуха. – Мартыненко твой вместе с мамашей сбежал. Стерва эта пришла, похвасталась: сын, мол, ее целую шайку демократов накрыл, всех переловят теперь. А я ей сказала тоже, что думала. Сволочи, говорю, а сейчас пойду в депо, придут рабочие и обоих вас удавят. Ну, она и струсила по всем статьям. Гляжу, на рассвете выходят из дому с чемоданами…
– Вот так новость, – удивилась Тамара и почувствовала, как ее досада сменилась радостным чувством: «Как хорошо, что предал не Ратх!»,
* * *
Вернувшись домой, Нестеров долго не мог успокоиться, все ходил по комнате из угла в угол. Отчаянная злость, скопившаяся в нем от неудач и неудовлетворенности, не давала ему покоя. Немного успокоившись, он сел и принялся читать письма из Москвы, полученные с января от Жени Егоровой. Но как только углубился в чтение, в нем вновь вспыхнула досада. Он читал я мысленно спорил с ней. В памяти его вставали каменные громады улиц и тихий Екатерининский переулок. Двухэтажный деревянный дом с восемью окошками на дорогу. Как часто он подходил к этому дому, шаркал ногами на крыльце и дергал за шнур. Где-то в глубине прихожей звенел колокольчик, дверь открывалась и он входил, здороваясь с ее домашними, и спрашивал; «Барышня у себя?»
Не тогда ли образовалась пропасть расхождений между ними? Именно тогда впервые она принялась вразумлять Ваню Нестерова: «Тебе бы стоило больше обращаться к самой жизни, а ты все больше к наукам… Конечно, ученый человек – хорошо, но если он, скажем, не мечтает разбогатеть, то и ученость его ни к чему». Он тогда возразил ей: «Вот уж не думал, что у тебя такие потребительские вкусы! Мне почему-то казалось, что ты больше всего ценишь в человеке – крылья» Чуть позднее, когда он примкнул к марксистам и стал посещать кружок, долгое время они не встречались. Потом его арестовали, заподозрив в связи с социал-демократами, и Женя, узнав случайно, приезжала в полицейский участок. Дня через три Нестерова отпустили за неимением улик. «Вот видишь! – сказала она тогда. – Так можно и в ссылку угодить… Загремишь кандалами по Владимирке!» А через месяц создалась весьма критическая ситуация: надо было покинуть Москву, иначе – суд и каторга. Нестеров зашел к Женечке попрощаться. И лишь через два месяца, прибыв в Асхабад к тетке, где он и сейчас жил на квартире, написал ей письмо. Подробностей теперь не помнил – прошло с той поры два с лишним года. Потом было много писем – нежных и сварливых, полных откровения и загадочных, но во всех высвечивал вопрос: «Что есть человек?»








