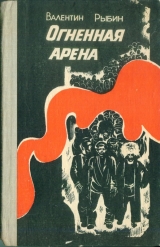
Текст книги "Огненная арена"
Автор книги: Валентин Рыбин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 19 страниц)
Старший чабан Алты-ага встретил Амана с превеликим добродушием: как ни говори, а приехал сын самого Каюма. Напоили молодого хозяина чалом, накормили. На вопрос Амана: спокойно ли в песках, Алты-ага – неопределенно ответил:
– Всяко бывает, Аман-джан. Теперь, конечно, не то, что было год или два назад. Народ теперь другой стал. Раньше, лепешка и кундюк с водой есть – бедняк считал себя богатым. Сегодня не так. Мяса один день не поел – кричит: «Я голодный, с голод) умираю:» Русские босяки, конечно, развратили туркмен, что и говорить.
– Ну, а где же бедняки мясо берут, если они без мяса жить не могут?
– Как где? Разве мало в песках овец пасется?
– Значит, и нашими овцами питаются?
– А как же, Аман-джан! Конечно, мы не даем ограбить себя, но не всегда можно защититься.
– Сколько сейчас овец в отцовской отаре?
Алты-ага на этот вопрос ответил не сразу. И ответ был уклончивым:
– Аман-джан, зачем тебе знать – сколько их? Если скажу: тысяча голов, поверишь?
– Поверю, Алты-ага, почему не поверю.
– А их не тысяча, а полторы тысячи, – смеясь, сказал старик. – Лучше не спрашивай о таком, не обижай недоверием. Могу сказать тебе, как на духу, гость один, Байкара его зовут, нас защищает. Сегодня должен приехать, увидишь его.
Вечером, едва стемнело, за кибитками разнесся лай собак и подъехало человек десять джигитов. Все спешились. Алты-ага и его взрослые внуки подскочили к приезжим, взяли лошадей. Байкара – молодой джигит в черном косматом тельпеке, в чекмене, с саблей и маузером за кушаком, мельком взглянул на чабанские кибитки, увидел коня, на котором приехал Аман, и тревожно спросил:
– Кто у тебя, Алты-ага? Кого сюда принесло? Кому не живется спокойно?
– Аман-джан, сын сердара… циркач – у нас, – важно сообщил Алты-ага.
– Ха, слышали о таком, – сказал Байкара и вошел в юрту.
Аман встал ему навстречу. Поздоровались. Байкара первым начал разговор:
– Тебя я не раз видел в цирке… Тебя и твоего братишку, Ратха. Молодцы вы, как гули крутитесь на лошадях, не сглазить бы. Я со своими парнями спорил: любого могу заткнуть за пояс на коне. Тебя, Аман-джан, одного, и твоего брата еще обскакать не смогу. Но, слава аллаху, то, что умею, этого мне достаточно… Вот сейчас приехали с хивинской дороги, кое-что привезли хорошего. Эй, Чары-кель, веди сюда верблюдов, да несите добро – посмотрим!
– А что, разве вы тоже торгуете… на хивинской дороге? – наивно спросил Аман.
– А как же! – воскликнул со смехом Байкара. – Еще как торгуем. Платим камчой по спине и вот этим! – Он вынул из-за кушака маузер и подбросил на ладони. – А получаем серебром и золотом, товарами тоже, если хорошие. Вот сегодня два тюка с бухарской парчой «купили». Сейчас посмотришь.
Вскоре джигиты подвели верблюдов к самой юрте и сняли с них поклажу. Тот, которого звали Чары-келем, внес шкатулку с золотыми украшениями, а двое других – парчу.
– Ой, Байкара, – замотал головой Аман. – Страшным делом вы занялись. Не потерять бы вам голову о такими товарами.
– Аман-джан, разве ты не из Асхабада приехал? – удивился Байкара. – Разве не Асхабад первым закричал: «Долой помещиков и капитал!» Рабочие своих баев с земли гонят, мы– своих. Что мы плохого делаем? Везде сейчас бедняки богатых бьют. Мы еще, по сравнению с русскими дехканами, ангелами выглядим. Русские дехкане в своих селах все дома помещиков пожгли вместе с добром. А мы байские кибитки пока не трогали. Добро отдай, но чтобы жечь под корень, все же жалко. Добро твоего отца тоже могли бы взять, но подумали и решили – не будем. Вы – два брата – наша гордость: что, Аман, что Ратх, обоим поклоняемся.
Тут вошел Алты-ага, и, смиренно поклонившись Аману, сказал:
– С вашего разрешения, Аман-джан, мы зарезали двух овец. Гостей надо угостить, да и сами отведайте баранины.
– Ох-хо-хо, – вновь закручинился Аман, и Байкара шепнул ему на ухо:
– Не думал я, джигит, что ты такой жалостливый. Нас ругаешь, а сам из города брюхастую гелин привез, рожать на днях будет – это как понимать?
Аман побагровел от смущения и страха, что тайна его раскрыта, а Байкара засмеялся и опять зашептал на ухо:
– Мы обыкновенный товар у людей берем, а ты живым товаром пользуешься. У кого украл татарку? Ну-ка признавайся?
Аман замолк и до того испугался, что язык перестал ему повиноваться и прилип к небу. Наконец, придя в себя, сказал:
– Байкара, давай-ка выйдем, у меня к тебе разговор есть.
– Давай, выйдем, – охотно согласился тот.
– Байкара, – начал, выйдя из кибитки, Аман, – ты откуда знаешь, что это моя гелин? Тебе кто сказал?
– Хозяйка ее, старуха… – пояснил Байкара. – Все я знаю. Но не бойся меня. Ни одна живая душа ничего от меня и моих друзей не узнает, если сам не окажешься глупцом. Помоги нам, Аман, оружием. Если б штук пятьдесят винтовок русских достал – молиться бы на тебя стали. Денег на винтовки дадим. Сколько скажешь, столько и дадим.
– Да, Байкара, кажется, я влип, – обреченно сказал Аман и прибавил: – Но что поделаешь, видно, так на роду мне написано. Постараюсь достать винтовки. Но только прошу – о Галие ни слова.
– Не волнуйся, Аман. И отцу своему скажи: «Пока Байкара ездит по Каракумам – ни одна овца у Каюм-сердара не пропадет!»
На другой день, когда Аман собрался ехать в Джунейд, Байкара вынул из ларца ниточку жемчуга и положил на ладонь Амана.
– Держи, джигит, подаришь своей ханум. А это ей на халат. – И он, размотав парчевый отрез, отхватил от него десять локтей.
Аман поблагодарил за подарки и уехал.
В полдень был у озерца, возле заветных кибиток, где жила Галия. Встретили его так же радушно, как у чабанов. И Галия, изменившаяся в лице, ставшая почти черной от пятен, на этот раз встретила Амана не капризами и пререканиями, а слезами радости. Встретила как самого дорогого, самого долгожданного человека. Аман обнял ее, вынул подарки, но, увидев в глазах немой, полный муки вопрос, утешил:
– Есть, есть… Сейчас отдам…
Он вынул из кармана несколько писем и протянул их Галие.
Глаза ее заметались по строчкам. Читая, она то улыбалась, то вытирала слезы, то хмурилась. Наконец, прочитав все письма, расцеловала Амана:
– Слава аллаху, Аман-джан, отец жив-здоров, мама – тоже. Но бедненькие, они даже не догадываются в когти какого беркута я попала. Они ждут внука от Черкеза. Как же мы потом им объясним, когда я привезу тебя в Петербург? Понятия не имею. Но если б ты знал, как мне жутко здесь одной, без тебя. Ах, Аман, Аман! – И Галия расплакалась.
Старуха-хозяйка, увидев слезы молодой ханши, покачала головой:
– Ханум, я ли за вами не смотрю, не ухаживаю?
– Не обращайте на мои слезы внимания, – вновь засмеялась Галия. – Это все от радости.
Дней через десять Галия родила сына. Старуха-хозяйка сама приняла младенца. Омыла его и спеленала в черной кибитке, при керосиновой лампе, подальше от глаз мужчин. Аман и муж хозяйки, седельщик, в другой кибитке пили чай и выглядывали то и дело наружу. Над пустыней кружился густой падающий снег, кибитки были облеплены им. И старик-седельщик, глядя на разгулявшуюся зиму, приговаривал:
– Это хорошо, что снег. Это очень хорошо!
Почему хорошо, на это он ответить не мог. Но Аман понял старика по-своему. «Раз аллах даровал мне сына в день, когда шел снег и было вокруг бело, значит и имя его должно соответствовать этому дню. Да и ханум моя, мать мальчишки, тоже из белых, княжеских кровей. Назовем его Акмурадом>.
Сын родился – надо устраивать той. Но как соберешь людей, если и жена у Амана тайная, и родившийся сын у нее – тайный. Решился все же Аман, пригласил всех живущих вокруг озерца, и Байкара со своими джигитами приехал. Отгуляли, поздравили молодого отца и мать с первенцем, пожелали ему сто лет жизни, подарков надарили. Разъехались гости довольными. А через полмесяца, когда весна из синих небес высунула белые рожки луны, Аман стал собираться в Асхабад, как бы отец не подумал, что пропал в песках сын, и в убили ли его, не попал ли в руки аламанщиков. Правда, Аман предусмотрел, еще месяц назад сказал одному проезжему в Асхабад, чтобы заглянул на подворье Каюм-сердара и сообщил, мол, все в порядке, сын кланяется. Но все равно, ехать надо.
Перед отъездом Аман сидел с Галией, которая держала на руках сына, и напутствовала:
– Аман-джан, Камелии Эдуардовне скажи спасибо, что получает письма и переправляет мне.
– За это я ей плачу, – отвечал Аман. – Она не скроет ни одного письма, не бойся.
– Аман-джан, как приедешь в Асхабад, сразу сообщи моему отцу в Петербург, что родился у него внук. Имя тоже сообщи. Адрес обратный не перепутай. Пусть пишет, как и раньше, на Камелию Эдуардовну.
– Знаю, моя ханум, зачем учишь, – легонько возражал Аман, принимая белый листок от жены, на котором был написан текст телеграммы.
Наконец, когда Аман, уже распрощавшись с ней и маленьким Акмурадом, сел на коня, она метнулась в кибитку и вынесла книги:
– Аман-джан, отдай книги Ратху, пусть вернет Нестерову. Скажи обоим спасибо, очень хорошие книги.
– Галия-ханум, – обиделся Аман. – Удобно ли такую чепуху назад возвращать? Не обвинят ли нас в мелочах? Нет, я книги не возьму, оставь их у себя.
Выехав на взгорок, Аман повернулся: Галия, держа младенца на руках, стояла возле кибитки и смотрела ему вслед. Рядом с ней – старик седельщик, его жена и детвора – один другого меньше.
День только начинался. Было морозно. Снег, схваченный ночью морозом, лежал белыми заплатами по всей равнине. До вечера надо было успеть добраться до Асхабада, и Аман пришпорил скакуна. Мощный орловский рысак – цирковой конь Арслан сразу перешел в рысь и гак, не сбавляя хода, бежал до самого Асхабада. В четыре часа дня Аман въехал в предместье города, пересек железную дорогу и – прямо на почту. Тут, поставив скакуна у обочины, Аман сдал телеграмму, расплатился и, прежде чем податься домой, решил заглянуть в цирк..
«Дают уже представления или все еще идет забастовка?» – не раз спрашивал себя Аман там, в песках. Этот же вопрос не выходил из его головы сейчас, когда он подъезжал к огромному куполообразному зданию, 'которое казалось ему роднее отчего дома. Здесь они с Ратхом освоили высший класс джигитовки, здесь хорошо научились говорить по-русски, здесь научились разбираться во многих сложных вопросах жизни. И вопрос «есть ли представление?» – вопрос, на первый взгляд безобидный, таил в себе самые сложные перипетии жизни. В нем было все: «Жив-здоров ли Адольф Романчи? Бросил ли пьянствовать Никифор? Достал ли денег на содержание своих медведей Иван Гора: ведь цена на корм повысилась, а доходы остались прежними! Вышла ли замуж высотная гимнастка Нинон, за которой ухаживал офицер-кавалерист? Наконец, участвует ли в представлениях Ратх? Если участвует, то как же он обходится без него?»
Проезжая мимо фасада, где стояли огромные рекламные щиты, Аман не увидел на них лихо несущихся на скакунах братьев Каюмовых. Старая афиша джигитов была заклеена новой, на которой красовался артист на велосипеде с поднятым колесом. Аман сразу поскучнел. Во дворе цирка никто его не встретил: было холодно, и все, кто сейчас пребывал здесь, ютились в своих каморках. Аман поставил Арслана в конюшню, дал ему овса и воды, и отправился к Романчи. Подойдя к двери, он постучал. Открыли ему не сразу. Он постучал еще. Наконец дверь приоткрылась и из комнаты выглянула полуголая, заспанная Нинон.
– Ха, Аман явился! Ты посмотри-ка, Серж, один из Каюмовых прибыл! А их уже давно из репертуара вы» черкнули!
Серж, тот самый офицер, за которого Нинон мечтала выйти замуж, буркнул что-то и сказал, чтобы закрыли дверь, а то ему холодно:
– А где же Адольф Алексеевич? – спросил Аман.
– Адольф? – удивилась Ниной. – Но разве его выпустили? Его же арестовали и посадили в тюрьму еще в начале января!
– Романчи посадили! За что?
– Ох, боже, неужто не за что, – усмехнулась Никон, – Я удивляюсь, как еще меня не сцапали за то, что я забиралась с его красными флагами под купол.
– Вашего Романчи считают одним из главных организаторов социал-демократической организации в Асхабаде, – пояснил офицер и опять недовольно потребовал: – Нинон, да, закрой же ты дверь, ради бога. И иди сюда, постель остынет!
Аман сам притворил дверь и отправился в комнату менеджера.
Распорядителя на месте не оказалось. Жена его, сухощавая красивая старуха, в прошлом актриса, повела бровью, сказала, что муж будет к вечеру и, коснувшись пальцами лба, вдруг вспомнила:
– Да, да… Ну, конечно! Вы же, кажется, Каюмов? Ну так вот, возьмите. По-моему, вам письмо?
Аман взял конверт, взглянул – от кого, и увидел, что письмо адресовано Ратху, на конверте стоял московский штемпель и диковинная марка.
– Это брату, – сказал Аман. – Он разве не бывает в цирке?
– Понятия не имею, – ответила сухощавая старуха и потянулась за папиросами. – Не угодно ли, молодой человек?
– Спасибо, я не курю. До свиданья.
Идя из цирка домой, Аман размышлял: «Ратх не выступает оттого, что меня нет: одному нечего делать на арене». И еще думал Аман о старшем брате, Черкезе: «Сохрани аллах, не дай узнать ему, что Галия в песках!» Страх постоянно преследовал Амана, а сейчас вдвойне, поскольку Аман не был дома больше двух месяцев: могло за это время случиться всякое. Войдя во двор, он увидел первой Нартач-ханым. Старуха радостно вскрикнула, пошла навстречу, и оттого, как она была рада возвращению сына, Аман понял – дома все в порядке. Затем вышли из кибитки Рааби и служанки. Все, как одна, выразили свою радость восклицаниями и улыбками. Побежали к ишану за Каюм-сердаром. И пока не было отца, Аман узнал, что Ратх с начала января сидит прикованный к цепи, в черной кибитке.
– За что его? – спросил Аман, сжимая от обиды кулаки.
– Ай, сынок, – отвечала Нартач, – разве у них узнаешь – за что? Сам знаешь, Ратх из дому ушел, с дурными людьми связался. Дурных людей в тюрьму посадили, Ратха велели на цепи держать.
– Кто велел?
– Русский генерал велел.
Аман, подойдя к черной кибитке, отбросил видавший виды килим от входа и переступил порог. Ратх лежал на кошме, скорчившись, видимо, спал.
– Ратх-джан! – позвал Аман. – Ты почему здесь? За что они тебя?
Ратх распрямился на кошме, зазвенев цепью.
– Здравствуй, Аман! Когда приехал?
– Сейчас только. В цирк зашел – и сюда.
– В цирке, значит, был? – жадно спросил Ратх. – Ну, как там?
– Ничего хорошего, брат. Романчи, оказывается, арестовали.
– Да ты что! Значит, его тоже. Значит, они всех в ту ночь схватили. – И Ратх быстро рассказал, как ночью нагрянул к Нестерову сам Куколь с полицейскими, как Черкезхан пришел за ним в полицейское управление и теперь держит на цепи. Ратх выставил вперед правую ногу, и Аман увидел: нога выше щиколотки обвита цепью, а на цепи – замок.
– Били? – спросил Аман.
– Били в первый день, когда привели, – отвечал Ратх. – Черкез бил, отец – тоже. А теперь взялись обратить меня в свою веру. Ишан каждый день приходит, коран читает, заставляет повторять молитвы. Аллах, говорит, высшее существо, которое управляет помыслами и деяниями всех людей и всех животных. Я ему отвечаю: нет, дорогой ишан, главное на земле – материя. Весь мир состоит из материи. Она одна движет все сущее. Когда я ему о материи сказал, он пошел к отцу и говорит: «Ваш младший немножко тронут умом, потому и связался с русскими босяками. У вашего младшего не аллах в голове, а какая-то материя… А разве мануфактура может заменить аллаха? Пусть это даже шелк или парча, или тафта китайская!» Теперь даже женщины на меня смотрят, как на умалишенного. Жена Черкеза приходит, все время спрашивает: «Голова не болит? Может помажешь виски керосином?»
Братья засмеялись, и Аман спросил:
– А зачем ты материю богом считаешь?
– Вах, и ты тоже, – возмутился Ратх. – Да наука же такая есть. Ученые утверждают и доказывают, что мир управляется не богом, а бесконечным движением материи!
– Вон оно как, – задумчиво произнес Аман. – Вообще-то ты выброси из головы этих всяких ученых. С аллахом жить спокойнее: по крайней мере, аллах – мусульманин, а эти еще неизвестно кто. Выбрось, братишка, все из головы! – веселее заговорил Аман и подал Ратху конверт. – На вот, держи. Тамара тебе прислала.
– Тамара?! – Ратх даже вскочил с кошмы, так обрадовался и так поразился приятной неожиданности. – Неужели Тамара? Ну-ка, сейчас посмотрим!
В это время во дворе послышались голоса: это пришел от ишана Каюм-сердар, и Аман; тихонько сказав: «Читай, потом расскажешь», вышел из кибитки.
Ратх, волнуясь, дрожащими руками надорвал конверт, вынул заветные два листочка, исписанные крупным ученическим почерком, и впился в них глазами: «Милый Ратх, здравствуй!» Юноша запрокинул голову, закрыл глаза и так сидел с минуту, не в силах справиться с нахлынувшей радостью. Такого он никогда еще не испытывал. Мучительные ожидания хоть какой-нибудь весточки, сладостные сны, в которых Тамара разговаривала с ним, окупились вот этой огромной радостью, плеснувшей из Тамариных строк и согревших сердце. Ратх облегченно вздохнул, и снова жадно впился в дорогие, горячие строки: «Милый Ратх, здравствуй! Прошло уже два месяца, как мы с тобой расстались, но я до мельчайших деталей помню тот день, когда ты провожал меня на вокзале. Я помню твой тревожный взгляд, твои жадные просьбы: «пиши, пиши», твое жаркое дыхание и все время думаю: «Томочка, не тужи и не лей слез, как бы тебе туго ни было в жизни, ибо есть на свете человек, который любит тебя, помнит о тебе и жаждет с тобой встречи. Этого человека зовут Ратх!» С мыслями о тебе я ехала в Москву: можешь представить себе мои дорожные перипетии – поезда всюду стояли. В Астрахани села на какую-то грузовую баржу. Словом, кое-как, с горем пополам, добралась до Белокаменной, и вот теперь учусь на медицинских курсах. Вернее, занятия, можно сказать, и не начинались. Сам знаешь, обстановка во всей России какая. А в Москве… Боюсь рассказывать, Ратх, потому что слышала, будто всю почту сейчас вскрывает цензура. Не дай бог, если «ляпну» кое-что лишнее! За себя, конечно, не страшусь, но будет обидно, что ты не получишь моего письмеца, а я буду думать, что ты получил, но почему-то не отвечаешь. Как ты там, Ратх? Скучаешь? Или, некогда? Представляю, как ты носишься по арене на своем Каракуше и выделываешь головокружительные трюки. И особенно помнится твоя скачка с красным полотнищем и твой клич. Тогда я, конечно, была не права. Слишком намучилась… Ну, сам знаешь, где… В общем, была необъективна. А теперь думаю: каждый выражает себя по-своему. Ты – в цирке, на арене, Нестеров – на иной арене жизни, и у меня – моя арена. Это медицинское поприще. Ведь папа мой – врач. Он и мне привил любовь к своей профессии. Помнится, когда я познакомилась с С. Д., стала переписываться с ними и понемногу отходить от медицинских учебников, папа ска «зал: «Ты узко осознаешь свое назначение в жизни, Томочка. Медицина врачует все существующее общество, а значит снимает с него социальное зло!» Ратх, когда закончу учебу, поедем с тобой в самые глухие туркменские аулы, откроем там лечебницы и аптеки. Жаль вот только ты… А что если тебе тоже учиться? Подумай, Ратх! Ведь нам только по восемнадцать, впереди – вся жизнь. Ну, на этот счет, мы поговорим, когда я приеду летом. Передай, пожалуйста, Ивану Николаевичу, что я ему послала письмо. Скажи на всякий случай: я заходила к его родственнику Гусеву. Он обещал все сделать, но сейчас, сам понимаешь… В общем, сплошные аресты.
Ратх, на этом заканчиваю свое письмецо. Напишу тебе, как только получу ответ от тебя. Целую крепко. Тамара».
Пока Ратх был занят письмом, Аман, сидя в другой кибитке, рассказывал отцу о своей поездке в пески. Свое долгое отсутствие он объяснил тем, что ездил о караваном в Хиву, жил несколько дней возле ханского дворца. На самом деле Аман рассказывал о том, что слышал от Байкары.
– В Хиве был и ничего из Хивы не привез? – строго спросил Каюм-сердар.
– Как же не привез? Привез. Вот, посмотри! – И Аман подал отцу нож с рукоятью из слоновой кости, отделанной серебром. И этот нож подарил Аману Байкара.
– Значит, говоришь, не надо мне к чабанам ехать? Значит, все спокойно там?
– Слава аллаху, отец. Дух революции не проник к отарам. Все овцы целы, а чабаны кланяются тебе. На днях весенний окот начнется. Алты-ага сам к тебе приедет, каракулевые шкурок привезет и мяса.
– Ладно, Аман, ты и дальше следи за делами в песках. Пока туда один езди, но скоро я тебе и помощников дам. Вот как раз и Черкез со службы пришел, – встрепенулся Каюм-сердар и крикнул: – Черкезхан, зайди, Аман вернулся, поздороваться хочет.
Черкезхан, пригнувшись, вошел в кибитку, снял у входа сапоги.
– Здравствуй, пропавший, – подал руку брату. – Я уже хотел полицейских за тобой послать. Не понятно, чего хорошего ты там находишь?
Аман чуточку смутился:
– Тебе, Черкез, человеку городскому, не понять всех прелестей пустыни. А я с самого детства в пески езжу.
– Не боязно одному? Говорят, аламанщики на Хивинской дороге действуют.
– Вот и я о том же говорю, – заметил Каюм-сердар. – Думаю, как созовет генерал Косаговский туркменскую милицию, Аману и провожатых можно будет дать.
– Без нашей помощи возьмет себе провожатых, – сказал Черкезхан. – Генерал согласен сделать Амана старшим милиционером. А послужит год-другой, можно будет и в прапорщики произвести.
– Ты что, Черкез?! – возмутился Аман. – Долго ты думал? Почему ты за меня все решаешь?
– Старше тебя, умнее тебя и знатнее – вот и решает, – проворчал Каюм-сердар. – А ты разве не хочешь стать офицером?
– Нет, отец, никогда и ни за что! Я – джигит-наездник! Братьев Каюмовых весь Закаспийский край знает! Сменить седло наездника-циркача на седло, милиционера – это позор!
– Вот ты как заговорил, – со злостью заметил Черкезхан. – Братьев Каюмовых весь край знает…
Знают как людей, замаравших себя связями с русскими босяками! Знают как людей, которые таскают по арене красные знамена. Ратх второй месяц на цепи – за связи с босяками. И ты дождешься!
– Брось пугать, Черкез, – с небрежностью возразил Аман. – Для тебя все – босяки. Что, разве Романчи – босяк? А вы его посадили в тюрьму. Разве все другие, которые в цирке речи говорили, – они босяки?! Да нет, Черкез. Они не босяки. Они настоящие люди. У них очень добрые сердца, поэтому они хотят, чтобы все босяки хорошо жили!
– Ух, собака! – взъярился Черкезхан. – Я тебе… Я покажу тебе… Да он же самый ярый демократ! – Черкез зашарил рукой в кармане, словно намереваясь вытащить оттуда пистолет, но Каюм-сердар придержал его за руку:
– Не горячись, штабс-капитан. Дождемся приказа Косаговского насчет милиции, потом поговорим с ним по другому. Убирайся отсюда, змееныш! – махнул на Амана. – Чтобы глаза мои тебя не видели!
Аман вышел из кибитки отца н сразу заглянул к Ратху.
– Злые оба, как псы, – сказал со вздохом и спросил: – Ну, что пишет?
– Ох, Аман-джан, ты осчастливил меня… Не знаю, как тебя благодарить.
– А у меня тоже счастье, – на ухо прошептал Аман. – Галия родила сына.
Ратх сжал брату руку, затем обнял его:
– Поздравляю, Аман. Теперь береги их… от этих…
– Их сберегу, и тебя спасу, – пообещал Аман.
* * *
В один из ярких майских дней Черкезхан, явившись на службу по-летнему, в белом кителе н фуражке под белым чехлом, нашел на своем столе только что принесенное дежурным по штабу письмо.
Письмо было от отца Галии, и это сразу испортило настроение. «О чем он? – подумал Черкез. – Уж не собирается ли помирить меня со своей сиятельной дочкой? А может, хочет судиться по разводу?" Черкезхая поморщился и неторопливо вскрыл конверт.
«Дорогой зять, – писал Мустафа-бек, – телеграмму вашу получили и ответил вам с Галией телеграммой, которую вы, конечно, тоже получили… Но я решил еще написать вам это письмецо…»
Черкезхан вздрогнул и голова у него закружилась оттого, что ничего не понял из прочитанного. «О каких телеграммах речь? Никаких телеграмм я не посылал Мустафе-беку, и от него не получал… Да и Галия уехала к нему или в Казань? Но выходит так, что она живет со мной, и мы вместе послали ему телеграмму?» Черкезхан вновь перечитал первые строки, подумал: «Бредит, что ли старик?», и продолжил чтение. Мустафа-бек дальше писал: «Дорогой мой зять, стоит ли тебе говорить о той радости, которую я испытал, узнав, что у вас с Галией родился сын! Я так был рад, что целый день ходил по кабинетам банка и не мог работать. Я всем рассказывал о своей радости, и все поздравляли меня и говорили: «Мустафа-бек, теперь вы дедушка!» Да, зять, теперь я дедушка и мне очень приятно сознавать это…»
Черкез читал, бледнел, краснел, пожимал плечами, недоуменно хмыкал и смотрел по сторонам, словно ища у кого-нибудь сочувствия или защиты, и чувствовал себя совершенным идиотом.
«Дорогой зять, – писал дальше Мустафа-бек, – я не стал бы адресовать свое письмо вам на службу, но мне хочется, чтобы это письмо не попало в руки Галии, ибо я хочу вам дать несколько советов, касающихся ее. Вы, Черкезхан, конечно, не хуже меня знаете, какое хрупкое и изящное существо – наша Галия. Еще в детстве моя мать, а ее бабушка, Халима, обратила внимание на ее столь высокие изысканные вкусы, и вот с той поры, ежегодно, в день рождения Галии, мы печем для нее пирог из севрюги. Вам не трудно будет его испечь, ибо Каспийское море рядом с вами: надо только послать слуг к рыбакам. На стол ко дню рождения моей дочери, который, кстати говоря, приближается и будет 16 июня, мы также подавали крем-брюлле в чашечках и чак-чак – татарское кушанье из теста, мелко накрошенных орехов и меда. Удивительное по своему вкусу блюдо. Будете кушать, Черкезхан, вспомните меня…»
– Аллах милостивый, сними наваждение. Скажи, что происходит! – лепетал штабс-капитан и читал дальше:
«Теперь, Черкезхан, несколько слов о внуке. Думаю, не затруднит вас, если пришлете мне фотографию малыша, и я, в свою очередь, побеспокоюсь о нем. Сообщите мне ваш личный счет в банке, я перешлю деньги на подарки…»
За чтением письма застал штабс-капитана Каюмова Ораз-сердар. Войдя, он ехидно покривил рот и спросил:
– Господин штабс-капитан, кто из нас командует отделом: вы или я? Почему вы до сих пор не представили вчерашний приказ на арест серахского водоноса и вынуждаете меня идти к вам? – И тут Ораз-сердар заметил перемену в лице своего подчиненного: оно было настолько бледным, что пугало. – Что с вами, Черкезхан? – озабоченно спросил Ораз-сердар.
– Ох, господин майор, не спрашивайте, сам понять не могу.
– Ну-ка, дайте сюда! – Ораз-сердар выдернул из рук Каюмова письмо и начал читать. Дочитав до половины, спросил:
– Почему, Черкезхан, вы скрывали от меня, что Галия с вами и никуда не уехала?
– Господин майор, – дрожащими губами пролепетал штабс-капитан. – В том-то и дело, что уже год, как она ушла из дому и уехала.
– Охо, приятель, – Ораз-сердар сразу понял всю сложность, в которой оказался его подчиненный – Если так, как вы говорите, то тут самый крупный шантаж. Вас шантажирует кто-то. Вы уверены что это письмо написано вашим тестем?
– Да, господин майор. Я знаю его почерк, да и слог его. К тому же он просит сообщить мой счет в банке для пересылки денег.
– Может быть, ваш тесть свихнулся? Такое тоже бывает, хотя и редко.
– Может быть, господин майор. Он пишет, что получил от меня телеграмму и поздравляет меня с сыном… Даже имя у сына есть…
– Надо поскорее выяснить, в чем дело, и непременно, – посоветовал Ораз-сердар.
– Но как, господин майор? – спросил Черкезхан.
– Если я сообщу ему, что Галия уехала еще год назад, к никакого сына у меня нет… И если, действительно, она не добралась до Петербурга или Казани, тогда что? Мустафа-бек бросит все свои дела и приедет сюда, чтобы найти ее. А где он ее найдет? И где я ее найду ему?
– Послушайте, штабс-капитан, а вы не допускаете такую мысль: скажем, ваша Галия из Асхабада не уехала, а живет здесь, прячась от вас? Родила сына, и, чтобы не огорчать своего отца, Мустафу, о вашей размолвке ему ничего не сообщает.
– Господин, майор, сын, судя по письму, родился 24 января, а я был с ней последний раз в начале февраля прошлого года. Не могла же она носить в себе ребенка двенадцать месяцев?
Ораз-сердар многозначительно хмыкнул: довод привел Черкез неопровержимый.
– Черкезхан, – уже насмешливо заговорил Ораз-сердар. – А может, после того, как она ушла от вас, нашелся джигит и постарался сделать ее матерью? Дело прошлое, Черкезхан, но с полгода назад официант из ресторана «Омон" говорил мне, что видел вашу жену в отдельной кабине ресторана с поэтом Кацем. Тогда он служил в газете «Асхабад>. Наверное, есть смысл заглянуть к нему?
Черкезхан быстро вышел из-за стола:
– Господин майор, но где найти его? Где живет он?
– Неужели вы хотите, чтобы я еще искал вам его адрес? – возмутился Ораз-сердар. – Зайдите в любую редакцию и вам скажут.
– Господин майор, прошу вас, освободите меня сегодня от службы.
– Идите, идите, штабс-капитан…
Не далее как через час штабс-капитан Каюмов, потрясая пистолетом, ходил по комнате Зиновия Ка-ца, и сам поэт стоял на коленях и лепетал в оправдание:
– Господин офицер, даю вам честное слово! Говорю все, как было. Не было у меня с госпожей Каюмо-вой ничего. Я только завел ее в кабину и заказал шампанское, как появился какой-то мусульманин, пристыдил ее, и Галия оставила меня.
– Кто этот мусульманин?
– Родственник ее, господин офицер.
– Ты узнаешь этого родственника, если покажу?
– Не знаю, господин офицер. Я тогда сильно испугался. Даже не запомнил его лицо.
– Ладно, сейчас мы выясним, – пообещал Черкезхан. – Сиди, господин поэт, дома и никуда не уходи: я сейчас привезу одного родственника.
Черкезхан с мыслями о Ратхе выскочил со двора и почти бегом отправился домой. Войдя к себе во двор, он крикнул кучеру, чтобы запрягал лошадей, и заглянул в комнату братьев. Оба были дома. Ратх еще месяц назад был прощен, но выходить со двора ему не разрешалось. Аман, вот уже больше месяца выступавший в цирке с Никифором, лег поздно, только что проснулся.
– Ратх, – строго сказал Черкезхан, посмотрев сначала на Амана, затем на младшего. – Поедешь со мной… В одно место… Собирайся, я жду тебя у ворот.
– Что-нибудь случилось. Черкез? – наивно спросил Аман.
– Да, случилось, – коротко отозвался тот, направляясь к карете.
– Ратх, будь во всем благоразумным, – посоветовал Аман. – Я думаю, он тебя повезет в полицию. Опять, наверное, кого-нибудь поймали.
– Не беспокойся, Аман.
Ратх сел в ландо вместе с Черкезом, кучер выехал в переулок, затем на Анненковскую. Проехав почти через весь город, ландо остановилось на Белинской, у двора Каца.
Поэт, перепуганный донельзя, украдкой посмотрел на Ратха и потупился. Черкезхан грозно спросил:
– Он был?
– Кажется, он…








