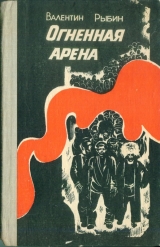
Текст книги "Огненная арена"
Автор книги: Валентин Рыбин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 19 страниц)
– Будем голосовать тайно, чтобы было полное проявление свободомыслия. Голосуют все, кто пожелает. Разумеется, я имею в виду взрослое население я хоть каким-то образом причастных к жизни города.
– Ладно, договорились. Бумага у тебя есть для бюллетеней?
– У Любимского возьмем.
– Тогда, действуй…
Не откладывая, Нестеров отправился в редакцию. Любимского застал на месте. Соломон читал свежую газетную полосу. Жена его сидела тут же, вместо секретарши.
– О боже, это вы, Иван Николаевич! Ну что там, в Теджене?
– Все хорошо, Фира Львовна.
– Да, я вже слышал, что состоялся всероссийский торг «по-еврейски», – отозвался из кабинета Любимский. – «Пусть Прасолов спрячет штыки, а мы вже прекратим свою нахальную забастовку!» Я не могу больше видеть Эмануила, товарищ Нестеров! Это вже ренегат! Только ренегат способен состряпать такое гнусное условие.
– Вы за продолжение забастовки, Соломон? – Разумеется, Иван Николаевич, о чем речь?
– Тогда давайте будем готовить бюллетени для тайного голосования. – И Нестеров рассказал о своей встрече с Воронцом и решении провести голосование в городском саду.
– Сколько же бюллетеней потребуется, Иван Николаевич? – спросил Любимский.
– Тысячи три, не меньше…
– Вы вже в своем уме? Где мы возьмем столько бумаги? И потом, на каждой вже бумажке, вероятно, придется писать «за» и «против»?
– Сделаем проще, Соломон. Нарежем три тысячи листков, раздадим бастующим, поставим два ящика! «красный» и «белый». В красный пусть опускают листки те, кто за продолжение забастовки, в белый – кто против. Потом посчитаем, где больше.
– Это вже Соломоново решение, – удовлетворительно проговорил редактор. – Фира Львовна, зовите Дору, берите ножницы и бумагу, что стоит в коридоре, И начинайте резать бюллетени.
На следующий день посреди городского сада, на утоптанной площадке были поставлены две урны – красная и белая, и столы, накрытые сукном. К десяти утра, едва пригрело зимнее солнце, в городской сад потянулись со всех концоз города забастовщики. Шли колоннами, группами, в одиночку. В течение получаса городской сад заполнился до самой ограды и в нем стало тесно. Публика все прибывала, напирая на последние ряды, и Воронец открыл голосование вступительной речью. Смысл его короткого воззвания за прекращение забастовки выражался в том, что генерал Уссаковский и вверенное ему офицерство ценой неимоверных усилий уговорили генерала Прасолова вернуться в Кушку, но и начальник области пообещал карателю, что сделает все возможное, чтобы прекратить забастовку. Ныне начальник области просит и надеется на железнодорожников, телеграфистов и всех сознательных граждан, что они благоразумно отступят от забастовщиков и тем самым предотвратят возможное кровопролитие.
Нестеров же заявил:
– Мы своей забастовкой, товарищи, не добились ничего. Как управлял Туркестанским краем генерал Сахаров, расстрелявший более тысячи солдат, так и управляет! Как содержал в смертной камере Прасолов забастовочный комитет Кушки, так и содержит. Мы не можем отойти от своих убеждений и требований, пока не совершится правосудие над Сахаровым и пока Прасолов не освободит кушкинский забастовочный комитет. И еще, товарищи. Мы направили в Баку и Центр двух наших делегатов, Вахнина и Шелапутова. Давайте же подождем их возвращения. Посмотрим, какие сведения привезут они!
Хаотический шум, вызванный разноголосицей, долго не смолкал. И не понять было даже самым опытным комитетчикам, куда больше клонится публика. Любимский руководил процессом голосования. И сейчас, как только поутих народ, строго оглядел своих помощников: Стабровскую, Аризель, Фиру Львовну, Дору, Гусева, Носова, Заплаткина, и сказал:
– Прошу вже, дорогие товарищи и гражданки, выдавать по бюллетеню в одни руки.
Началось голосование. Люди получали белые листки и тут же опускали их в урны. Одни – в красную, другие – в белую. К двенадцати дня, когда последний бюллетень был опущен, комиссия взяла обе урны, заперлась в помещении летнего театра и начала подсчет. Прошло еще больше часа и вот Любимский объявил:
– Дорогие граждане асхабадцы! Роздано бюллетеней три тысячи, при вскрытии урн оказалось тоже три тысячи. Голосовали – за продолжение забастовки более двух тысяч граждан, за прекращение менее одной…
– Итак, забастовка продолжается! – крикнул во весь голос Нестеров.
Сначала разразилась долгая овация, затем рабочие депо запели «Марсельезу». К вечеру праздничное настроение нарушилось несколькими стычками между забастовщиками и отступленцами. В городском саду ссора превратилась в массовую драку. Деповцы, в конце-концов, загнали служащих в здание Управления железной дороги и закрыли их на замок. На Текинском базаре сцепились армяне и персы. Амбалы – участники патриотических манифестаций – напали на гнчакистов, те дали достойный отпор, но не обошлось без кровопролития, В ресторане «Гранд-Отель» пьяные офицеры избили служащих железной дороги за то, что те не смогли выиграть голосования. Пьяная офицерская компания явилась к Воронцу и, грозя ему расправой, потребовала, чтобы вышел во двор. Воронец сбежал из дому черным ходом. Утром вновь к нему пожаловали, но уже трезвые офицеры и пригрозили: если он не отменит забастовку, пусть пеняет на себя. Воронец тотчас собрал членов забастовочного комитета у себя на квартире. Заговорили о разногласии среди забастовщиков. Все были «под впечатлением» вчерашних потасовок. Гусев весь в синяках, с перевязанной рукой. Нестеров избежал драки, но ночью в окно его комнаты запустили кирпичом. Кирпич упал к ножкам кровати, а стеклом обрызгало всю постель. Нестеров схватился за револьвер, а Ратх – за ружье. Оба выскочили на улицу, но рядом никого не оказалось…
– Комитет не правомочен продолжать забастовку, – заявил Воронец, – хотя бы потому, что большинство его членов так или иначе устранилось от руководства. К тому же, благоразумие подсказывает не лезть на рожон. Если забастовка прекратится неорганизованно, стихийно, то мы проиграем еще больше. Прошу голосовать: кто за прекращение забастовки?
Руки подняли все, кроме Нестерова и Любимского. Воронец победно посмотрел на обоих и сказал:
– Я попросил бы вас, Соломон, объявить о нашем решении в газете…
На другой день в газете «Асхабад» появилось сообщение:
«Центральный комитет Среднеазиатского союза железнодоржников постановил прекратить забастовку на Среднеазиатской ж. д., причем условием прекращения забастовки было постановление, чтобы никто за забастовку не пострадал и чтобы жалованье за время забастовки было уплачено полностью…»
* * *
7-го декабря, когда в Москве вспыхнула всеобщая стачка, мгновенно переросшая в вооруженное восстание, и на всю страну разнеслись призывы: «На карту поставлено все будущее России: жизнь или смерть, свобода или рабство… Смело же в бой, товарищи рабочие, солдаты и граждане!», в Асхабаде царил мрачный хаос. Офицерство, октябристы, кадеты и перешедшие на их сторону служащие Управления железной дороги и телеграфно-почтового ведомства составляли списки активных участников забастовки.
Монархически настроенные господа теперь предавали анафеме не только социал-демократов и эсеров, но и в открытую кляли самого начальника Закаспийской области за либерализм, за мягкотелость, проявленные в критические для монархии дни. Пошли слухи о замене начальника области и уездной власти. Уссаковский, видя, как лютуют монархисты, возмущался, нервно расхаживая по кабинету или дерзко отвечал на телефонные звонки дома. И всеми делами в канцелярии распоряжался полковник Жалковский. Преданные ему штабисты беспрекословно выполняли приказы и откровение злорадно смеялись над начальником. Теперь уже подсчитывали не только революционеров, но и приверженцев Уссаковского. Кто там заодно с ним? Кто проявлял крайний либерализм и возвеличивал государственную думу? Кто, кроме Уссаковского? Куколь? Пересвет-Солтан? Слива, Лаппо-Данилевский? Еще кто?
И те, кого правитель канцелярии поминал недобрым словом, спешили повиниться, «очиститься от черных пятен бунта». Один за другим побежали к правителю канцелярии. Первым явился штабс-капитан Пересвет-Солтан. Растерянный, потный, словно на дворе не зима, а знойное лето, замешкался у порога. А бывало без приглашения плюхался в кресло и начинал разговор. А тут – на тебе, растерялся. И полковник, видя его таким ничтожным, сделался еще строже:
– Что у вас, господин полицмейстер? С чем пожаловали?
– Был я в клубе велосипедистов, ваше высокоблагородие. Собрание там демократы проводили. Ну и один социал-демократ, студент Васильев, назвал государя Николаем Кровавым. На вопрос мой: «Не послышалось ли мне?», он посмел ответить: «Вы не ошиблись», Я было напомнил председателю собрания Нестерову, что подобный возглас есть оскорбление личности монарха, а он мне говорит: «Мы это знаем».
– Зачем вы мне это рассказываете, господин полицмейстер? – перебил его Жалковский. – Или вы хотите лишний раз доказать, что демократы не повинуются вам и не считаются с вами? Мы и без вашего рассказа знаем. Да и как им повиноваться, когда ваши полицейские в октябре в городском саду на митингах выступали. Как сейчас помню: вышел один пузатый, фуражку заломил на затылок и кричит: «Надоело, дорогие граждане, слышать нам, как нас обзывают «фараонами» Ишь ты, дрянь какая надоело, видите ли!
– Ваше высокоблагородие, я того полицейского!.. – попробовал защититься Пересвет-Солтан, но Жалковский вновь осадил его:
– Ах, вот оно что! Вы «того полицейского». А перед церковью на паперти кто извинялся? «Да я, говорит, только пол велел побрызгать, чтобы ему дышалось легче». А перед кем извинялся-то, не приведи господь! Перед вдовушкой Стабровского!
– Ваше высокоблагородие, не извольте сердиться, прошу вас! Искуплю все свои грехи, ей-богу!
– Поздно спохватились, Пересвет-Солтан. Поздно! Я ни одного слова не «кажу в вашу защиту. Мне не угоден такой полицмейстер. Ступайте!
Через день в этом же кабинете лебезили перед Жалковским прокурор Лаппо-Данилевский и его помощник Слива. Этих правитель вызвал к себе сам. Усадив начальственным жестом обоих в кресла, он подал им бумагу из Ташкента и велел досконально ознакомиться. Слива взял машинописные страницы и начал читать вполголоса своему начальнику «Отношение министра юстиции» по поводу наказания за участие в ноябрьско-декабрьской забастовке. Подробная петиция, вскрывая массовые беспорядки, охватившие после 17 октября 1905 года некоторые местности империи, касалась также пределов Туркестанского генерал-губернаторства. Лаппо-Данилевский и его помощник обвинялись в попустительстве демократии. «Более того, – говорилось в документе, – господин Слива принял как должное насилие над собой со стороны железнодорожных рабочих Казанджика».
– Бог свят, – лицемерно перекрестился Слива, дочитав до этого места. – Ну какое там насилие? Просто меня поругали, сняли с поезда и держали в вагоне, в тупике. Потом отпустили.
– И это говорит помощник областного прокурора? – ухмыльнувшись, произнес Жалковский. – «Поругали», «сняли с поезда". Нет, господин Слива, не поругали, а оскорбили нецензурными словами, не сняли, а вытащили, как побитую собачонку, и втиснули в арестанский вагон! И вы, вместо того, чтобы возбудить дело против рабочих, решили скрыть свой позор!
Слива, покаянно улыбаясь и вздыхая, выдержал поток «красноречия» полковника и принялся читать дальше. И весьма был обрадован, когда дошел до строк о Лаппо-Данилевском.
– Да ведь не один я! – воскликнул обрадованно. – И господина прокурора коснулось сиятельное перышко министра. Вот послушайте: «Означенные неправильные и легкомысленные действия коллежского асессора Лаппо-Данилевского свидетельствуют о недостаточном понимании им важных обязанностей прокурора окружного суда…»
– Большего и не прибавишь, – констатировал с усмешкой Жалковский.
– Ваше высокоблагородие, может быть и приказ об освобождении от должности уже есть? – спросил растерянно Лаппо-Данилевский.
– Я извещу вас, – невозмутимо отозвался правитель канцелярии. – Пока продолжайте службу.
Господин прокурор и его помощник откланялись и ушли.
Жалковский, продолжая третировать скомпрометировавших себя за время забастовки должностных лиц, набивал себе цену непогрешимого и незамешанного ни в каких крамолах администратора, а его подчиненные, шастая вокруг него, по вечерам устраивали сборища в офицерском клубе. В ресторане у буфетной стойки, в билиардной и библиотеке всюду шли толки о том, кто займет место Сахарова в Ташкенте, а в Асхабаде – место Уссаковского.
«Поистине парадокс времени, – тут и там раздавались голоса. – Сахаров оставляет кресло губернатора за то, что был слишком жесток к революции, а Уссаковский – слишком мягок. Так кого же нам прочит Фемида?»
Прошло еще несколько дней, и накануне рождества стало известно официально: должность Туркестанского генерал-губернатора принял генерал-лейтенант Суботич, в прошлом, до начала русско-японской войны, командовавший в Закаспии, а место начальника в Закаспийской области займет генерал-майор Косаговский.
Суботича асхабадцы хорошо помнили как генерала не особенно придирчивого: даже в войсках о нем говорили мягко. А о Косаговском сразу пошли самые страшные слухи. Выходец из простых казаков, дорогу к генеральским погонам проложил путем беспощадных репрессий и расправ над бунтарями: потому и послан в Закаспий. Обыватели пугали друг друга «новой метлой», офицерье откровенно радовалось и твердило: именно такого, строгого командующего, и недоставало Закаспию. Рабочие, выжидающе затаились…
* * *
В конце рождества разнеслись по городу слухи: «Едет новый начальник области!» В день его приезда, утром, к приходу поезда собралась на перроне вся ас-хабадская аристократия. Поезд подошел. Генерал вышел из вагона с целой свитой офицеров. Поздоровался с Жалковским и с Махтумкули-ханом, приехавшим на встречу из Геок-Тепе. Остальным лишь кивнул. Внешне Косаговский ничем не выделялся. Среднего роста, сухощавый, горбоносый. Единственная, бросающаяся в глаза примета: кривоног, как всякий кавалерист. Генерал прошел на привокзальную площадь, сел с Жалковским и Махтумкули-ханом в карету и отправился в гостиницу «Гранд-Отель». Там он должен был пожить дня два-три, пока не освободит ему особняк Уссаковский.
Асхабадские господа и знатные ханы устроили новому генералу пышную встречу. Вечером в ресторане «Гранд-Отель», освещенном сотнями свечей в позолоченных канделябрах, гремела музыка. За сомкнутыми столами восседал весь офицерский состав гарнизона, высшие чиновники, ханы близлежащих аулов и сам Махтумкули-хан – он сидел по правую руку от генерала. Слева – правитель канцелярии. По праву распорядителя, Жалковский первым провозгласил тост за приезд и здравие нового командующего. Косаговский, выпив лихо, по-казацки, стакан водки, сразу захотел познакомиться с господами поближе.
– Ну, с Махтумкули-ханом мы знакомы давненько, – сказал, приглаживая висящие усы. – Еще, так сказать, во времена Скобелева виделись. Я тогда был двадцатилетним хорунжим… А кто будут те господа, что сидят напротив меня?
– Рад доложить, ваше превосходительство, – самодовольно заулыбался Жалковский. – Сей, что постарше, есть Каюм-сердар – ближайший друг Куропатки-на, с ним его сын, Черкезхан Каюмов, а тот, что низенький да скуластый, это Ораз-сердар – сын небезызвестного вам Тыкмы-сердара, оказавшего упорное сопротивление нам при взятии Геоктепинской крепости.
– Хороша гвардия, хороша! – восхитился генерал. – А что? Ей-богу, хороша. Если, скажем, сын Тыкмы служит так же ревностно нам, как служил его знаменитый отец государю-императору, после той прошлой войны, так это же очень похвально!
Всем представленным Косаговский пожал через стол руку и захотел выпить за их здоровье и дальнейшие успехи на службе государю и отечеству. Затем Жалковский представил ему господ офицеров и чиновников. Генерал, знакомясь с каждым за руку, довольно щерился и напутствовал:
– Желаю вам самой ревностной службы на благо России. Надеюсь, не подведете старика-генерала? – вопрошал он. – Раздавим совместно красную мразь революции?
– Так точно! – отвечал один.
– Постараемся, ваше превосходительство, – обещал другой.
– Рады стараться! – чеканил третий.
– Господин полковник, – полюбопытствовал Косаговский. – А что же Евгений Евгеньевич не захотел, что ли, присутствовать на нашем ужине? Или другие какие причины?
– Отказался, ваше превосходительство.
– Вот как? А я думал занят: с чемоданом возится, готовясь к отъезду, с женой в платочек плачет, а он, вишь ты, не захотел повидаться со мной. Когда же отбывает господин Уссаковский?
– Утром, с московским, ваше превосходительство.
– Так, так… Значит, с московским? А есть ли среди офицеров охотники проводить Евгения Евгеньевича?
Жалковский встал из-за стола:
– Господа, господин генерал спрашивает: есть ли охотники проводить бывшего начальника области?
Посыпались легкие смешки: никто не вызвался в провожатые.
– А проводить надо бы! – сказал, вставая новый генерал. – Надо бы воздать ему почести за его либерализм и слюнтяйство… Впрочем, простите, у меня личная нелюбовь и неуважение к этому человеку. Прошу не обращать внимания и продолжать веселье…
Снова поднимали тосты: за нового генерала, за верность государю и отечеству, за Махтумкули-хана и прочих ханов… Потом заиграл оркестр. Начались танцы. И веселье затянулось до самого утра.
На рассвете несколько изрядно подвыпивших офицеров отправились к дому начальника Закаспийской области. В окнах было темно. Часовой, охранявший здание, сообщил господам, что генерал Уссаковский только что уехал на вокзал. Офицеры направились туда.
Поезд попыхивал на первом пути, готовясь в трехтысячеверстную дорогу. Шла посадка в вагоны. Несколько солдат внесли в мягкий вагон вещи генерала. Сам Уссаковский прогуливался с женой по перрону.
Прозвенел первый предупредительный звонок об отходе поезда. Генерал помог жене войти в тамбур и сам взялся за поручни. И тут услышал:
– Господин генерал, вы оскорбили нас своим холодным безразличием. Вы не удостоили чести…
– Простите, мне некогда с вами разглагольствовать!
Грянул пистолетный выстрел. Пуля чиркнула над ухом Уссаковского, сорвав погон. Вторая пуля попала в дверь. Брызнуло со звоном стекло. Уссаковский успел скрыться в вагоне.
Свист патруля и переполох, возникший на перроне, остановили офицеров от дальнейших попыток застрелить бывшего командующего. Бросившись вниз, на привокзальную площадь, они скрылись в сером утреннем рассвете. Поезд тем временем отошел от вокзала и, набирая скорость, загрохотал, выходя в предместья города…
О покушении на Уссаковского доложили и новому начальнику области. Косаговский хмуро спросил:
– Кто стрелял?
– Кто-то из наших офицеров, – сказал Жалковский.
– Ну, что ж, каждый получает – что заслужил, – сухо заметил генерал, – Но если по чести, то здешние офицеры и стрелять-то по-настоящму еще не научились. Где уж им с революционерами воевать… Ну, ничего, научатся.
Через день Косаговский поселился в доме бывшего Закаспийского начальника, и кабинет его принял. Ознакомился с делами и принялся за обновление уездных властей и прокуратуры. Правитель канцелярии давно уже заготовил приказы на этот счет.
Начал с полицмейстера и начальника уезда: обоих вызвал к себе с адресами членов забастовочного комитета и других неблагонадежных.
– Итак, господа, хотел бы спросить у вас: почему смутьяны, поднявшие забастовку, ходят до сих пор на свободе?
– Ваше превосходительство, но тут творилось такое! – хотел было пояснить Куколь-Яснопольский.
– Попустительствовали, вот и творилось! – со злостью осадил Косаговский. – Дошло то того, что официальная газета выступает с крамольными заметками. Где это было видано!
– Ваше превосходительство, редактор газеты – сам член забастовочного комитета. Что еще можно было от него ожидать! – пожаловался Пересвет-Солтан.
– Вот, вот, – недобро усмехнулся начальник уезда. – Вы какого-то несчастного редактора боитесь, а на вас вся Россия надеется, ждет, что с корнем вырвете демократическую полынь. Чего уж ожидать-то от вас, родимые? Идите к правителю канцелярии да доложите, чтобы подыскал он вам места службы более подходящие.
– Но ваше превосходительство! – воскликнул Пересвет-Солтан.
– Марш! – вскричал генерал. – Марш оба! И чтобы духу вашего тут больше не было.
На крики прибежал Жалковский.
– Господин генерал, не извольте гневаться: все будет сделано самым лучшим образом.
– Отправьте полицмейстера в Байрам-Али, а Куколя – в Мары или Чарджуй. Вы свободны, господа офицеры! – еще раз прикрикнул он, видя, что оба топчутся возле двери.
– Господин генерал, – сказал с некоторым сожалением Жалковский, когда те вышли, – поспешили вы немного. Я хотел изгнать обоих из Асхабада после того, как они помогут мне арестовать забастовщиков. Они же всех знают.
– Ну, так пусть займутся арестами немедленно, пока еще не уехали. Возглавьте эту кампанию сами, полковник. В Москве идут баррикадные бои. Как бы дым восстания не перекинулся опять сюда. Постарайтесь взять весь забастовочный комитет.
– Слушаюсь, ваше превосходительство. Если нет иных указаний, то разрешите действовать?
– А что ж сидеть-то. Действуйте…
Спустя час, правитель канцелярии был в полицейском управлении. Заняв кабинет полицмейстера, он сел за стол, вызвал самого Пересвет-Солтана и приказал – до утра арестовать всех активных забастовщиков. Жалковский предупредил, что не уйдет из полицейского управления до тех пор, пока не увидится лично с Нестеровым, Вахниным, Шелапутовым, Любимским и прочими.
– Смею доложить, господин полковник, Вахнин и Шелапутов находятся в отъезде… Мои люди их видели в Красноводске, когда они садились на пароход. Что касается остальных, не извольте сомневаться: всех доставим сюда, – заверил полицмейстер.
– Приступайте, – распорядился Жалковский, и когда Пересвет-Солтан удалился, велел принести ему чаю.
К шести вечера привезли Любимских. Обоих ввели к Жалковскому.
– Честь имею, господин полковник. Чем вже могу служить? – с достоинством раскланялся Соломон.
– Похоже на то, что вы опять собираетесь нас закрыть? – спросила Фира Львовна. – Если эта так, то вы, господин начальник, совершенно не представляете, что такое газета. Это сплошные убытки, господин полковник. Сядьте на наше место – и вы разоритесь быстрее самого заядлого картежника.
– Присаживайтесь, господа, – сухо указал на стулья Жалковский. – Если не ошибаюсь, мы уже четырежды подвергали вас штрафу за противоправительственные выступления?
– Было вже, а что поделаешь! – с улыбкой обреченного человека сказал и пожал плечами Соломон,
– Если вам опять нужны наши деньги, – добавила Фира Львовна, – то вы зря на нас надеетесь. Мы, господин полковник, выпотрошены на нет.
– Прошлым летом приказом министра внутренних дел России газета «Асхабад» была прикрыта. Не так ли? – напомнил Жалковский.
– Да, мы не могли найти общий язык с министром, – согласился Любимский. – Его не устраивала наша вывеска. Так мы сменили ее! Что вже вы еще хотите?
– Соломон, ради аллаха, – взмолилась Фира Львовна. – Давай уплатим еще один штраф и уйдем отсюда!
– Штрафом на этот раз вы не отделаетесь, – усмехнулся Жалковский. – Новый начальник Закаспийской области, генерал Косаговский приказал арестовать вас за печатание крамольных заметок. Кто вас снабжает информацией о событиях в Москве?
– Ладно, господин полковник, – отозвался с досадой Любимский. – Говорите вже, сколько мы должны, да мы пойдем.
– Увы, на этот раз придется вам задержаться, – возразил Жалковский. Выйдя из-за стола, он приоткрыл дверь и попросил охрану, чтобы проводили господина редактора с женой в камеру.
– Господин полковник, вы преступаете приличия! – возмутилась Фира Львовна, но Жалковский поспешно закрыл дверь…
В десять вечера к правителю канцелярии доставили слесарей– Гусева и Заплаткина. С ними полковник разговаривать не стал. Уточнил лишь фамилии, место работы и велел посадить.
Еще через час был доставлен Эмануил Воронец.
– По какому праву вам дозволено поднимать спящих из постели и гнать через весь город, толкая в спину прикладами! – возмутился он. Воронец был непричёсан. Пуговицы на рубахе не застегнуты, и пальто – нараспашку.
– Косаговский велел арестовать вас, господин председатель, – с усмешкой пояснил правитель канцелярии.
– За что? За то, что мне удалось потушить пожар забастовки?
– За то, что пытались остановить эшелоны Прасолова, идущие из Кушки.
– Но разве я виновен в этом? Спрашивайте за все с Нестерова. Он приказал оставить солдат посреди песков.
– С Нестерова спросится, но и с вас потребуем отчета, вы ведь председатель забастовочного комитета.
– Это произвол, господин полковник.
– Хорошо, разберемся… Уведите его! – крикнул он стражникам.
Почти тотчас ввели Ксению Петровну и Арама Асриянца. Полковник оглядел обоих, задержал внимание на Стабровской и с сожалением покачал головой.
– Опять вы…
– Послушайте, за что вы преследуете меня? – возмутилась она и заплакала. – А еще поляк! Разве поляк мог допустить, чтобы на его глазах угробили соотечественника? Смерть Людвига целиком на вашей совести.
Жалковский тяжело вздохнул. Но не от угрызений совести. Подумал, сколько опять наделает ему хлопот эта «социал-вдова».
– Пани, – сказал он сердито. – Ставлю вам условие: или вы завтра же покинете Асхабад, или придется нести, вместе с другими, ответственность за участие в забастовке.
– Ксана, ради бога! – взмолился Арам, – уезжай немедленно.
– Хорошо, подумаю, – согласилась она.
– В таком случае, вы свободны, – смилостивился Жалковский. – Постарайтесь завтра же выписаться и выехать.
Стабровская грустно улыбнулась Асриянцу и вышла из кабинета. Жалковский тотчас объявил:
– Вас, господин Асриянц, мы будем судить за взрыв железнодорожного моста через реку Теджен.
– Господин полковник, но мы спасали от Прасолова царский манифест. Разве не за святую волю народа шел с поднятым мечом генерал-каратель?!
– Отставить, – сухо приказал полковник и добавил строже: – Отставить упоминание о государевом манифесте. Вы, насколько мне известно, одним из первых назвали этот манифест «куцым». Уведите арестованного.
Было около двенадцати, когда привели Нестерова и Аризель. Их задержали при выходе из дома музыкального и драматического общества. Они смотрели «Женихов» Гоголя. Выходя, оживленно обменивались мнениями о спектакле, и. тут подошел Пересвет-Солтан с полицейскими и вызвался «проводить» молодых людей в полицейское управление.
– Ну, вот и встретились, господин присяжный поверенный! – со счастливой улыбкой воскликнул Жалковский. – А я ведь предупреждал вас там, в Теджене. чтобы осторожнее обходились с моей персоной
– Господин полковник, но разве я вас оскорбил? – удивился Нестеров.
– Я тоже постараюсь быть с вами вежливым, – пообещал Жалковский. – Кто эта барышня?
– Моя невеста, господин полковник. Мы смотрели спектакль, и вот…
– Да, да, по моему распоряжению вас взяли, как главного забастовщика и руководителя асхабадской социал-демократии, – уточнил Жалковский, и, переведя взгляд на Аризель, спросил: – Ваша фамилия, мадам?
– Асриянц, – неохотно отозвалась девушка и взглянула на Нестерова: – Ванечка, но мы же ничего не сделали!
– Нет, конечно, – засмеялся полковник. – Вы ровным счетом – ничего не сделали, ничего не совершили, но вы, насколько я понял, – сестра Арама Асриянца?
– Да, а что?
– Ничего, если не считать, что вы многое знаете о тайных делах своего брата, и жениха – тоже. Придется, мадам, задержать и вас.
– Господин полковник, но будьте мужчиной: отпустите барышню! – попросил Нестеров.
– Поздно уже, поздно… Устал я, – отмахнулся Жалковский. – Утром разберемся… Переночуете в камере… Стража! Уведите арестованных…
Жалковский уехал домой в час ночи, не дождавшись еще одного задержанного: им был Ратх Каюмов. Его арестовали на квартире Нестерова. Полицейские, узнав в нем циркового джигита и брата штабс-капитана Каюмова, подивились немало. Хотели отпустить, но вспомнили, что. Черкезхан давно охотится за своим младшим братом: все старается привести его к уму-разуму.
Утром арестованных переправили в черном крытом дилижансе в тюрьму. Карету сопровождали конные полицейские.
Жалковский стоял на пороге здания полицейского управления в окружении господ офицеров и посмеивался:
– Ну вот и все… Лопнул мыльный пузырь… Мы его безболезненно иголочкой проткнули. Вишь, как они все успокоились. Вроде бы и в революции не участвовали, и никакой крамолой не занимались. Они успокоились, а мы их тут и прихлопнули. Правда, есть и невинные, но разберемся.
– Ваше высокоблагородие, – обратился Пересвет-Солтан, – у Нестерова на квартире задержан брат штабс-капитана Каюмова.
– Что вы говорите?! Вот удача!.. Для Каюмова, разумеется. Он давно его разыскивает. Вызовите немедленно штабс-капитана сюда.
Черкезхан приехал на коне, совершенно не подозревая, зачем его пригласили в полицейское управление. Увидев Жалковского, смутился.
– Господин полковник, штабс-капитан Каюмов…
– Вижу, что штабс-капитан. Идите в камеру и заберите своего младшего брата.
Черкез быстро прошел по коридору к камере, и, войдя, схватил за шиворот Ратха.
– Дрянь, – проговорил со злостью и ударил по лицу. – Ты позоришь весь наш благородный каюмовский род. Я рассчитаюсь с тобой, как с последним негодяем!
– Убери руки! – закричал Ратх. – Можешь судить меня, только руки не распускай!
Черкез вывел брата на крыльцо, Жалковского уже тут не было: уехал в штаб. Черкез попросил полицмейстера:
– Дайте мне двух полицейских, пусть проводят этого «ягненка» домой.
Ратха повели по Левашевской, мимо женской гимназии. Один из полицейских придерживал его за плечо, другой шел впереди. Черкез следовал сзади. Во дворе встретил младшего сына. Каюм-сердар. Увидев его, указал на черную юрту. Ратха ввели в кибитку и посадили на цепь, как собаку…
* * *
Пока проходили забастовки, а потом менялось руководство Закаспийской области, цирк по вечерам не зажигал огней. Всего было два представления, да и те – с неполной программой, после митингов. Бездействовали питейные заведения. Чайханы обслуживали застрявших в Асхабаде купцов и прочий торговый люд только днем. Неуверенность в завтрашнем дне и страх быть убитым или ограбленным держали людей под кровлей собственных домов, в караван-сараях и гостиницах.
Пользуясь вынужденным бездействием, Аман, с согласия отца, давно уже находился в песках, у чабанов, присматривал за отарами. Он и в самом деле, прежде чем приехать в Джунейд к Галие, заехал на кош. Тут жили два чабанских семейства, поселенных Каюм-сердаром еще лет двадцать назад, как только отшумели походы царских генералов по Закаспийскому краю и установилось русское правление. Тогда Каюм-сердар, пользуясь расположением к нему генерала Комарова, а затем и Куропаткина, завел свою отару под присмотром верных ему батраков. Теперь эта отара разрослась: Каюм-сердар не знал своим овцам счета. И чабаны, изредка заглядывая в Асхабад, сообщали ему, когда спрашивал, сколько всего овец: «Ай, много, сердар-ага, Больше тысячи будет». Каюм-сердар не беспокоился за богатство в песках, доверяя своим людям. Но сейчас, когда души бедняков-дехкан были такими же коварными, как и сама пустыня, Каюм-сердар строго приказал Аману – пересчитать овец всех до одной и стеречь отару от разнузданных революцией аламанщиков.








