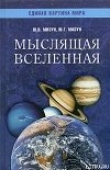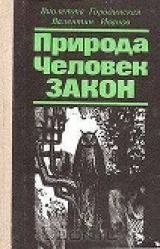
Текст книги "Природа. Человек. Закон"
Автор книги: Валентин Иванов
Соавторы: Виолетта Городинская
Жанры:
Обществознание
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 26 страниц)
Стать гением невозможно. Но ведь гении на то и рождаются, чтобы проторить дорогу для всех, чтобы открыть всем возможность мыслить, как они, – понятно, спустя какое-то время, пока их идеи не получат массового резонанса, не войдут в плоть и кровь массового мышления. Необходимо еще и желание этих масс (хотя бы научных) мыслить конгениально, а для этого им нужно ощущать в этом необходимость.
Думается, что именно сейчас настало время, когда большинство ученых ощущает острую необходимость в мышлении космическими и биосферными категориями. Без этого взгляда, без этого подхода уже просто невозможно даже не то что развиваться – попросту существовать современной науке, накопившей громадное количество информации и не знающей, куда ее пристроить, как осмыслить всю эту громаду интереснейших фактов, обобщить, свести воедино в гармоничной концепции.
В опубликованных трудах Вернадского не прямо, но достаточно прозрачно просматривается взгляд выдающегося ученого на биосферу как на целостный, единый, живущий своей особенной жизнью организм. Во всей широкой, глубокой, скрупулезной аналитической деятельности Вернадского-исследователя широту и глубину его открытиям придавал именно этот объединяющий все и вся – геологические пласты и эпохи с тучами саранчи над Аравией и биохимическим составом живых организмов, симметрию кристаллов минералов с диссимметрией белка, энергию Космоса и земных недр с Жизнью и т. д. и т. п. – синтезирующий добытые факты и знания целостный взгляд. Для него воздух, земля, вода, населяющие их живые организмы существовали не сами по себе по отдельности, как это мыслилось в науке XIX века и раньше, не только сосуществовали рядом, но были необходимы друг другу и не могли друг без друга существовать. Поэтому он и назвал населяющие Землю живые существа «живым веществом», чтобы уравнять их в представлении людей с веществом атмосферы, гидро– и литосферы, чтобы стали они в нашем сознании в один, в единый ряд. Ибо они и в самом деле – едины, только наша мысль неспособна объять это все сразу, наше сознание неспособно вместить всю цельность биосферы, и мы раздробили ее на отдельные части, на отдельные науки, разделы наук и подразделы и потеряли тот наивный, но целостный взгляд, какой имели наши предки и который и позволял им интуитивно чувствовать то, что мы узнали ценою двухсотлетних кропотливых и дорогостоящих исследований, что узнаем сейчас и что нам предстоит еще узнать.
Подход к биосфере как к целостному организму, живущему (да, да, именно живущему, а не просто существующему. Существовать может и булыжник – вечно и неизменно, ибо как только он изменится, рассыплется на песчинки, так и перестанет быть булыжником. Биосфера же живет – изменяется и все равно остается вечно, миллиарды лет, все той же биосферой) в пространстве и времени, эволюционирующему, развивающемуся от простого ко все более сложному, самоорганизующемуся и регулирующему свою функциональную систему, поможет прояснить и понять многое, если не все, объяснить уйму противоречий и снять множество парадоксов. Если, конечно, употребляя сочетание «живущая биосфера», не впадать в истерию мистицизма (или, наоборот, анти-мистики), а относиться к нему здраво, без каких-либо предвзятостей. В науке, кстати, это выражение давно уже употребляется свободно по отношению к косному веществу Вселенной. Скажем, член-корреспондент Академии наук СССР И. С. Шкловский назвал свою книгу: «Звезды: их рождение, жизнь и смерть», вовсе не полагая, что звезды – некие живые существа, рассыпанные в Космосе. В том-то и дело, что биосфера – совершенно уникальнейшее космическое явление сочетания изменяющегося, а значит, живущего косного вещества с изменяющимся и изменяющим косную среду веществом живым.
И уж если биосферу в целом мы можем представить себе как единый организм, то допустить, что тот или иной вид животных или растений является на всем протяжении своего существования одним развивающимся по времени организмом, вполне возможно.
Если представить какой-либо вид одним существом (или, по Вернадскому, одной из разновидностей живого вещества, так же, как разновидностью вещества косного является минерал), то к его эволюции вполне можно применить все этапы развития и обычного, привычного для нашего понимания, живого существа – растения или животного.
В самом деле, как и отдельная особь, вид в целом берет свое начало от одной клетки (возможно, от множества идентичных, но в данном случае это неважно) и точно так же проходит все стадии развития. Точнее, каждая отдельная особь того или иного вида повторяет сжато во времени – от спонтанного деления оплодотворенной яйцеклетки и различных стадий эмбрионального состояния до взрослой особи – тот же самый путь, который проделал вид в целом за сотни миллионов или миллиарды лет своего существования.
Теперь нам нетрудно представить вид в целом как единство, одну особь, некий цельный сверхорганизм, рассредоточенный в миллиардолетнем времени и пространстве поверхности нашей планеты. Отдельные особи – те, с которыми, собственно, мы и имеем дело, будь то фиалка или лягушка, червь или волк, представляют собою в данном случае не более чем отдельную клетку многоклеточного организма вида. И так же, как клетки любого такого организма, они рождаются, живут, подготавливают себе смену, отмирают, замещаясь новыми, в общем такими же, но чуть измененными, поскольку опыт их «родителей» хоть немного, но отличается от опыта «дедов» и «прадедов», увеличивая количество генетической информации от поколения к поколению, а значит, весь вид эволюционирует, все более усложняясь и совершенствуясь.
Такой взгляд позволяет понять и прояснить многое из того, что и сегодня еще неясно и непонятно, имеет множество самых различных толкований. Уже сама множественность концепций одного и того же явления говорит о том, что верное решение не найдено в принципе, в самом подходе к данному явлению.
Например, до сих пор внезапность массового появления на Земле какого-то нового вида объяснялась довольно остроумно тем, что до поры до времени существовали только отдельные особи, которые ускользнули от внимания палеонтологов из-за своей малочисленности – ведь не могут же люди просеять все пласты Земли, чтобы выудить единичный экземпляр того или иного вида. А потом, когда каким-то образом условия стали наиболее благоприятными для этого вида, его единичные экземпляры начинали быстро-быстро размножаться и заселять Землю. Отдавая должное остроумию этого соображения, мы все же никак не можем понять, как же в этом случае могли малоподвижные виды, родившиеся от единичного экземпляра в одном месте распространиться по всей поверхности земного шара. А главное, возникшие в результате случайных ли мутаций или приспособления к условиям единичные новые особи просто-напросто не могли образовать сколь-нибудь устойчивых и мощных популяций. Это мы знаем по, так сказать, обратному примеру: если под влиянием не каких-нибудь пока неизвестных нам природных явлений, а антропогенного давления какой-либо вид животных сокращается до известного минимума, даже не единиц, а десятков или сотен особей, он обречен на полное вымирание.
Достаточно ярким примером тому служит история с американским странствующим голубем. Некогда эти голуби носились над североамериканскими прериями буквально миллионными стаями. С распашкой прерий и возделыванием зерновых культур, странствующий голубь стал истинным бичом американских фермеров. Можно понять их досаду и ненависть, когда миллионная стая «безобидных птиц», опустившись на поле, в считанные минуты уничтожала весь богатейший урожай, обрекая фермеров и их семьи на голодную смерть. Потому и борьба со странствующими голубями у фермеров шла не на жизнь, а на смерть и, конечно же, с помощью огнестрельного оружия (химических средств, к счастью, тогда еще не придумали, а то пострадали бы не одни странствующие голуби, но, пожалуй, вся фауна регионов). В результате победил человек.
Понятно, что всех голубей фермеры уничтожить не могли просто физически – слишком накладно гоняться не то что за каждым отдельным экземпляром, но даже за десятком-другим птиц. Уничтожена была основная масса голубей. А оставшиеся сами вымерли к началу нашего века.
Казалось бы, все должно быть наоборот – уничтожение основной массы особей данного вида, занимающего определенную экологическую нишу, создает наиболее благоприятные условия для оставшихся: еды и питья вволю, территория, так сказать жилплощадь, вольготная. Живи себе, наслаждайся, размножайся вовсю! Получается нечто вроде исполнения мечты некоторых, изнывающих от зависти к богатствам окружающего мира подростков да и взрослых тоже: остаться одному во всем городе со всеми его роскошествами магазинов, дворцов, автомобилей и прочих несметных богатств. Вот уж погулял бы!
Не знаем, как человек чувствовал бы себя в такой ситуации, но вот животные, оказавшись в подобных наиблагоприятнейших условиях, но на уровне критического минимума вида (хотя бы, повторяем, и в нескольких десятках, а то и сотнях экземпляров), непременно вымирают – чаще всего даже в тех случаях, когда человек, спохватившись, пытается их спасти, взяв под усиленную охрану.
Согласитесь, что, учитывая это, будет несколько странным полагать, будто возникшие в результате случайных мутаций или под влиянием неких условий еще далеко не совершенные в своем изменении единичные особи (пусть даже произойдет невероятное и появится несколько одинаково мутированных экземпляров) могут не только выжить, но размножиться, дав начало новому виду и исторически мгновенно заселить самые различные регионы на практически всей поверхности Земли. Тем более, что и в результате случайных мутаций, создавших благоприятные изменения организма того или иного существа применительно именно к тем условиям, в которых существует он сам и его сородичи, изменения, которые, по классическому определению, и позволяют этому существу победить в конкурентной борьбе с сородичами, и в результате даже длительного приспособления к тем или иным условиям целой популяции существ может появиться лишь узкоспециализированный, приспособленный именно к данным условиям вид. Что и определяет его силу в смысле большей выживаемости и в то же время его слабость в деле освоения новых регионов. Ибо различные регионы имеют и различные климатические, биотические, физико-химические и т. д. условия – те, к которым этот прекрасно приспособившийся к данным условиям вид совершенно не приспособлен или уж, во всяком случае, произошедшие с ним изменения не дают ему никакого предпочтения перед неизменившимися сородичами. Таким образом, любое приспособительное изменение может образовать только узколокальный подвид (вроде дарвиновских вьюрков), но не широко распространенный по всей Земле, живущий в самых различных условиях вид (надо пояснить, что под этим понятием мы подразумеваем то, что в принятой биологической классификации именуется «родом». Употребляем же понятие «вид» только потому, что массовому читателю, на которого рассчитана книга, оно более известно и понятно. Так, скажем, и березу повислую и березу бородавчатую именуют одним и тем же словом, перечисляя виды деревьев в лесу, хотя, строго говоря, они относятся к разным видам и единому роду берез).
Так что существующие объяснение внезапности массового возникновения и распространения видов на Земле – более остроумно, чем понятно, и уж во всяком случае неудовлетворительно.
Не более понятны и удовлетворительны и многочисленные гипотезы внезапного полного массового вымирания тех или иных видов животных и растений.
И уж совершенно никак не истолкованы подмеченные биологами в природе явления необратимости эволюционного процесса. Мы здесь говорим даже не о том, что человек не может превратиться обратно в обезьяну или, тем более, в рыбу, а о том, что нет среди наших современников австралопитеков или динозавров и, судя по всему, никогда не будет. «Принцип необратимости» эволюции попросту запрещает появляться на Земле давно вымершим видам, никак не объясняя, почему они не могут родиться снова сегодня или в далеком будущем, хотя, если следовать «презумпции случайности», каждый прудик, не то что озера, должны прямо-таки кишеть собственными Нес си, а на каждом дереве – сидеть по австралопитеку.
К «принципу необратимости» примыкает и «принцип цефализации», или, как называл его Вернадский, «принцип Дана» – по имени американского геолога, минералога и биолога прошлого столетия.
«В течение всего эволюционного процесса, начиная с кембрия, т. е. в течение пятисот миллионов лет, мы видим, что от времени до времени, с большими промежутками остановок до десятков и сотен лет идет увеличение сложности и совершенства строения центральной нервной системы, т. е. центрального мозга, – пишет Вернадский. – В хронологическом выражении геологических периодов мы непрерывно можем проследить это явление от мозга моллюсков, ракообразных и рыб до мозга человека. Нет ни одного случая, чтобы появлялся перерыв и чтобы существовало время, когда добытые этим процессом сложность и сила центральной нервной системы были потеряны и появлялся геологический период, геологическая система с меньшим, чем в предыдущем периоде, совершенством центральной нервной системы (Вернадский В. И. Химическое строение биосферы Земли и ее окружение. М., 1987, с. 180.).
«Странным образом это эмпирическое обобщение, чисто формально установленное Дана, не вошло в научное сознание и до сих пор и упущено в современной концепции и теории эволюционного процесса», – сокрушался Вернадский почти полвека назад.
Странно, что и сегодня, почти полвека спустя после того, как Вернадский разыскал в забытых трудах Дана открытие «принципа цефализации» и обратил на этот принцип сугубое внимание биологов, он так и не нашел удовлетворительного и вообще никакого объяснения. В лучшем случае, только констатируется факт, а чаще всего вообще не упоминается в изложении теории эволюции, словно факт в ее процессе абсолютно ничего не значит. А между тем:
«Обобщение Дана, – пишет Вернадский, – заключается в следующем: в эволюционном процессе мы имеем в ходе геологического времени направленность» (курсив наш. – Авт.) (Вернадский В. И. Цит. соч., с. 251–252.). В сущности, обобщение это принадлежит не Дана, а самому Вернадскому, удивительно любившему приписывать свои гениальные озарения ученым, в трудах которых содержится хоть малейший намек на проблему, волнующую самого Вернадского. Но в данном случае нас интересует не историческая справедливость, а обобщение, точнее, закон эволюции, открытый Дана – Вернадским. Он так же абсолютно непонятен с точки зрения «презумпции случайности» – возможно, потому и замалчивают его и увиливают от хотя бы попыток объяснить. Ибо случайность и направленность – явления абсолютно несовместимые.
Все эти неясности, непонятности, сомнительности и необъяснимости и многое, кстати, другое, также необъясненное, ну хотя бы, например, инстинкт сохранения вида, который только констатируется биологами, но никак не истолковывается, получают достаточно логичное и полное объяснение, если рассматривать тот или иной вид живых существ как один и единый организм, только рассредоточенный во времени и пространстве и потому обладающий неожиданной для нас и непривычной формой.
В этом случае эволюционный процесс приобретает вид не одинокого дерева, стоящего среди долины ровныя, а широкого луга или огромного лесного массива – пусть каждый выберет себе то, что ему больше по нраву, – где каждое растение не похоже на другое, имеет свой собственный, присущий только ему вид (что, впрочем, не исключает и схожести в основных каких-то чертах), выросло из своего семени, в котором генетически были заложены уже все основные черты его, возможности и пределы развития, приспособления к меняющимся условиям, морфологические изменения, время жизни, расцвета и умирания.
Так что вполне вероятно, что многие виды, значащиеся сегодня в палеонтологической летописи эволюции вымершими – все эти археоциаты, трилобиты, радиолярии, фараминиферы, аммониты и т. д. и т. п., жившие сотни миллионов лет назад, и существовавшие до них бесскелетные формы животных и жившие после них медузо– рако– и рыбообразные, – не что иное, как эмбриональные стадии развития организмов того или иного, более современного и совершенного вида – от динозавров до человека.
Сегодня в нашем мире каждую минуту рождается большое количество, скажем, 100 тысяч, младенцев. Зачато бывает по меньшей мере вдвое больше. И если бы жило на Земле какое-то разумное существо, век которого длился бы по нашему отсчету одну секунду, с его точки зрения от зачатия до рождения человеческого младенца проходило бы 2 миллиарда 330 миллионов лет. Конечно же, ему бы и в голову не пришло, что какой-то один организм может развиваться столь длительное время, поэтому, делая палеонтологические находки то (по его отсчету) 2–3 мил-лиардолетней давности, то датированные сотнями и сотнями миллионов лет позже, он пришел бы ко вполне логичному заключению, что все эти одноклеточные, бесформенные многоклеточные, хордовые головастики и головастики, обзаведшиеся скелетом, наконец, вполне сформировавшийся плод, ребенок, человек – все это совершенно отдельные организмы отдельных видов животных, может быть, и находящиеся между собою в отдаленнейшем родстве, но, поскольку время их существования разделено сотнями миллионов и миллиардами лет, отнюдь не относящиеся к одному виду, а уж одному организму – тем более. И потому для нашего миниразумного существа будет совершенно непонятным появление вдруг разом 100 тысяч младенцев – живых существ абсолютно для него нового вида и массовое вымирание этого вида (но уже, в сравнении с младенцами, гигантских размеров), если он раскопает кладбище.
Чтобы покончить с подобной миниразумностью, давайте примем достаточно длительный срок, скажем, 2,5 миллиарда лет, с того момента, когда на Земле появились эукариоты и простейшие животные, за вполне нормальный срок вынашивания в чреве биосферы одного и того же единого организма того или иного вида. И тогда станет вполне понятным, почему это «вдруг» появляется новый вид одновременно на всей Земле, почему большинство групп самых различных животных начинает обзаводиться в раннем кембрии (570 миллионов лет назад) скелетом «в геологическом смысле одновременно», как пишет известный советский ученый А. Ю. Розанов в своей книге «Что произошло 600 миллионов лет назад» (М.: Наука, 1986), почему не находят в геологических пластах переходных форм между видами, почему идет процесс цефализации и почему и он, и процесс эволюции вообще необратимы и, наконец, почему происходит массовое вымирание животных того или иного вида – если брать, конечно, естественное вымирание, а не насильственное уничтожение, как в случае со странствующим голубем и многими другими видами животных. По-видимому, потому, что организм вида исчерпал свой жизненный ресурс, так же как и любой обычный организм.
С этой позиции станет понятным и загадочный до сих пор инстинкт сохранения вида – в человеческом обиходе он называется альтруизмом, – когда животное вопреки инстинкту самосохранения жертвует своими удобствами, а то и жизнью, защищая чужих, но принадлежащих его виду детенышей и вообще более слабых особей. Так же вот каждая клетка нашего тела защищает в целом организм от всяческих напастей: механических повреждений, болезнетворных микроорганизмов и токсических веществ, иные – ценою своей собственной жизни. И не стоит думать, что клетке не хочется жить – это вовсе не механизм, а вполне живой, чувствующий и желающий жить организм. Но когда встает дилемма, погибнуть ли ей или организму в целом, а значит, и ей все равно тоже, выбор может быть только однозначным.
Достаточно хорошо с этих позиций объясняется и явление так называемой преадаптации, подмеченное выдающимся английским палеонтологом Дж. Сим-пеоном, когда некоторые виды животных, эволюционное развитие которых довольно четко прослеживается на протяжении десятков миллионов лет, приобретают в самых, казалось бы, неподходящих для этого условиях совершенно ненужные (с точки зрения классической схемы эволюции видов как приспособления к тем или иным условиям) черты, но которые становятся необходимыми через миллион или даже несколько миллионов лет, когда условия, скажем климат, изменятся.
Становится понятным и то явление, с которого, собственно, и начали мы разговор: непрестанное, с самых первых шагов жизни, преобразование косной среды, приспособление ее для создания благоприятных условий. Причем, стоит подчеркнуть, не столько для себя, сколько для будущих потомков, чаще всего весьма и весьма, на сотни миллионов лет, отдаленных. Впрочем, отдаленных только на наш миниразумный взгляд. Жизнь не торопится, как мы, не поглядывает с тревогою на часы и пролетающие годы. Она вечна и может себе позволить не суетиться, делать все в расчете не на века, даже не на миллионы лет, но на Вечность, которая, по меньшей мере, в миллиард раз превышает возраст нынешней Вселенной, а скорее всего и вовсе беспредельна. И не стоит думать, что эволюция живого вещества завершилась, увенчавшись человеком. Это только нам так кажется, ведь с нашей точки зрения, тысяча лет – огромный срок, а 10 тысяч лет и вообще сравнимы с Вечностью, и коли за это время ничего нового не появилось вроде бы на свет, то уж никогда и не появится, развитие жизни закончено.
Думать так по меньшей мере наивно. Наивно и конкретно предсказывать, во что именно разовьется живое вещество, эдак сто или тысячу миллионов лет спустя после нашего времени. Но, судя по всему, это должно быть более высокое существо на шкале эволюции вещества Вселенной, и очень бы хотелось надеяться, что мы – эмбриональная стадия развития этого нового, более высокого вида живых существ. Мы, люди, а не какая-нибудь медуза, невзрачная океанская рыбка или страшноватенькая каракатица. Конечно, надежда эта – не что иное, как дань нашему человеческому самомнению, свысока поглядывающему на медуз и каракатиц как на низшие существа. Но если быть справедливым, придется признать, что каракатица – более благодатный материал для дальнейшей эволюции именно из-за своего несовершенства: ей есть куда развиваться. Человек же как вид, возможно, достиг пределов своего совершенства и качественно новых биологических изменений с ним и не произойдет. Тогда нам останется утешаться лишь тем, что хотя мозг и вообще психика человеческая, вероятно, и достигли пределов своего развития, но потенциальные их возможности используются пока еще, дай бог, на какие-то десять процентов, и это в лучшем случае. Кто знает, может быть, создавая столь огромный человеческий мозг – по новейшим данным, он содержит 50 миллиардов клеток, а значит, все количество межнейронных связей достигает цифры поистине астрономической, сравнимой лишь с количеством атомов во Вселенной, – Природа, по-видимому, проявила здесь принцип, сравнимый с преадаптацией – приспособлением впрок, то, что можно назвать преизбыточностью – предварительным созданием высокого потенциала для использования его в полной мере тогда, когда в этом возникнет необходимость.
Что это за необходимость, когда она наступит, на этот счет даже и догадок не существует. Видимо, потому, что пока над этим никто не задумывался. Только констатировали громадный запасной потенциал мозга – то удивленно, то хвастливо, не думая вовсе о том, что зря Природа ничего не делает и не создает ничего лишнего. Она не скупа, но расчетлива и оптимально экономична. А содержать напрасное количество лишних клеток для организма себе дороже, напрасная затрата энергии, а значит, проигрыш в сравнении с существами, имеющими меньшее количество нейронов, меньший объем мозга относительно размеров тела. В данном случае принцип энергетической оптимизации – ничего лишнего! – вступает в противоречие с принципами преадаптации и преизбыточности, когда Природа вопреки своей рациональности создает явно излишнее для данных условий и, главное, сохраняет эти излишества на протяжении иной раз десятков миллионов лет, до тех пор пока они не понадобятся.
Но именно это противоречие и позволяет нам понять, что Природа-не некая слепая сила, нечто схожее с калейдоскопом, где из случайных сочетаний случайно набросанных стеклышек-организмов возникает вдруг некое подобие гармонии – и скорее кажущееся нашему воображению, нежели действительное. И уж коли мы признали принцип цефализации Дана – Вернадского, а вместе с ним и явление направленности эволюции (во всяком случае возражений против этого принципа у ученых, даже тех, кто его замалчивает, нет), то не пора ли, сказав «А», начать говорить и «Б» – что эволюция имеет какую-то, пока неизвестную нам, цель? Ибо направленность всегда предполагает движение к чему-то, а это «что-то» и есть – цель. В какой-то мере принципы преадаптации и нреизбыточности подтверждают обобщение Дана – Вернадского, и, таким образом, направленность обретает черты, общие для эволюционного развития живого вещества.
Мало того, направленность эволюционного развития видна и в деятельности сине-зеленых, которые, будучи сами анаэробными организмами, не нуждаясь в атмосферном кислороде для поддержания своего существования, преобразовали первичную атмосферу Земли, насытив ее свободным кислородом, без достаточного содержания которого в воздухе живое вещество развиться до высших организмов попросту бы не смогло. Видна и в деятельности более поздней – эдак миллиарда два-три лет спустя – простейших организмов и тех же цианобактерий, превративших воду Мирового океана в щелочную и тем самым создавших условия студнеобразным животным для обзаведения скелетом, который впоследствии и позволил их потомкам выйти на сушу и в буквальном и переносном смысле встать на ноги. Видна и в деятельности тех же сине-зеленых и прочих растений, подготовивших так же в буквальном и переносном смысле почву для появления животных на суше, причем задолго до того, как они смогли вылезти из воды. Следовательно, и косные компоненты биосферы подвержены той же самой преадаптации, что и виды живых существ. Не нелепо ли считать эти глобальные преобразования окружающей среды, преобразования, без которых восхождение живых существ вверх по ступеням эволюционного развития просто невозможно, не более чем случайными отходами жизнедеятельности живых организмов? По-видимому, гораздо справедливее утверждение, что и в этих случаях проявляется направленность – устремленность ко все большему и большему совершенству биосферы.
А если это так, вывод может быть однозначен: биосфера (во всяком случае главная ее составляющая – живое вещество) является цельным, единым в своем существовании, развитии и деятельности самоорганизующимся живым организмом. А скорее всего, живое вещество и не следует вычленять из биосферы, а всю ее принимать как (используя терминологию Вернадского) биокосный надорганизм (в данном случае приставка «над» означает, что в его состав входят и все организмы-виды, и атмосфера, и почва, и гидросфера), живущий своей особой, но в то же время во всех своих основных чертах схожей с той, которую ведут обычные, привычные нам живые существа, жизнью.
О том, что биосфера – живой организм, говорят не только упомянутые выше явления ее самоорганизации и самосовершенствования, но и удивительно четкая, динамически равновесная и потому стабильная организация всех без исключения ее частей – атмосферы, литосферы, гидросферы и живого вещества, – взаимодействующих, взаимовлияющих и взаимозависимых. Нет, искать функциональные параллели между составляющими биосферы и органами нашего тела не стоит. Их нет, поскольку биосферный организм совершенно особенный и живые существа созданы отнюдь не по его образу и подобию.
Как и всякое другое тело Вселенной – от атома до звезд, от бактерии до слона, как и всякая, объединяющая множество составляющих система – от живого организма и галактик до Вселенной в целом, биосфера не может существовать вне подчинения всеобщему закону равновесия. Это равновесие обеспечивается и поддерживается прежде всего живым веществом – громадным многообразием живых существ, каждый из видов которых не столько занимает, как это принято говорить, определенную экологическую нишу, сколько – это принципиальное различие – выполняет свою, определенную ему работу по поддержанию этого всеобъемлющего равновесия в организме биосферы. И численность особей каждого вида зависит в первую очередь от объема выполняемой видом в целом работы.
Хотя биосфера довольно неплохо регулирует климатические условия – об этом говорят вполне стабильные цифры среднегодовой температуры и осадков в каждом из климатических регионов земного шара, – но все же изменения солнечной активности, потока других космических излучений, колебания прочих космических воздействий создают те неравномерности, которые принято называть плохой или хорошей погодой. Погода же, как нам хорошо известно, оказывает непосредственное влияние на рост растений: при хорошей – он увеличивается, при плохой – уменьшается. А растения являются в организме биосферы главными регуляторами теплового баланса и «перевыполнение плана по их росту» столь же нежелательно в этом смысле, как и «недовыполнение». Поэтому буйный рост растений начинают сдерживать буйно размножающиеся на привольных растительных хлебах травоядные животные – от микроскопических существ и всевозможных гусениц и тлей до мышей и копытных. А это, в свою очередь, увеличивает объем работы для всевозможных хищников, которые также начинают буйно плодиться – с тем отставанием, которое необходимо для того, чтобы травоядные успели сделать свою работу по сдерживанию роста растений. Если погода и в следующем году будет благоприятной для роста растений, то травоядные увеличат еще размножение, а разросшееся потомство хищников изымет излишки, как, впрочем, и в том случае, если погода станет плохой и травы не уродятся. И если учесть, что каждый вид травоядных специализирован в общем-то на поедание только своего вида растений – колорадский жук не ест капусты, а гусеница бабочки-капустницы не трогает картофеля, овцы предпочитают траву, а лоси – побеги кустарников, кору и ветви деревьев – и хищники в основном специализируются на питании одним или небольшим числом видов, то станет ясным, как необходим каждый вид растений, травоядных и хищников для гомеостатического равновесия всей биосферы в целом. В сущности, для ее существования.