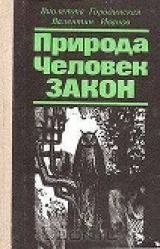
Текст книги "Природа. Человек. Закон"
Автор книги: Валентин Иванов
Соавторы: Виолетта Городинская
Жанры:
Обществознание
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 26 страниц)
До сих пор взгляд на мир живой природы находился на уровне частностей – отдельных растений или животных, их локальных популяций и ареалов, природных сообществ – биогеоценозов, находящихся в тех или иных географических условиях. При всей плодотворности такого взгляда для детального изучения мира живых существ он все-таки детален, а поскольку каждой деталью занимается один, два, группа ученых или институт, пусть даже целая отрасль биологии, следовательно, разобщен! Да к тому же по самой своей природе еще и узок! Человеку вообще свойственно идеализировать, преувеличивать значение того дела, которым он занимается. Это вовсе не осуждение, без этой идеализации невозможна та одержимость, которая и движет науку, технику по пути прогрессирующего накопления знаний об окружающем нас мире и практического их применения. Но все имеет свою противоположность, так и этот, в общем-то положительный принцип сужает горизонт видения мира. Один из наших писателей, по профессии геолог, хорошо сравнил это состояние современных наук с пробивкой шурфа: для того чтобы открыть как можно больше нового, полнее исследовать данное место, геолог должен забраться как можно глубже под землю, а чем глубже он уходит, тем уже и менее полной становится для него картина окрестностей, пока и вовсе не скроется из виду. Подобное «закапывание» в деталях – отнюдь не аллегория – сплошь и рядом случается в науке. И тут нет вины ученых, а есть беда – слишком глубоки, слишком обширны, слишком объемны накопленные за последние столетия знания даже в каждой из отдельных областей, не говоря уж о Науке в целом, где даже крайне сжатая информация о проделанных (крайне важных!) исследованиях, открытиях и возникающих в связи с ними проблемах составляет не менее 100000 страниц в день, слишком необъятны для усвоения, анализа, переработки, для осмысления одним каким-нибудь даже сверхгениальным мозгом, а надежд на помощь компьютеров, надежд, которые были столь радужными и оптимистичными на заре кибернетики, в этом смысле сегодня уже нет.
Поэтому понятно, почему происходит та раздробленность в познании и обусловленная ею раздробленность в сознании, во взгляде на мир, которая и приводит к вышеупомянутой беде, когда частное принимается за общее, когда незначительное, не доступное для исследований и открытий вольно или невольно выдается за важнейшее, когда самое значительное, но слишком привычное и потому не обращающее на себя внимание ученых почитается неважным и вообще не имеющим значения, когда, наконец, в случайностях отыскивают закономерности, а закономерности принимают за случайности. Это неизбежно, если не видишь, если не стремишься видеть целостную картину мира, если нет общей системы координат, а есть только эйнштейновская относительная точка зрения наблюдателя. И каждый наблюдатель интерпретирует выявленные факты в меру своих сил и способностей, а в результате картина мира предстает зыблющейся, полностью зависящей от случайностей да частных закономерностей, также случайных, поскольку они частные (ведь полагают же физики, что все четыре основных типа взаимодействий, управляющих всеми закономерностями поведения вещества Вселенной, возникли после Большого взрыва именно такими, какие они есть, совершенно случайно. Могли бы быть и иные – говорят физики, – а следовательно, нашей Вселенной и уж во всяком случае живых существ в нынешнем их виде не было бы).
Странно только, что в этом случайном мире случайностей случайности-то как раз и не случаются! Почему-то возникли именно четыре типа взаимодействий – как раз столько, сколько нужно для нашего мира, – а не 8, не 16, не 32 и т. д. с совершенно разными константами, а значит, и различными видами взаимодействий – при случайном характере их возникновения гораздо, в тысячи раз более вероятно именно разнообразие типов и их констант и – как результат этого – несогласованность их друг с другом и порождаемая этим дисгармония, хаос Вселенной. Да если даже и существует некий закон, запрещающий появляться в материи более чем четырем типам взаимодействий, все равно непонятно, почему эти возникшие случайно силы вечны и неизменны, почему в горнилах нейтронных и сверхновых звезд, где вещество находится в состоянии, сопоставимом с тем, при котором должны были образоваться эти силы, опять же случайно не возникнут те же четыре силы, но с иными константами, а значит, и с совершенно иным состоянием вещества?
Не менее удивительна и тотальная однонаправленность развития вещества Вселенной от простого к сложному (о чем мы уже говорили в первом разделе), ко все более и более усложняющимся видам. Особенно ярко этот принцип выражен в процессе эволюции живого вещества.
По теории видообразования происхождение разнообразных видов определяется случайным изменением условий, в которых существует тот или иной вид. Живет себе некое, нельзя сказать чтобы уж слишком симпатичное, животное, что-то вроде помеси землеройки с ежом – гимнура – питается расплодившимися в тропических лесах насекомыми и в общем-то прекрасно чувствует себя миллионы лет подряд. Но как-то для части гимнур настали тяжкие времена, скажем, разлившаяся по всей территории их обитания вода рек или моря, что мы вполне справедливо относим к случайности, залила их норы и вообще все те места, в которых они жили и добывали себе пропитание. Пришлось беднягам залезать на деревья и осваивать новый образ жизни. Прошло еще несколько миллионов лет, и гимнуры вовсе преобразились. Те, что, по-видимому, перешли на вегетарианскую пищу, чтобы дотянуться до дальних листочков на тонких ветках, в результате случайных мутаций и естественного отбора отрастили себе длинные носы-хоботы и превратились в слонов. Некоторые, правда, а именно те, что попросту вытягивали и вытягивали шеи, пока они не стали неимоверно длинными, стали жирафами. Иные, напротив, отрастили себе клыки и когти для того, чтобы успешнее охотиться на собратьев, и обратились во львов, тигров, волков и прочих хищников, а другие, чтобы спастись от этих хищников, нырнули в воду и постепенно превратились в китов, дельфинов, тюленей и моржей. Вероятно, с той же целью другая часть нарастила перепонки между лапами и превратилась в белок-летяг и летучих мышей. Наиболее (надеемся) умные отрастили себе четыре руки – чтобы больше захватить и удержать – и превратились в приматов, разделившихся впоследствии на тех, кто так и остался на дереве, – обезьян, и тех, кто слез с дерева, – людей. Так во всяком случае представлен на рисунке-схеме в учебнике 4Биология», предназначенном для студентов медицинских высших учебных заведений (М.: Высшая школа, 1986), процесс превращения эоценового насекомоядного гимнуры в более чем 4000 видов современных млекопитающих (более позднего издания, трактующего эту тему, мы не нашли). Мы только взяли на себя смелость предположить, что именно разлив воды выгнал гимнур из привычной им экологической ниши – кстати, гимнуры благоденствуют и по сей день в тропических лесах Юго-Восточной Азии и Филиппин. Можно, конечно, придумать и другие случайности, изменяющие условия существования, но все они только повторят предложенный сценарий происхождения видов, повторят практически точь-в-точь.
Дело даже не в том, насколько верен этот сценарий. В конце концов он не более примитивен и непонятен в своих главных частностях, чем любой другой, и не менее верен в своей основе: процесс эволюции млекопитающих, как и всех живых существ, шел от простого ко все более и более усложненному виду и никогда наоборот. Грубо говоря, если мы все сегодня залезем на деревья и очень и очень захотим превратиться в обезьяну или того примата, который был нашим общим предком, то из этого ничего не получится. Точно так же не получится, как и, если верить предложенному сценарию, не получилось у слонов, львов, жирафов, барсуков и т. д. и т. п., когда они, увидев, что вода схлынула и обнажилась земля, слезли с дерева. Условия, благоприятные для гимнур, возвратились опять, но ни один жираф, ни даже летучая мышь почему-то в гимнуру не превратились. Так же, впрочем, как и она сама не обратилась в ящера, а, как мы знаем, вот уже свыше шестидесяти миллионов лет остается гимнурой. Понятно, за это время она тоже изменилась в чем-то, но не настолько, чтобы при встрече разделенным 60 миллионами лет животным не узнать друг друга. Мы, во всяком случае, изменяемся гораздо больше между пятью и пятьюдесятью годами – так, что, встретив самого себя пятилетним, едва ли признаем даже отдаленное родство.
Эта в общем-то неизменность морфологических и физиологических признаков на протяжении десятков и сотен миллионов лет у крокодилов, ящериц, черепах и прочих «живых ископаемых» – как именовал их Дарвин – ставят под серьезные сомнения не только «презумпцию случайности», но и приоритет изменяющихся условий в происхождении видов. «Живые ископаемые» испытывали точно такое же давление среды, как и новые виды, – попадали в те же неблагоприятные или, напротив, роскошные для существования условия, но, не в пример новым видам, почему-то уцелели в своем, практически первозданном, облике, как внешнем, так и внутреннем. И взгляд с другой стороны: на Земле условия изменялись в ту или иную сторону не повсюду, и любые животные (кроме малоподвижных) всегда могли уйти в более благоприятные места, если на привычной им территории условия существования ухудшились. Таким образом могла бы дожить до наших дней, в сущности, не горсточка «живых ископаемых», а большинство палеовидов. Те же динозавры и уж по всяком случае ихтиозавры, для которых условия – воды Мирового океана – остались неизменными в принципе и по сей день. Так что изменение условий и адаптация к ним, в результате чего, полагают, и превращается нос в хобот или вырастает длиннющая жирафья шея – отнюдь не самый наиважнейший фактор происхождения и изменения видов.
Все это – лишь модификация «презумпции случайности», отношения к природным явлениям, которое зародилось и развилось в XVIII–XIX веках, в ту пору, когда науке приходилось бороться с религиозным сознанием и библейским мифом о сотворении мира. Все, что не могла объяснить тогдашняя наука, любое явление, любой процесс, происхождение и генезис которого был непонятен или неясен, – все объяснялось случайностью: альтернативой акту божественного творения, как тогда казалось. Случайность была тем «богом из машины», которая, как в греческих трагедиях, появлялась в тот момент, когда все представления запутывались донельзя, и неизвестно почему, непонятно как, но разрешала все проблемы. Таким образом, Случай занял место божественного Чуда, и с тем же успехом, ибо приходилось только верить на слово, что то или иное явление произошло в природе случайно: случайно произошел Большой взрыв, случайно во время нуклеосинтеза образовались силы взаимодействия именно с теми константами, которые позволяют существовать нынешней Вселенной; случайно вещество Вселенной не осталось единым комом, а раздробилось на части – галактики и звезды; случайно вблизи одной из звезд пролетела другая звезда, случайно оставившая возле первой звезды ровно такое количество своей массы, которое нужно для образования равновесной, а значит, стабильной на протяжении миллиардов лет планетной системы, случайно эта масса оказалась состоящей из полного набора химических элементов, какие только могут существовать в природе вещества Вселенной; случайно первая звезда оказалась не слишком горячей, но и не слишком холодной, короче говоря, Солнцем, случайно оказавшимся не в центре галактики, где плотность звезд в 20 000 раз, а жесткое для жизни космическое излучение в миллиарды раз превышает то, что имеется в околосолнечном пространстве; случайно и само Солнце имеет такую массу, которая гарантирует его существование сотню миллионов миллиардов лет, и потому его планетная система, по мнению астрофизиков, будет еще существовать по меньшей мере сотни тысяч миллиардов лет; случайно, наконец, в межзвездной среде образовались такие подходящие условия, где собравшиеся случайно четыре аминокислоты, сахара и фосфаты случайно соединились в молекулу ДНК, которая случайно попала на Землю прямо в объятия опять же случайно собравшихся 20 аминокислот, Сахаров и фосфатов, в результате чего образовался живой организм, способный потреблять и перерабатывать энергетические ресурсы и на этой основе самовоспроизводить себе подобных. (Мы намеренно перечислили современные представления, чтобы показать, насколько и по сей день живуча презумпция случайности.)
Как вы понимаете, случайное возникновение – бездоказательно. Можно только принимать (или не принимать) на веру. Что, естественно, не удовлетворяет тех, кто предпочитает знать. Знание же всегда опирается на эмпирические факты, осмысленные, доказательно обобщенные в логически безупречной теории, которая на основе существующего опыта, однозначно экстраполируя его, предсказывает априорные явления, те, что еще не свершились или уже есть в природе, но человечеству еще Недоступны для прямых наблюдений или неизвестны.
Отвергая в генезе жизни «презумцию случайности», хотя бы потому даже (в дополнение к вышеизложенному), что случайность всегда внезапна и для перестройки того или иного организма просто не оставляет времени и надежд, отвергая также Модификацию случайности – приоритет изменяющихся условий (если они внезапны, то опять же организм не успевает приспособиться и гибнет, если длительны и постепенны – непонятно, почему происходящие от одного и того же предка, попавшие в равные условия, занимающие одну экологическую нишу и живущие бок о бок, питающиеся одной и той же пищей, скажем, листвою деревьев, животные образовали два совершенно разных вида – слонов и жирафов. С точки зрения приоритета изменяющихся условий, ответ может быть только один – случайно), – так вот, отвергая эти принципы как наиглавнейшие для образования видов (и вовсе не исключая их для частных случаев, особенно в образовании подвидов и разновидностей), мы руководствуемся не столько негативными соображениями («этого не может быть»), сколько теми фактами, которые накопила биология и палеонтология, биохимия и прочие науки о живом веществе за последние полтораста лет, фактами, позволяющими взглянуть на живую природу несколько иначе, чем это общепринято (поскольку биология и до сих пор пользуется концепциями, выдвинутыми 100–150 лет назад).
Мы вовсе не станем отрицать, что, скажем, слон при изменении условий (допустим, деревья и кустарники начнут все прибавлять и прибавлять в росте, и за последующий достаточно долгий срок, скажем, в миллион лет ветви с листьями окажутся на 1,5–2 метра выше, чем сегодня) может приобрести жирафью шею (хотя скорее всего у него удлинится хобот), что жираф может отрастить в том же случае хобот (хотя и это маловероятно). Условия, конечно же, могут вносить морфологические изменения, улучшающие приспособляемость животных и растений к изменяющейся среде, чему классическим примером служат дарвиновские вьюрки, обзаведшиеся в зависимости от того, чем они питались, самыми разнообразными – от шиловидного до тупого – клювами. Но абсолютно невероятно, чтобы тот же слон превратился в жирафа, а жираф в слона (так же как и вьюрки остались вьюрками, а не превратились в павлинов, орлов или страусов).
Дело вовсе не в том, что виды просто не похожи друг на друга. Разница гораздо более глубокая и принципиальная создает между ними пропасть, которую слону не преодолеть, даже если он отрастит не только шею, но и рожки, и обзаведется копытцами, как у жирафа. Эта пропасть лежит на клеточном генетическом, биохимическом уровне: различаются не только клетки, но и их «кирпичики» – белки и ферменты, а также вырабатываемые организмами гормоны и прочие регуляторные вещества. Вот, например, как разнится один из важнейших гормонов – инсулин, вырабатываемый поджелудочной железой (дается часть полипептидной цепи инсулина):

«Сейчас известно, что весьма близкие виды, – пишут Н. В. Тимофеев-Ресовский, Н. Н. Воронцов и А. В. Яблоков, – различаются по строению рибону-клеазы, кортикотропинов, по меланотропинам, инсулину, гипертенсинам, цитохрому-С, гемоглобинам и т. д. Это возможно лишь при наличии определенной изменчивости фундаментальных (курсив наш. – Авт.) биохимических свойств организма, безусловно определяющихся гораздо раньше, чем любое морфологическое (в широком понимании) свойство организма» (Тимофеев-Ресовский Н. В., Воронцов Н. Н., Яблоков Л. В. Краткий очерк теории эволюции. М., 1977, с. 170.).
Следовательно, разделение на виды произошло до того, как гимнура или какое-то иное животное (биологи на гимнуре не настаивают), питающееся насекомыми (на этом биологи настаивают), начала отращивать нос или шею под влиянием изменившихся (для нее случайно) условий для того, чтобы превратиться в слона или жирафа. А поскольку мы знаем, что случайные мутации, тем более на фундаментальном биохимическом уровне, для многоклеточных организмов смертельны (или он просто отторгнет мутировавшие клетки и спасется и от гибели, и от дальнейших эволюционных изменений) – а других причин происхождения видов не предложено, – значит, многоклеточный организм (не в частности, а в тотальном смысле) неизменен? Во веки веков от самого начала своего зарождения и до нынешних дней?
Этого не может быть, потому что не может быть никогда!!!
Сколько поколений ученых самых разнообразных отраслей науки трудились над стройной и изящной теорией монофилии, зримо изображаемой во всех учебниках, серьезных научных и легкомысленных популярных трудах в виде могучего дерева, из единого ствола которого вырастают мощные ветви, от которых отходят менее мощные сучья, которые, в свою очередь, порождают ветки поменьше, еще меньше и так далее, пока на самых тоненьких веточках не закачаются плоды – все разнообразие сегодняшнего растительного и животного мира. Сколько пришлось проявить ума и хитроумия, чтобы соединить несоединяющееся, обойти сомнительное и примирить непримиримое!
Но чем глубже проникаем мы в тайны живого, чем больше накапливается фактов, тем менее достоверными предстают эти хитроумные представления. Тем более, что подавляющая часть их вызвана прежде всего соображениями чисто политического характера, явилась результатом героической борьбы ученых XVIII–XIX веков с упомянутым теологическим мышлением об акте божественного творения – мышлением, практически налагающим запрет на познание природных явлений.
Надо ли говорить, что такой подход вненаучен, что политические соображения и научное познание находятся в совершенно разных областях человеческой деятельности, и если научные знания еще и могут помочь прогрессу политического сознания, то уж политика – чему примеров мы немало видим – фактически всегда оказывает на научное сознание отрицательное воздействие. И если в прошлом влияние политических соображений хотя бы было оправданно – наука завоевывала свое место под солнцем, то сегодня, в годы расцвета ее мощи и торжества в сознании подавляющего большинства людей, в том числе и клира (сегодня любой священник отбарабанит дарвиновскую теорию эволюции не менее бойко, чем «Отче наш»), нет ей в этом никакой, ну абсолютно никакой, необходимости. Напротив, ощущается настоятельнейшая необходимость в освобождении научного мышления от политического догматизма, от ярлыков вроде сакраментального идеалистического учения, навешиваемого на теории, которые рассматривают материальные явления с материалистических позиций, но идут вразрез с общепринятым и официально утвержденным. Ибо догматизм всегда был и будет самым главным признаком именно религиозности мышления, ибо политические ярлыки всегда были и будут сигналом к Варфоломеевской ночи.
А поскольку Варфоломеевские ночи во всех областях человеческой жизни изрядно-таки приелись человечеству, давайте, не обращая внимания на кем-то приклеенные ярлыки, сами разберемся, может ли быть какой-то вид в частности (и все вообще) в принципе неизменен со дня своего зарождения или не может «потому, что не может быть никогда!»
Прежде всего надо определить сам «день зарождения» не во временном, конечно, смысле. Поскольку, по мнению современных генетиков, «фундаментальные биохимические свойства организма безусловно определяются гораздо раньше, чем любое морфологическое (в широком понимании) свойство организма», да к тому же положительные изменения на биохимическом уровне многоклеточных организмов даже в единичных случаях маловероятны (а уж изменения во всех 5 миллионах видов современных многоклеточных и вовсе выходят за пределы вероятности), с полным основанием можно считать, что время зарождения каждого из видов многоклеточных началось не позже чем на стадии появления эукари-от – клеток с ядром – неким «мозговым центром» одноклеточного организма, осуществлявшим, так сказать, руководство всею деятельностью органоидов и в целом клетки. По-видимому, именно тогда сформировалось все разнообразие биохимических составов, по существу и определяющих все дальнейшее развитие организма и его отличительные особенности. Не позже, но вполне возможно и значительно раньше, еще на стадии прокариот.
А это означает, проще говоря, что еще в те далекие времена, 1,5–2 миллиарда лет назад, а может и еще раньше, вроде бы не отличимые друг от друга одноклеточные микроорганизмы были уже разными, потенциально содержали в себе одна хобот, другая жвалы муравья, третья бутон розы, четвертая мозг человека и так далее.
Предопределение? – По-видимому, да. Мистика? – Ни в коем случае.
Странное дело, предопределение окружает человека буквально на каждом шагу, без предопределения не мог бы существовать в буквальном смысле весь, во всяком случае живой, мир. Но вот от самого этого слова люди шарахаются как черт от ладана – чур меня, чур! – подозревая в нем мистику и мракобесие. А между тем предопределено: из яичка мухи рождается личинка, которая впоследствии разовьется в муху, но никак не в слона; из слияния сперматозоида и яйцеклетки слона рождается слоненок, но никак не мышь, из макового семечка роза не вырастет и так далее.
Не подтверждается палеонтологическими находками? Ну, это как посмотреть на эти находки. Представим себе, что мы ничего не знаем о метаморфозе насекомых, скажем, бабочек (можно допустить, что все они вымерли задолго до появления человека). И вот палеонтологи находят в пластах недр, датируемых 2 миллиардами лет, яичко, а в тех породах, возраст которых 50 миллионов лет, окаменевших гусеницу, куколку, останки самой бабочки. Что заключили бы из этих находок палеобиологи? А то, что сначала на Земле существовали только одноклеточные, которые в результате случайных мутаций и под воздействием изменяющихся условий окружающей среды в процессе эволюции в конечном счете за 1 миллиард 950 миллионов лет превратились в три различных вида животных. А если бы в пластах 300-миллионолетней давности нашли сначала бабочку, в породах, образовавшихся 100 миллионов лет спустя, – куколку, а еще на 50 миллионов лет ближе к нам – гусеницу, то вполне могли бы заключить, что из-за каких-то условий, скажем, разреженности (или, наоборот, уплотнения) атмосферы бабочки отбросили крылья и превратились в панцирных животных – хитиновый покров куколок вполне сошел бы за панцирь, – которые из-за малоподвижности вымерли, а на Земле восторжествовал неизвестно откуда появившийся вид гусениц. На этих примерах мы показали тот ход мысли, осмысления добытых палеонтологами фактических материалов, который присущ современной палеобиологии. А насколько он доказателен, насколько верен, судите сами. Не мудрено, что подобные умозаключения требуют всевозможных подпорок в виде необъяснимых случайностей, которые вполне можно приравнять к чудесам (как любое чудо можно вполне объяснить случайностью) и прочим «богам из машин».
С этих позиций совершенно невозможно объяснить самые наиважнейшие этапы эволюции живого вещества, потому и остаются зияющие провалы наших знаний именно в точках кардинальных изменений организмов животных и растений. Например, если возникновение панцирей и раковин еще можно как-то объяснить тем, что примерно 600 миллионов лет назад вода в океане из чуть кисловатой сделалась чуть щелочной (какой она существует и по сей день) – хотя и неясно: с чего бы это ей изменить свой состав, насытиться углекислым газом как раз в то самое время, когда в атмосфере углекислоты значительно убавилось? – и мягкотелые животные получили возможность накапливать известь на наружных поверхностях своих тканей (хотя опять же трудно понять, зачем это утяжелять себя, врагов-то практически не было), то совершенно не ясно, зачем они включили впоследствии эту самую известь в свои ткани, образовав внутренний скелет. Случайно? Но в этом случае они должны были бы скорее погибнуть, нежели улучшить свою приспособляемость и вообще жизнь. Случайное отложение карбоната кальция в мягких тканях только усложняло и ухудшало существование животных, а следовательно, по закону естественного отбора они должны были начисто вымереть. Но они не только не вымерли, а дали потрясающее по своей мощи и разнообразию потомство позвоночных. И ведь это должно было длиться не день-два, даже не годы, а миллионы лет, прежде чем известковые отложения – по величине и удобству нечто вроде куриной кости в нашем пищеводе – сформировались в упругий и гибкий скелет. И самое удивительное, что они выжили и развились в то самое время, когда виды, существовавшие уже десятки миллионов лет, а значит, наиболее приспособившиеся к среде, вымирали. Подобный «антиотбор», когда выживают наименее приспособленные в сравнении с другими виды, а наиболее устойчивые (чему свидетельством их качественное и количественное доминирование на тот момент над другими видами) вымирают, буквально пронизывает каждую эпоху истории Земли, каждый этап эволюции живых организмов. Понятно, что это отнюдь не жесткое правило и немало можно найти исключений, которые, по старой поговорке, лишь подтверждают правило. А правило это такое: вымирают не те, что наименее приспособлены к окружающей среде физически, а те, что наименее развиты, так сказать, духовно – имеют менее совершенную нервную систему, менее развитой мозг, а следовательно, несовершенную психику. И, пожалуй, одно из самых удивительных явлений процесса эволюции заключается в том, что виды, стоящие на низшей ступени психического развития, не вымирают только в том случае, если они необходимы для существования всех остальных живых организмов Земли и ее биосферы в целом. Если бы сегодня исчезли хотя бы только два типа низших животных, появившихся свыше 600 миллионов лет назад, – черви и моллюски, жизнь на Земле в том ее виде, который мы знаем, перестала бы существовать. Ибо они – необходимейшее звено в поддержании равновесного круговорота биогенных и минеральных веществ в биосфере.
До сих пор к проблеме массового вымирания животных и растений на Земле в отдельные, четко очерченные периоды подходили и подходят с узкобиологической точки зрения, идя от вида или рода живых существ, от их потребностей и влияния на них условий окружающей среды. Оттого и появляются и отбрасываются одна за другой гипотезы о различных катастрофах, приведших к вымиранию: то это недостаток углекислоты, то ее избыток, то избыток кислорода, то его недостаток (причем все это в одно и то же время!), то вспышка сверхновой вблизи Солнечной системы – жестокие космические излучения почему-то погубили повсеместно на Земле одних животных и оставили в живых других, отнюдь не самых радиационно устойчивых! – то от холода, то от излишнего тепла (опять же в один и тот же период!), то от огня вулканов, то от воды океанов вымирали (опять же – избирательно, оставляя почему-то наименее приспособленных, но более развитых в психическом смысле).
Такие противоречивые и парадоксальные суждения неизбежны при узком, нецелостном подходе. Древнеиндийская притча рассказывает, как слепые спорили, на что, собственно, похож слон. «На веревку», – сказал один, ощупывая хвост. «Нет, на дерево», – возражал другой, обхвативший ногу». «Да бросьте вы, – вскричал третий, держась за хобот. – Слон похож на удава!»
Тому, кто хотя бы приблизительно, хотя бы в размере школьной программы знаком с анатомией и физиологией человеческого тела, представить самого себя в виде и размере эритроцита, снующего по всем кровеносным сосудам своего собственного тела, сравнительно нетрудно. В этом случае все остальные эритроциты представлялись бы ему живыми существами одного с ним рода, родными по крови, клетки различных органов – живыми существами других видов, а сами органы – скоплениями, популяциями этих видов. Тело же представлялось бы той биосферой, в которой мы живем.
Не надо обладать могучим воображением, чтобы понять, что побывавший во всех уголках тела эритроцит, узнавший, изучивший все многообразие и удивительную функциональную необходимость всех без исключения не только популяций органов и видов в целом, но и каждой отдельной из составляющих их клеток, все же не был бы в силах уяснить себе их роль для всего человеческого организма, всего тела. Ибо даже в наилучшем случае горизонт его взгляда, его знаний находился бы на уровне функционирования и взаимосвязи, взаимодействий отдельных органов между собой. Зачем нужна эта взаимосвязь, что представляет собою организм в целом, почему столь различные виды живых существ-клеток стали вдруг необходимы друг другу; как это организовались они в столь стройное, видное даже невооруженным эритроцитовым глазом, сообщество, – все это было бы в высшей степени непонятно и таинственно и породило бы в эритроцитовом обществе множество различных толкований, догм и ересей.
Аналогия – не тождество. Нам только хотелось, чтобы вы зримо представили себе всю сложность, а подчас и недоступность видения биосферы в целом, видения ее как единого организма, в котором нет ничего несущественного, лишнего, случайного. С точки зрения эритроцита, популяции клеток руки или уха, ноги или глаза – случайные и даже лишние образования, даром что они гармонично входят в биосферу тела. Ну а как с вашей точки зрения?
Для того чтобы судить о нужности или ненужности, случайности или необходимости того или иного органа человеческого тела, необходимо обладать по меньшей мере человеческим взглядом на эти явления. Для того чтобы судить о биосферных явлениях, необходим уже космический взгляд (не путать со взглядом из Космоса, который в наше время спутников и телевидения доступен даже кошке, уютно устроившейся в кресле перед телевизором). Доступен ли такой взгляд человеку? По-видимому, да. Таким даром обладал В. И. Вернадский, показавший современному человечеству, что можно мыслить биосферными категориями.








