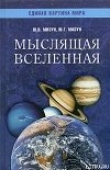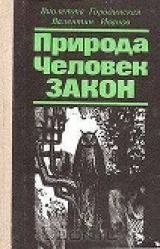
Текст книги "Природа. Человек. Закон"
Автор книги: Валентин Иванов
Соавторы: Виолетта Городинская
Жанры:
Обществознание
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 26 страниц)
Даже те звери и птицы, что были далеко, что загодя почуяли опасность, практически никогда не могут избежать печальной участи. Да, у зайцев, волков, кабанов достаточно быстрый бег, чтобы обогнать пламя. Но – сколько они могут бежать так? Час, два, день, наконец. Пожар может распространяться на сотни и тысячи квадратных километров и неделю, месяц беспрестанно, неумолимо разбегаться со скоростью курьерского поезда. И застигает их, выбившихся из сил, даже самых быстроногих, даже самых выносливых.
Конечно, некоторая часть животных спасается на обширных пространствах болот, в заболоченных поймах рек и ручьев. Но это – только спасение от гибели в огне. В уничтоженных, выжженных местах, где некогда стояли леса, они все равно погибнут. От голода. От холода – потому что укрыться негде. От болезней, набросившихся на ослабленный организм.
Так на месте живого биогеоценоза образуется мертвая гарь. Черные, обуглившиеся деревья лежат на земле вперехлест, одно на другом, так, как застала их смерть. Черные, обуглившиеся стволы, оставшиеся на корню, вздымают к небу обожженные, покалеченные ветви, словно взывают: «За что, Господи?!» Недолго и им стоять – чуть посильнее ветерок и мертвые корни вырвутся из выжженной почвы, свалится дерево на груду мертвых тел своих собратьев.
Все мертво. Не щебечут, не шмыгают птицы: насекомые и растительность сгорели, питаться им нечем, и те, что уцелели, перебрались в другие места. Не бегают, не ползают зверьки и звери. Не шелестит листва, не колышется хвоя.
Бобровые плотины давно разрушились. Бобры, если не погибли в огне, ушли в обильные кормами и водою места. Потому что ручьи и речушки также пересохли: лес уже не задерживает снега, не собирает большую часть осадков.
Высыхают и болотные пространства: ветер, некогда гулявший только над вершинами сосен и елей, теперь сквозит вовсю над землей, выдувает, выгоняет влагу подальше от этих мест. Мелеет озеро. Луга, недавно еще славившиеся пышным разнотравьем, поля, где весело колосились хлеба., оскудели. Окрестные крестьяне чешут в затылках, глядя на небо, клянут треклятую засуху.
Годы и годы, иной раз десяток лет пройдет, прежде чем над мертвой гарью поднимутся первые посланцы Природы, исправляющей содеянное неразумием человека. Взметнет вверх свои розовые пирамидки цветов иван-чай, образуя густые заросли. Разрастется, покроет многие места сплошной темной зеленью крапива, вырастет жесткий, колючий татарник, раскинут свои солнышки одуванчики. Десятки лет будут они удобрять своими телами превращенную пожаром в золу, выгоревшую почву. Разрастется малинник, начнут тянуть свои тонкие живые веточки к солнцу прутики березок, осинок, а на влажных местах – ивняка и ольхи. Запорхают бабочки, зажужжат жуки и шмели. Вновь пронижут всю почву микроорганизмы, нематоды, дождевые черви и улитки.
Появятся птицы и засеют уже удобренную почву семенами различных ягодных растений. Заснуют в траве лесные мыши, зайцы и лоси начнут стричь сверху и снизу густо разросшиеся осинки и ивы.
А спустя сотню лет после пожара, зрелый березово-осиновый лес (с примесью клена, липы, других пород деревьев) будет бережно холить под своим теплым пологом уже изрядно выросшие елочки и сосенки.
А еще век спустя на этом месте вырастет и будет жить тот самый лес, в котором мы с вами уже побывали. Если, конечно, его снова не сожгут, не вырубят. Потому что сплошная рубка только ненамного меньше, чем пожар, приносит лесу бед.
Человеческая память коротка. Беды, которые мы вольно или невольно приносим другим (а в конечном счете и себе, опосредованно), забываются уже через две недели. Что же говорить о двух веках, за которые сменяются несколько человеческих поколений! И снова оставленное тлеющим кострище даже, казалось бы, в самом невинном месте – и говорить не хочется о тех… как бы назвать их помягче? – кретинах, что разжигают костры под густым пологом красавицы-ели, прямо на ее корнях – может превратить живую жизнь в мертвую гарь.
И поэтому, увидев привычный и, по правде сказать, изрядно опостылевший призыв: «Берегите лес!», все же внемлите немудреному совету.
Нет, правда – берегите лес.
«Лица, виновные в:
незаконной порубке и повреждении деревьев и кустарников;
уничтожении или повреждении леса в результате поджога или небрежного обращения с огнем;
нарушении требований пожарной безопасности в лесах;
повреждении леса сточными водами, химическими веществами, промышленными и коммунально-бытовыми выбросами, отходами и отбросами, влекущем его усыхание или заболевание;
уничтожении или повреждении лесных культур…
уничтожении полезной для леса фауны…
несут уголовную, административную или иную ответственность в соответствии с законодательством Союза ССР и союзных республика(Основы земельного законодательства Союза CСP и союзных республик, ст. 50).
Степь
Если взглянуть на Землю откуда-нибудь из Космоса, ну, скажем, с Марса, она будет выглядеть, как раскрашенный детский волчок. Наверху, рядом с осью волчка, белый купол полярных льдов, чуть ниже их – бурая полоса тундры, еще ниже – темная зелень лесов, потом пойдет бледно-зеленая полоска лугов, затем – серебристо-серая степная полоса, желтая кайма пустынь и – снова степное серебро, изумруд лесов, только вместо бурой тундры – сапфир океанов, и в самом низу – алмазные грани Антарктики.
Но это так видно, пока наш волчок быстро вращается. Если же его остановить, вид сразу изменится. Белые полярные купола, конечно, останутся, останутся и бурая, и сапфировая, и зеленая полосы. А вот то, что мы принимали за сплошную серебристую, окажется в виде разорванных пятен. Степи предпочитают жить в самой глубине континентов. Как истые неженки прячутся они здесь и от морозного дыхания полюсов, и от экваториального зноя, а главное от излишней, на их взгляд, влаги морей и океанов. Но неженками их можно назвать, только если смотришь с Марса – не зная, не принимая во внимание жесткости земных внутриконтинентальных климатических условий.
И потому, для того чтобы хотя бы в общих чертах понять, что представляют собою степные биогеоценозы и экосистемы, давайте-ка лучше с небес спустимся на землю.
А условия для жизни растений и животных в степях подчас не только жесткие, но и прямо-таки жестокие. Зимой температура нередко падает до -50° при толщине снежного покрова в 4–5 сантиметров, а летом почва раскаляется до тех же 50°, но уже жары. Но мороз и зной еще полбеды, беда в том, что ни снегами, ни дождями климат степи отнюдь не балует. Вон в лесах Сибири и Русского Севера термометр, бывает, опускается гораздо ниже 50 градусной отметки. Но там растения да и животные тоже надежно укрыты толстенным, в полтора-два метра, пуховым снежным одеялом. Только стволы деревьев покряхтывают в лютую стужу. Покряхтывают, но выдерживают очень низкие, до – 70°, температуры. Но вот когда снежочка чуть-чуть, когда гуляет по просторам пронизывающий все и вся морозный ветер, а почва промерзает насквозь, вот тогда удержать жизнь очень трудно.
Да и летняя жара вовсе не страшна для жизни, если есть достаточно влаги. И среднемесячные и абсолютные максимальные температуры в тех же тропиках гораздо выше, чем в степных зонах, а, посмотрите, как буйно и пышно развивается там и растительность и животный мир. Но вот когда тебе на все про все отпускается за лето 20–30 сантиметров дождевой влаги и росы, хочешь пей одним глотком, хочешь растягивай по 2–3 миллиметра на день, вот тогда жаркое небо с овчинку покажется!
Но и в этих экстремальных условиях существует – развивается, цветет, продолжается в потомках – жизнь. Да еще какая многообразная жизнь!
«В середине апреля помятая физиономия степи, только что очнувшейся от зимнего сна, покрыта тускловатыми лиловыми пятнами прострела. Через одну-две недели степь оживляется и начинает играть золотистыми и голубыми искрами адонисов и гиацинтов. В середине мая она бледнеет. Эту бледность придают ей белые соцветия чины и ветреницы. В июне наступает самая красочная пора в жизни северной степи. Ее нежно-зеленое лоно, еще покрытое незабудковым туманом весенних воспоминаний, увенчивается вызывающе яркими желтыми уборами крестовника, козлобородника, лютиков и первыми предвестниками зрелости – серебристыми плюмажами ковыля. Позднее степь еще и еще раз то белеет от клевера, нивяника, таволги, то синеет от колокольчиков, то розовеет от эспарцета. С середины июля словно уставшая от цветовых эмоций северная красавица тускнеет и только в конце этого самого теплого месяца в году последним криком отчаяния по уходящему лету взрывается багровым пламенем соцветий чемерицы. В августе и сентябре цветущих растений почти нет. Поблекшей, пригнувшейся к земле и затаившейся уходит северная степь в зиму» (Мордкович В. Г. Степные экосистемы. Новосибирск, 1982.), – так поэтически-восторженно воспевает степь в своей в общем-то строго написанной книге сотрудник лаборатории биогеоценологии Сибирского отделения АН СССР В. Г. Мордкович.
Правда, в данном случае он говорит о северном биогеоценозе луговых степей, весьма далеких от тех экстремальных условий, о которых мы рассказали выше. Здесь еще чувствуется умиротворяющее дыхание леса: зимы не такие жестокие, лето не такое палящее, а главное осадков в полтора-два раза больше, да и подпочвенные грунтовые воды ближе к поверхности.
И снова нам, надвинув забрало биогеоценологии и взяв наперевес копье эмоций, придется бросить вызов тем, кто по традиции считает лес и степь смертельными врагами, извечно ведущими беспощадную схватку.
Нет, нет и нет. Ни лес не покушается на степные просторы, ни степь не теснит лесов. Их мирное сосуществование вполне наглядно доказано биогеоценозом лесостепи и саванны, где деревья и большие рощи мирно уживаются со степными травами, располагающимися на обширных пространствах. Уживаются столько же, если не больше тысячелетий, сколько существуют степи на Земле.
Сомнительно и бытующее предположение, что если бы не засушливость климата в степных зонах, лес давным-давно бы «съел» степи. Мы знаем, что лес носит свой климат с собою – аккумулируя осадки, выкачивая мощной корневой системой воду недр, затеняя высокой и густой кроной почву от перегрева и испарений, деревья создают даже в самых засушливых областях вполне приемлемые для своей жизни условия. И если бы действительно в природе существовала экспансия лесов, они бы за десятки тысяч лет не оставили о степях и воспоминаний.
Не менее нелепо предположение и о степной экспансии. Даже в засушливых степях казахстанского Приишимья существуют значительные лесные массивы (о чем, кстати, сторонники гипотезы о климатическом факторе сдерживания распространения лесной растительности старательно забывают). И ни тот, ни иной биогеоценоз не покушается ни на территорию, ни на суверенитет другого.
Словом – степь органичное, полноценное и равноправное естественное образование, ничуть не менее необходимое Природе, чем лес. Нет у нее комплекса неполноценности, а поэтому и экспансионистских планов она не лелеет.
Вот зачем она необходима Природе, сказать трудно. Разве для того, чтобы приучить человека в поте лица добывать хлеб свой, да дать ему надежного и трудолюбивого помощника – лошадь? Но это слишком уж «антропное» предположение похоже на уверенность ребенка, что бабушка существует для того, чтобы приносить ему конфеты.
Не ясно и само происхождение степей. Американские экологи, например, склонны считать, что «исходные прерии Огайо, Индианы и Иллинойса были «пирогенными климаксами» (Одум Ю. Основы экологии. М., 1975, с. 473.), т. е. возникли в результате постоянных пожаров, которые не давали возможности расти деревьям и кустарникам и позволяли жить ежегодно возобновляющимся травам. Но пожары в естественных условиях чрезвычайно редки, а индейцы, до прихода белых на американский континент, оказывали на природу прерий слишком незначительное антропогенное влияние. Выжечь подчистую обширнейшие степные пространства они попросту не могли. Да и делать им это было ни к чему: не дети же, что балуются со спичками на сеновале, не понимая, чем это грозит. А индейцам в прериях пожары грозили прежде всего голодом – если не уничтожая, то уже во всяком случае отгоняя на сотни и сотни километров бизонов и других животных – основной источник питания индейцев. Ну, а кроме того, евроазиатские степи, южноамериканская пампа и другие виды существуют без всяких пожаров и прочих случайных причин.
Более стройна и строга концепция влияния мощных климатических факторов на образование степных зон. Она учитывает влияние на климат множества значительных постоянных природных явлений: устойчивых центров высокого и низкого атмосферного давления и связанных с ними направлений господствующих ветров, уровня солнечной радиации и ее длительности, градиента континентально-сти – удаленности от влажной теплоты океанических вод и других геофизических причин. Однако и эта концепция объясняет скорее факт разделения степного единства на отдельные экосистемы и биогеоценозы, чем проясняет вопрос возникновения степей в природе.
Удивительно и замечательно то, что где бы, на каком бы континенте ни находились степи – в Австралии или Евразии, в Африке или Америке, – все они схожи и по ландшафту, и по стандартному набору составляющих экосистемы – луговых, настоящих, засушливых и сухих степей, и даже, при всем различии видов трав на разных континентах, растительность так поразительно схожа, что, пожалуй, тувинец вполне может почувствовать себя как дома в пампе, а индеец в австралийском даунленде.
Луговая степь, описание которой мы уже приводили, с точки зрения специалистов по степям, вовсе не является настоящей степью. Впрочем и то, что они именуют настоящей, по их мнению, тоже еще не настоящая степь: уж очень много еще, считают они, встречается в ней мезофитов – растений, любящих умеренную влажность. Только при виде засушливых степей душа фанатично влюбленного в степи специалиста приходит в неистовый восторг.
Засушливая степь «характеризуется заметным уменьшением доли участия в степном травостое влаголюбивого разнотравья. Оно образует фон лишь ранней весной в апреле-мае, пользуясь тем достатком влаги, который оставила после себя прослезившаяся зима. В эти дни засушливая степь еще может тягаться по красочности с луговой и настоящей. Она усеяна цветами прострела, ирисов, оносмы, ветреницы, адониса. Чуть позднее цветут шалфей, зопник, вероника и ряд других представителей разнотравья. Однако уже в середине июля они полностью уступают степную сцену ксерофитным дерновинным злакам. Их количество в составе травостоя по сравнению с настоящими, а тем более с луговыми степями возрастает в несколько раз. Важные позиции в засушливой степи занимают украинский ковыль на Восточно-Европейской равнине, ковыль Коржинского и тырса в азиатской части континента. С ковылями соперничают типчак и тонконог. Появляется ксерофильное разнотравье из сложноцветных и маревых. Особенно настойчиво укореняются полыни, грудницы, лапчатки, обладающие глубоко проникающей корневой системой с мощным утолщенным центральным стержнем. Он играет, с одной стороны, роль мощного насоса для подъема влаги с больших глубин, а с другой – сам способен удерживать большие количества дефицитной влаги в своих тканях» (Мордкович В. Г. Цит. соч., с. 34.).
Чем дальше от влажного дыхания леса, океана и морей, чем суше становится климат и почва, тем беднее видовой состав растительности, да и сами травы все реже и реже заполняют пространства земли. Вот засушливую сменяет сухая степь, где нет уже места влаголюбивым мезофитам лугов, да и засухоустойчивые ксерофитные злаки угнетены, прижаты сухим палящим зноем к почве: так им легче сохранить драгоценную влагу. «Характерный элемент растительного покрова сухих степей – так называемое седое распластанное разнотравье. Листья этих растений образуют широкую розетку, тесно прижатую к земле. Бесстебельная лапчатка, холодная полынь, гвоздички, степные вероники, кермеки покрыты густым мехом пушистых волосков, защищающих листья от излишнего испарения дефицитной влаги. Ковыли, гордо развевающие серебристые султаны в засушливых степях, здесь сокращаются до низкорослых ковылков, жмутся к земле и типчаки с тонконогами. В противовес лесу, лугам, даже засушливым степям, где каждый миллиметр почвы ценится на вес жизни, где стоит чуть замешкаться одному растению, как его место займет другое – не зевай! – в сухих, а особенно опустынепиых степях свободной жилплощади более чем достаточно. Столетиями растут отдельными островками на одном и том же месте травы, имея вокруг себя голую, не заселенную никем и ничем, землю. До половины, а в опустьшенной степи и до двух третей земли не занято. Селись, не хочу! Не хотят. Не могут. Тут не до экспансии – лишь бы выжить самим, подготовить под собой почву для потомков. И сделать это надо в кратчайшее время.
Как-то ехал один из нас по казахстанской степи в конце апреля. Впрочем, «ехал» не то слово – наш вездеход буквально плыл прямо по степи среди необозримых просторов, сплошь залитых водою «прослезившейся зимы» (Мордкович В. Г. Цит. соч., с. 35.).
Воды было немного, всего-то на добрую пядь, но разлившись по ровной, как пол, степной поверхности, она создавала впечатление неоглядного, на сотни километров протянувшегося во все стороны спокойного и глубокого озера. Даже тундра с ее избыточной влагой весеннего половодья выглядит куда жизненнее: там хоть холмы и увалы вздымаются над водою, выглядывает кружево веток карликовых березок, по взгоркам шныряют лемминги, песцы, куропатки, а то и полярная сова торчит неподвижным, но вполне живым кульком. Здесь же наблюдалась полнейшая безжизненность, только косые волны в кильватере нашего вездехода расходились широко в стороны, нарушая зеркальную гладь.
Так и осталась бы в памяти степь как безжизненная пустыня, если бы в тот раз не довелось вернуться по той же дороге недели через две. Это было совсем новое, незнакомое место: в удивительно прозрачном воздухе во весь окоем расстилался нежно-изумрудный пышный ковер. Высоко в небе медленно, лениво кружила большая птица – коршун, а может быть, беркут, издалека без бинокля не разберешь. А на большом, диаметром метров в двадцать, приплюснутом пригорке, возведенном сотнями поколений сурков среди плоской степной поверхности, столбом возвышался толстый страж, зорко посматривая и в округе и в небо. Чуть появится опасность – резкий свист оповестит все население сурчиной большой колонии: «Прячься!», и сам страж с поразительным проворством нырнет в нору. Тот, кого тревожный сигнал застает далеко от норы (хотя ни сурки, ни суслики далеко от нор своих в общем-то не отходят), мгновенно распластывается на земле и замирает: даже зорчайшим глазам орла не различить на бурой почве бурую шкурку вжавшегося в землю зверька. А если к норам приближается лиса или корсак, сурки, суслики да и другие грызуны-норники, спешно затыкают основные ходы земляными пробками. Побродит-побродит лисичка, принюхиваясь, не несет ли из какого хода вкусным сурчиным духом, ничего не принюхает, а раскапывать наобум себе дороже станет, да и уйдет не солоно хлебавши в надежде где-нибудь застать врасплох свой обед.
Взмыл в воздух и завис, затрепетал, как подвешенная на резинке игрушечная птичка с крыльями на пружинках, степной жаворонок, залился нескончаемой однообразной и чарующей – так бы и слушал часами! – трелью. Мелкими перебежками, словно солдат под шквальным огнем противника, пригибаясь к земле, спешит по своим делам перепелка. А далеко-далеко, у самого края земли, будто паря над низкими травами, бежит на длинных и сильных ногах дрофа.
Окунувшись в этот полный жизни и движений мир, как-то забываешь, что это сухая степь. Но пройдет еще две недели, и она напомнит сама, что совсем недаром носит это имя.
Под палящим зноем, без капли дождя, выцветет, порыжеет некогда роскошный ковер, грызуны будут выходить питаться только ранним утром да в вечерних сумерках, когда спадет жара, остальное время они проводят в прохладных глубоких норах. Даже мелкие птицы – жаворонки, перепелки и другие на день скрываются в сурчиных и сусликовых норах. Раскаленной, безжизненной, пустынной кажется сухая степь в начале и середине лета.
Только тут начинаешь понимать, почему восточная поэзия столь восторженно воспевает весну. В умеренных широтах, в лесной полосе весна не самое лучшее время года – только преддверие, довольно грязное и холодное преддверие к красочному буйству лета, к теплым, пронизанным мягким солнцем долгим безмятежным дням. И уж настоящая необузданность радостных красок наступает осенью. Недаром Пушкин больше всего любил «в багрец и золото одетые леса», недаром в русской поэзии осенние мотивы преобладают над весенними.
Здесь же весна – единственное красочное время года. И не восхищаться им, не воспевать его просто невозможно. Слишком коротко, а значит, слишком дорого сердцу оно.
К немалому удивлению, в двух шагах от настоящих пустынь, в опустыненной степи, где редкие кустики низких ковылков, типчака, змеевки, ароматных полыней отстоят далеко-далеко друг от друга, где полупустынные кустарники – караганы и спиреи запускают свои корни на многометровую глубину, чтобы добраться до влажного слоя грунта, где обширные солончаки блестят на яростном солнце и только биюргуны, солянки да мощный злак чий осмеливаются поселиться в засоленной земле, в самый разгар лета, в июле – августе начинают зеленеть, цвести, плодоносить эти отважные растения. Отважные. Постоишь минутку с непокрытой головою среди дня – и хорошо, если отделаешься обмороком. Солнечный луч словно лазерный, кажется, так и сверлит макушку. А они в этом пекле целыми днями стоят и укрыться им нечем. Но некогда им падать в обморок – надо жить и делать жизнь. Всего месяц – полтора из целого длинного года отпущено им, чтобы и сами пожили всласть, и дали начало новой жизни.
И они не только сами наслаждаются жизнью, не только продолжают свой род в веках, но и кормят бесчисленное множество животных: от мельчайших жучков-червячков, перерабатывающих и отмершие и живые их листья и корни, до грызунов, птиц (что здесь предпочитают питаться не насекомыми, а более богатыми влагой травами), сайгаков и джейранов, большими стадами и маленькими группами кочующих по степным просторам.
Животные тоже не остаются в долгу: переработанная ими органическая масса, так же как и в лесу, поступает на дальнейшую обработку простейшим, грибам, актиномицетам и бактериям, минерализуется и попадает снова в виде готовых питательных солей к столу растений. Это-то накопленное за десять-одиннадцать месяцев богатство питательных смесей и позволяет травам и кустарникам сухих и опустыненных степей справиться со своей миссией по поддержанию и продлению жизни за столь краткий период. Некому здесь позариться, некому посягнуть на эти богатства: дерновина от дерновины каждого злака отстоит достаточно далеко, а дождей, что обычно вымывают минеральные соли, здесь тоже нет. Может быть, потому так и любят свои степи эти растения, может, потому и ни за что не сменят их на более (с нашей точки зрения) подходящие условия.
Может показаться странным утверждение, что сайгаки и джейраны, поедая побеги и так-то бедной растительности, помогают ей жить. Никакого противоречия здесь нет. Вспомните огороженный от копытных участок сухой степи в Аскании Нова и его гибель от того, что растения сами себя задушили отмирающей массой своих собственных листьев и стеблей, и вам станет ясно, что все животные биоценоза необходимы для его успешного существования. Даже саранча. В оптимальных, конечно, количествах.
Кипит, кишит жизнью и сухая и опустыненная степь. Никакие экстремальные условия не в силах противостоять ей. Напротив, жизнь противостоит им, использует любые условия для своего развития и самоутверждения. К жаре, к сухости воздуха и почвы приспособились не только растения, ковыль например. Его листья имеют гладкую нижнюю поверхность, а верхняя испещрена бороздами или желобками. По бокам ребрышек, разделяющих борозды, располагаются устьица, улавливающие влагу, если она есть. Если же ее долго нет, листья сворачиваются по всей длине в трубочку так, что нижняя часть оказывается снаружи и гладкой своей поверхностью отталкивает жар солнечных лучей. А устьица оказываются внутри своеобразной замкнутой камеры, где скапливается влажный воздух. На это время снижается и интенсивность фотосинтеза растения, его роста и развития, чтобы не истощить и без того мизерные запасы влаги. А как только появилась хотя бы росинка, вновь развернется лист во всю свою ширь.
Вот и животные, в основном насекомые, также приспособили свои организмы к существованию, жизни и деятельности на раскаленной как сквородка земле. Жуки натянули на себя несколько хитиновых одежек (как туркмены и узбеки – ватные халаты, как казахи – бараньи шубы) в защиту от солнечного жара. Многие насекомые, те, что по роду своей службы обязаны находиться на поверхности, запасаются вроде верблюдов жировыми отложениями, которые, в случае нужды, организм путем метаболизма превращает в необходимую ему воду. Вот и попробуй донять таких хоть яростным зноем, хоть жуткой засухой – ничем их не проймешь!
В кругу специалистов степная растительность, степи вообще получили название «леса вверх ногами». Основанием этому послужил тот факт, что травы степей имеют гораздо большую растительную массу под землей в виде широко раскинутых, разветвившихся и глубоко проникающих корней, чем листьевую под поверхностью почвы. Если в луговых и настоящих степях соотношение поверхностной фито-массы к подземной равно 1:10–15, то в засушливых и сухих степях подземная часть больше надпочвенной в 40–50 раз. В лесах, как мы знаем, наоборот, корневая система меньше надземной в десятки раз.
Но не только растительность, но и поведение животных, особенно крупных млекопитающих, в степях по сравнению с лесом резко различается.
Лесные животные – сплошь индивидуалисты. Наиболее крупная социальная формация (конечно, не считая муравьев и пчел) – волчья семья, которую точнее было бы назвать прайдом, поскольку у волков так же, как у львов, семья, в отличие от большинства семей других крупных млекопитающих и птиц, состоит из разновозрастных детенышей и одного-двух близкородственных к супругам взрослых особей. Даже копытные лесной зоны – индивидуалисты, даром что они иногда собираются в группы, а грызуны разве что способны, как бобры в одном водоеме, сосуществовать, но и только. Живут же они каждый в своей хатке или норе, исповедуя принцип: «мой дом – моя крепость».
Не то в степи. Колонии сусликов и сурков организованы в настоящие сообщества. Достаточно демократичные, с отдельными жилищами, но все же неразрывно связанные общностью защиты своих интересов и взаимопомощью. В какой-то мере эти колонии живут по правилам дореволюционной российской деревни, когда каждый бился с нуждой на свой страх и риск, но беда объединяла всех. И уж совсем крупные коллективы представляют собой стада сайгаков.
Открытые пространства вообще предрасполагают к организации животных в крупные сообщества. Что сайгаки в степях, что бизоны в прериях, что антилопы в саваннах, архары на горных альпийских лугах или рыбы в реках, морях, океанах, – все они сбиваются в стада или стаи. Потому что, в отличие от леса, где каждый может спрятаться за дерево или в густом кустарнике и траве, в открытых взору пространствах степей или вод укрыться единичной особи от опасности практически невозможно. Потому-то и жмутся животные, особенно далеко заметные, крупные, друг к другу. Причем опасность грозит не всегда и не только со стороны хищников. Не менее тревожно себя чувствует одиночное животное и в экстремальных условиях климата и стихийных сил природы.
Копытные, как, впрочем, и большинство других животных, не любят кормиться там, где уже поедена и смята трава, остался запах того, кто прошел раньше по этому месту. Поэтому стада на кормежке разбредаются довольно широко. Однако каждая особь обязательно держит в поле зрения своих ближайших соседей, причем соседи эти, как правило, связаны с этой особью узами взаимной симпатии, чтобы не сказать – дружбы. Даже в таком искусственном объединении животных, как стадо коров, где, казалось бы, нет места личным привязанностям, существуют такие узы. Разделив стадо на две части, можно увидеть, что какие-то коровы отнесутся безучастно к разъединению – значит, они попали в ту же половину, где находятся их ближайшие подружки, а иные будут во что бы то ни стало стремиться перебежать в другую половину. Что уж говорить о диких животных, которые имеют полную возможность выбирать себе общество по вкусу и склонностям.
В свою очередь эти компании – так называют группу связанных узами симпатии стадных животных – тяготеют к другим соседним компаниям, и эта-то взаимосвязь организует копытных в единое стадо, объединяющее иной раз 1000, а то и больше тех же сайгаков.
И от яростного зноя и от лютой стужи защищает стадо копытных открытых степных пространств. В калмыцких степях «уже в 8-10 часов овцы начинают собираться небольшими кучками, пряча головы в тени соседей. Позднее они образуют круглые скопления по 80-120 животных, головами к центру» (Баскин Л. М. Олени против волков. М., 1976, с. 87.). Так овцы защищают друг друга от зноя. Как показали специальные измерения, температура внутри таких скоплений на несколько градусов ниже, чем в окружающем воздухе. И наоборот, когда зимою в открытой всем ветрам степи задувает лютый морозный буран, сбившиеся в плотную массу животные согревают друг друга своими телами. Температура внутри такого объединившегося стада гораздо выше, чем снаружи. Постоянно перемещаясь с периферии к центру, отогреваясь там и снова попадая наружу, животные объединенными усилиями сохраняют жизнь каждому члену своего стада.
Как бы ни был тонок снежный покров степи, но и его довольно трудно раскопать, чтобы добраться до корма. Особенно ослабевшим или очень молодым животным. В стаде это проще – уже прорытая более сильным и здоровым товарищем ямка в снегу позволяет с большей легкостью разгрести дальше снег и найти нетронутую траву.
Оказалось, что даже от гнуса – слепней и оводов – защищает животных стадо: в середине его гнус беспокоит копытных гораздо реже, чем снаружи, и тот, кого слишком уж доняли кровососы, всегда может спрятаться, отдохнуть от невыносимо назойливого приставания.
Ну и, конечно же, стадо – отличная защита от нападения хищников. Психология одиночки, который «в поле не воин», заставляющая жертву быстро сдаться на «милость» победителя, сменяется в стаде чувством коллективной безопасности. Бизоны в американских прериях образуют круговую оборону: взрослые и сильные самцы и самки кольцом охватывают молодых и слабых, выставляя в сторону нападающих хищников рога. Попробуй, сунься! Сайгаки наших степей спасаются бегством и – тоже, попробуй, сунься в этот монолит, бешено дробящий копытами землю! Враз затопчут так, что и шкура вдавится в почву. А шкуру свою хищники берегут: новой уже не достанешь. Потому и не суются в стадо, ждут, когда ослабленное болезнью или старостью животное отстанет, выделится из этого монолита.