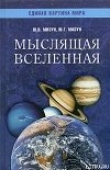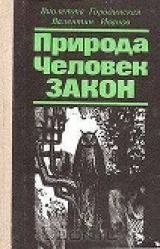
Текст книги "Природа. Человек. Закон"
Автор книги: Валентин Иванов
Соавторы: Виолетта Городинская
Жанры:
Обществознание
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 26 страниц)
Как видите, в организме биосферы, а равно и в нашем, стоит лишь нанести травму только одной ее составляющей – в данном случае подземным недрам, – как отзывается это буквально на всем. И нужно уже сегодня, уже сейчас думать о том, чтобы предотвратить эти изменения, чтобы не отозвались они на детях наших и детях наших детей.
Тем более, что некоторые наши вмешательства в равновесное состояние недр грозят опасностью не только биосферных изменений и опосредованно человеку, но и непосредственно людям, нашим с вами современникам и их детям.
Примером тому может служить недавно введенный в эксплуатацию Аксарайский газоперерабатывающий завод – первое, но отнюдь не последнее предприятие огромного Астраханского газоконденсатного комплекса.
Газовый конденсат – чрезвычайно заманчивое для современной технологии природное вещество. Специалисты утверждают, что им, без каких-либо промышленных переработок, можно сразу из недр заправлять автомобильные двигатели и машины будут бегать лучше, чем на бензине. Если это даже и преувеличение влюбленных в свое дело специалистов – известно, что влюбленные склонны преувеличивать достоинства своих возлюбленных! – то совсем небольшое и недалекое от истины. Во всяком случае из газоконденсата получить бензин значительно легче, чем из нефти, и качество его выше.
Как это водится, продолжением достоинств являются недостатки. Легкая воспламеняемость газоконденсата (почему ему и приписывают прямо-таки бензиновые свойства) создает и повышенную опасность взрыва. Причем, не бензобака, не цистерны и даже не газгольдера емкостью в сотню железнодорожных цистерн, а – в случае проседания или сдвига грунта – всего завода производительностью только одного бензина 800–900 тысяч тонн в год. К тому же рядом с этим заводом по плану должны быть выстроены еще два аналогичных.
Взрыв такой мощности – тяжелая катастрофа сама по себе. Но еще более тяжелыми станут последствия его – неминуемый выброс из скважин газоконденсата. Дело в том, что газоконденсат астраханского месторождения содержит в себе до 30 процентов сероводорода, газа, мгновенно парализующего все живое, и главное тяжелого, стелющегося по поверхности земли, и спасения от него не будет. Ученые установили, что даже и без катастрофы сероводород производит скрытые воздействия, приводящие к бесплодию людей и животных в радиусе до ста километров от источника газа.
Астрахань находится в 55 километрах от Аксарайского газоперерабатывающего завода…
В 1987 году от небольшой утечки газа в цехе мгновенно погибли трое рабочих.
И ведь достаточно самой небольшой подвижки грунта – а в Прикаспийской низменности это, по мнению геологов и геофизиков, обязательно должно произойти, чтобы тысячи из десятков тысяч переплетений труб сместились и лопнули, вслед за чем – неминуемый взрыв, и сероводород густым потоком поползет на беззащитную Астрахань, поселки, села, города, округи. Что станется с Волгой, с Каспием, со всем регионом, с людьми?
Участники проходившей в 1987 году региональной научно-практической конференции по проблемам комплексного освоения Астраханского газоконденсатного месторождения пришли к однозначному выводу: «В случае крупной аварии на газоконденсатном месторождении последствия от нее будут в несколько раз тяжелее(курсив наш. – Авт.), чем от аварии в Чернобыле (имеются в виду и человеческие жертвы, и денежные убытки, и масштабы и долго-временность отмертвления природы».
Мы привыкли с гордостью повторять слова, что нынче мощь геологической деятельности человека сравнима с планетарными геологическими масштабами (хотя зачем этим хвастаться, непонятно. Вон, один только Большой Барьерный риф у берегов Австралии, созданный жизнедеятельностью маленьких и слабых коралловых полипов, превышает все вместе взятые постройки человека на Земле. И они, не в пример человеческой деятельности, не наносят экологического ущерба организму биосферы. Напротив, защищают берега Австралии от размыва мощными океанскими волнами. И смеем думать, не кичатся этим). Но вот к каким нежелательным последствиям может привести – и приводит! – эта деятельность, не знаем. И самая главная беда – и знать не хотим. В массе своей обычно люди склонны пугать себя всяческими химерами, но, как только речь заходит о реальных опасностях, поджидающих их в недалеком будущем, слышать не хотят, отмахиваются: «И зачем только говорить про все эти ужасы? Что они грозят буквально повсюду и со всех сторон – этак и жить становится страшно!» Действительно, страшно. Но если закрывать от ужасов глаза, их, конечно, станет не видно, однако угроза-то от этого не исчезнет. Это ребенку простительно зажмуриться и вообразить, уверить себя, что опасность от этого исчезла навсегда – он еще слабенький и глупый. Зрелого же человека страх, опасность подвигает на сопротивление, противодействие, устранение той или иной угрозы или того, от чего она исходит. А для того чтобы устранить опасность, надо хотя бы на первый случай знать все, чем она может грозить.
И поскольку счет земли, литосферы к человеческой деятельности далеко еще не закончен, мы продолжим о нем рассказ.
На очереди в этом счете – гидротехнические преобразования природы человеком.
Запруживание реки плотиной влечет за собой нарушение режима поверхностных и грунтовых вод, – пишет в книге «Геология и человек» виднейший английский ученый, председатель Лондонского геологического общества, член Королевского общества содействия развитию естествознания (что можно приравнять к нашему званию академика), профессор Дж. Уотсон. – Вследствие этого начинают действовать процессы, направленные на восстановление природного равновесия. В связи с повышением базиса эрозии поднимается уровень грунтовых вод. В результате нагрузки на подстилающие породы, которую оказывают накопленные массы воды, речной аллювий может прийти в движение либо уплотниться, а вдоль новообразованной береговой линии будут действовать эрозионные процессы. В тех местах, где склоны речных долин неустойчивы, эти изменения могут вызвать массовые подвижки, иногда приводящие к катастрофическим последствиям» (Уотсон Дж. Геология и человек. М., 1986, с. 131–132.).
Водохранилища гидростанций вызывают не только эрозионные процессы в местах своего расположения и подвижку подстилающих их дно пластов литосферы, но и самые настоящие землетрясения со всеми вытекающими отсюда последствиями для находящихся в округе зданий и сооружений. Так, в 30-х годах была построена крупнейшая в те времена плотина Болдер-дам на реке Колорадо в США. Когда глубина водохранилища достигла 100-метровой отметки, начались сейсмические толчки, продолжавшиеся несколько лет, количество которых составило несколько тысяч. А четыре года спустя после заполнения его водою произошло в округе самое настоящее землетрясение силою в несколько баллов. На реке Уэд-Фодда в Алжире при заполнении водохранилища со 100-метровой плотиной подземные толчки были и вовсе величиною до 7 баллов. Довольно сильные толчки были вызваны и на реке Вахш в Таджикистане после сооружения Нурекского гидроузла.
Конечно, такие сильные землетрясения, вызываемые сооружением водохранилищ, сравнительно редки, чаще сейсмические толчки проходят почти незамеченными для людей. Но не для приборов и не для самой литосферы, возмущенной нарушившей ее равновесное состояние плотиной и миллиардами тонн воды, появившейся – по геологическим часам – в одно мгновенье на сравнительно небольшом и не подготовившемся к такой дополнительной нагрузке участке литосферы.
Но наиболее неблагоприятные воздействия на литосферу оказывает работа гидростанций, которые то срабатывают воду водохранилищ, то заполняют их ею вновь. Колеблется уровень воды, колеблется и нагрузка на дно и литосферные пласты, и такая вибрация нарушает и разрушает равновесное состояние недр, водоносных горизонтов и отзывается не только в ближайшей округе, но и на довольно далеком расстоянии – в десятки, а то и сотни километров от самого ложа водохранилища. Отзывается, понятно, не лучшим образом – где-то вследствие сдвига литосферных пластов водоносные горизонты оказываются перекрытыми – и перестают течь родники и иссыхают колодцы, а где-то из-за этого вода начинает проступать на поверхность и заболачивает все окрестности. И в том, и в другом случае это приносит не только дополнительные неудобства и затраты сил и средств людей, пытающихся достать ушедшую или, наоборот, отвести затопившую их воду, но и становится немалой бедой для экосистемы всего района затопления. Вода в этих случаях уходит (или прибывает) моментально не только в геологическом, но и экологическом исчислении. Растения, особенно долгожители, такие, как деревья, не успевают подготовиться к изменению режима грунтовых вод, которые они привычно потребляли до того. Уходит вода из-под корней, и лес начинает испытывать недостаток в воде, заболевает и сохнет. Ведь в одночасье – за год-два – корни на 10–20 метров не нарастишь. Поднялась вода на поверхность и корни, лишенные воздуха, отмирают, и леса гибнут. А гибель лесов наносит непоправимый удар по всей экосистеме данного района в целом: изменяется режим поверхностных стоков речных и дождевых вод, и поля и луга в округе скудеют, не стало деревьев – естественного места обитания и вывода потомства птиц и зверей, питающихся насекомыми и грызунами, и последние начинают привольно и усиленно размножаться, уничтожая и те тощие урожаи хлебов и овощей, которые все-таки, благодаря усиленному труду человека, выросли на обезвоженных или подтопленных полях и огородах.
Такие нежелательные последствия наступают при создании водохранилищ и связанных с их заполнением прогибах и подвижках литосферных пластов не только в лесной зоне, но и практически везде: в черноземных степях, лесостепи, в освоенных сельскохозяйственной деятельностью человека полупустынях, испытывающих недостаток влаги. И если последствия ухода грунтовых вод понятны в этом случае каждому, то последствия подтопления поверхностных слоев земли, почв до недавнего времени были неизвестны даже специалистам по орошению. Только создав в зонах черноземных степей и полупустынь водохранилища и каналы «века» для орошения сухих земель, поняли, убедились наконец – да и то далеко не все, к сожалению, – что любая экосистема не терпит грубого вмешательства в созданное тысячелетиями равновесие всех ее составляющих, не нуждается в беспардонном и невежественном – «улучшении» ее свойств. Что в конечном счете любое «улучшение» приводит к ухудшению этих свойств по тому самому принципу, который сформулировал свыше ста лет назад Фридрих Энгельс. И хотя его слова широко ныне известны, все же стоит привести их еще раз, поскольку, к глубочайшему сожалению, они так и не стали основой в деле обращения людей с природой:
«Не будем слишком обольщаться нашими победами над природой. За каждую такую победу она нам мстит. Каждая из этих побед имеет, правда, в первую очередь те последствия, на которые мы рассчитываем, но во вторую и в третью очереди – совсем другие, непредвиденные последствия, которые очень часто уничтожают значение первых».
Вот и в степях и полупустынях поначалу гремели фанфары и били литавры в честь закончившихся «строек века» – водохранилищ и каналов. Нынче впору играть похоронные марши на поминках той самой земли, которую «улучшили». Подтопленные черноземы в степях вдвое-втрое снизили урожайность, которая была до их улучшения. Почвы полупустынь, на которых худо-бедно кормилось и выращивалось многомиллионное стадо овец, начали превращаться в солончаки и безжизненные такыры, на которых даже неприхотливый верблюд не находит себе корма. Ибо, пройдя через грунт, вода, подтопляющая почвы, становится насыщенной растворенными ею минеральными солями, а интенсивное испарение при известной жаре и сухости в зонах сухих степей и полупустынь, выбирая пары этой воды, оставляет соли на поверхности почвы.
Так улучшение превращается в ухудшение, и самое печальное – в ухудшение необратимое. Даже если осушить сейчас все водохранилища и каналы, которые уже изъяли десятки тысяч гектаров плодородных земель из сельскохозяйственного оборота и продолжают с каждым годом изымать все больше и больше этих драгоценных гектаров, их уже к жизни не вернешь. Точнее, вернуть-то можно, но потребуется столько сил и средств, что они поистине станут золотыми. Но пока что осушать водохранилища и каналы никто не собирается. Наоборот, строят все новые, без серьезного учета приобретенного уже печального опыта…
И нашим детям придется затратить еще больше средств и сил, чтобы оживить загубленную благими намерениями «улучшить природу» землю. Придется – у них не будет иного выхода. Только на последние 25 лет количество пахотных земель в расчете на каждого жителя нашей страны уменьшилось на 22 процента. Это – по официальным данным. Если же учесть, что в сводках, отправляемых в ЦСУ, районы указывают в числе пахотных и те, что ныне заболочены или засолены в результате «улучшения» – указывают, кстати, потому, что иначе районным руководителям голов не сносить за сокращение пахотного клина, – так вот, если это учесть, то истинное сокращение пахотных земель страны, по-видимому, приблизится к 30 процентам. И процесс этот неминуемо будет продолжаться, сокращение пахотных земель в расчете на душу населения будет нарастать лавинообразно. И из-за роста численности самого населения – за те же 25 лет количество жителей страны увеличилось примерно на 60 миллионов человек, и каждый из них родился, пусть не с серебряной, а из нержавейки, но с ложкой. В ближайшие десятилетия ожидается еще более интенсивный прирост населения. А гектары пашни отнюдь не увеличиваются. Напротив, сокращаются. В том числе не только за счет прямого затопления ими сотен тысяч гектаров пойменных и пахотных земель.
Когда-то нам приходилось читать горделивое заявление что если вытянуть в одну цепочку все сооруженные в нашей стране крупные водохранилища, то этой цепью можно опоясать земной шар по экватору. Более 40 тысяч, значит, километров занимают водохранилища в длину. И каждый из этих километров отнимает у земли тысячи гектаров. В том числе – пахотных. И, без всякого сомнения, поименных-самых, что ни на есть плодородных и для овощей и для фруктов, и для кормовых трав, без которых домашний скот не нагуляет мяса для наших ложек.
А водохранилища продолжают строить и заполнять. И отторгать ценные земли сельскохозяйственных угодий.
«Став свидетелями «рукотворного чуда века» – Чебоксарского водохранилища, не успев осмыслить его ценности, хлеборобы региона уже превратились в жертву прогресса, поглотившего, кроме проточной свежести крупных рек, множество меньших по величине, но важных в экологическом равновесии притоков, а также сотни тысяч гектаров поименных угодий, служивших основной естественной базой для сельскохозяйственного развития региона… На тысячи голов уменьшилось поголовье коров в личных хозяйствах только за первые три года с начала создания водохранилища. Последняя очередь его заполнения обрекает на потерю еще 15 тысяч гектаров. На очереди, следовательно, и новое сокращение скота на три-четыре тысячи голов в личных хозяйствах, и новая проблема в производстве кормов для совхозов и колхозов, потери многих тысяч литров молока, тонн мяса, сырья для кожевенной промышленности, зерна, овощей, фруктов и ягод» (Советская Россия, 1988, 9 июля).
А количество рождающихся и живущих тем временем увеличивается. И все с ложками. И ложки эти надо чем-то наполнить. Чем, если не на чем выращивать продукты питания? Увеличением урожайности на оставшихся пока еще не тронутыми «улучшениями» и «преобразованиями века» полях и лугах? Но для того чтобы увеличить урожайность хотя бы только на 10 процентов, необходимо, по подсчетам специалистов, вдвое от исходных, сегодняшних затрат, истратить больше человеческих сил, средств, энергии – и то это удастся (если удастся!) не сразу, а через несколько лет. И только для того, чтобы восполнить – о прибавке не идет и речи! – потерянное на ста тысячах затопленных гектарах, необходимо поднять урожайность на 10 процентов уже на миллионе гектаров.
А население увеличивается, число едоков прибавляется год от году. А где они, десятипроцентные увеличения урожаев? И если сегодня, когда на каждого едока приходится по 0,7 с какими-то сотками гектара пашни, мы не имеем достатка в продуктах питания, то что будет в ближайшем будущем, когда на того же едока останется 0,5, а то и 0,3 гектара – в связи с ростом населения страны со скоростью более 3-х миллионов человек в год(!) и сокращением пахотных земель и лугов, в том числе высокопродуктивных, пойменных?
К тому же всей энергии Чебоксарской ГЭС не хватит для того, чтобы покрыть энергопотребление сельскохозяйственного производства, которое оно должно затратить только на восполнение продуктивности затопленных, загубленных этой ГЭС земель. Если брать в энергетическом эквиваленте, то каждый гектар сельскохозяйственных угодий сегодня дает минимум 10 000 киловатт в год. Это чистый прибыток энергии, взятый с вычетом всех энергозатрат производства. Сто тысяч гектаров, значит, дают продукцию, эквивалентную выраббтке миллиарда киловатт в год. Причем коэффициент полезного действия этой энергии – 100 процентов, тогда как КПД электроэнергии где-то около 38, почти в три раза меньше. Да и ценность энергии, заключенной в пищевых продуктах, в десятки раз выше, чем электрической. Словом, даже одни только экономические соображения, не считая полупустой и все более пустеющей ложки, и те должны бы были восставать против сооружений гидростанций, отторгающих драгоценные земли. Любые: и пахотные, и пойменные, и лесные. Ибо лес – тот основной фонд жизни людей, который нельзя будет трогать даже для увеличения пахотного клина, даже в случае крайней нужды в продуктах питания. Иначе мы вовсе останемся без кислорода – основы, как мы знаем, жизни всего живущего на земле. Вон, в США уже промышленность и транспорт пожирают кислорода больше, чем его успевает вырабатывать вся растительность страны, и живут за счет пока еще сохранившихся лесов Южной Америки и Канады. Да и нашей Сибири и Русского Севера – тоже. Но мы стремимся ведь догнать США по промышленному и транспортному потенциалу. И даже перегнать. А это значит – и наши, те, которые хотя бы остались на сегодняшний день, леса, могут не справиться с восполнением дефицита кислорода. А тропические леса Южной Америки – основные легкие биосферы – в настоящее время сводятся со скоростью 20 гектаров в минуту или по 1 проценту всего их древостоя в год. Менее чем через век, стало быть, на их месте останется только голая лысина. Ибо, не в пример лесам умеренного пояса, тропические леса на оголенных от деревьев больших площадях практически не самовозобновляются. Да и посадки их сопряжены с такими затратами и трудностями, что овчинка выделки не стоит. Ибо вечнозеленые деревья тропиков почти не дают опада листьев, гумуса, значит, не накапливается, а латеритные почвы слишком бедны для того, чтобы создать благоприятные условия для нежных ростков и саженцев. Тем более, что не защищенные уже кронами деревьев почвы эти раскаляются тропическим солнцем так, что семена становятся скорее печеными, чем проросшими. Так что, если нам не удастся устыдить «проклятых капиталистов» и заставить их не вырубать южноамериканскую сельву, то надежда останется на одни наши, считай, леса. И если массовые вырубки еще оставляют надежду на то, что лес когда-нибудь, хоть через полвека, но вырастет и продолжит свою животворящую деятельность, то те лесные площади, что затоплены водохранилищами или раскорчеваны да распаханы, считай, на веки вечные изъяты у мировых лесов. Больше изымать нечего.
А пахотный клин на каждого едока становится все меньше и меньше. Сегодня водохранилища уже отняли у сельского хозяйства 3 млн. гектаров только пойменных земель, тех, что худо-бедно, при самых минимальных урожаях, могли бы дать 60 млн. тонн овощей и накормить ими до отвала ежегодно все сегодняшнее население страны.
А в намеченных планах – сооружение па реках страны еще 200 гидростанций с обширными водохранилищами при них…
Придется, видимо, нашим внукам переходить на электропитание. Будут бегать эдакие шустрые людишки на собственных аккумуляторах, изредка заскакивая в предприятия общепита – столовые, а кому по карману, и в рестораны, где на столах вместо тарелок – электророзетки. Включил, подзарядился, расплатился за обед и побежал дальше строить электростанции…
Но не только водохранилища энергетиков портят и пожирают землю. В этом им усиленно помогают и сооружения мелиораторов, призванных «улучшать и преобразовывать» природу. Проектировщики и руководители мелиоративных работ в стране – люди, несомненно, гениальные. Только гениям под силу устроить засуху в болотах Белорусского Полесья и переувлажнение земель в пустынях Средней Азии!
«Землепользователи обязаны проводить эффективные меры по повышению плодородия почв, осуществлять комплекс организационно-хозяйственных, агротехнических, лесомелиоративных и гидротехнических мероприятий по предотвращению ветровой и водной эрозии почв, не допускать засоления, заболачивания, загрязнения земель, зарастания их сорняками, а также других процессов, ухудшающих состояние почв»(Основы земельного законодательства Союза ССР и союзных республик», ст. 13).
Судите сами, ни одному дюжинному уму не придет идея проводить оросительные каналы в зоне песков прямо по грунту. Дюжинный ум сразу бы вспомнил широко распространенное выражение: «уходит как вода в песок» и принял бы соответствующие меры, чем-то изолировал бы этот песок от уходящей в нее драгоценной в среднеазиатских условиях воды. Не таков гений. Для него, как известно, общепринятых мнений не существует. Напротив, на то он и гений, чтобы не принять во внимание, опровергнуть широко распространенное заблуждение.
В данном случае, что вода, якобы, уходит в песок. И опровергает. Блистательно. Не на словах, как это сделал бы дюжинный человек, и не в какой-нибудь детской песочнице во дворе, а с поистине гениальным размахом. В пустыне Кара-Кум, в бассейнах рек Аму– и Сырдарьи, истратив миллиарды рублей и труд десятков тысяч человек, наш гений прорыл прямо в незащищенных грунтах тысячи километров оросительных каналов и – впервые в мире! – блистательно доказал, что не вся вода в песке исчезает бесследно! В землю впитывается никак не больше 70 процентов пущенной по каналам воды, а остальные 30 процентов, не успевая впитаться, проскакивают куда нужно – к посевам. Это ли не достижение гениальной мысли? Это ли не яркое доказательство гениального предвидения? Это ли не гигантские успехи современной науки и техники?
Ну и что из того, что в зоне Каракумского канала сотни тысяч гектаров ценнейших земель оказались подтопленными и засоленными? Ну и что из того, что, изъяв на подтопление и засоление земель большую часть вод Аму– и Сырдарьи, лишили Аральское море притока их вод и обрекли море на гибель? Тем больше чести и всемирной славы нашему гению! Попробуйте-ка вот вы, дюжинный человек, стереть – не с географической карты – с лица самой Земли целое море. Нипочем вам не удастся, даже и не пытайтесь. А наш гений запросто это сделал и даже не поморщился. И даже произнес приличествующую такому великому событию фразу, которая позволит не только отдать дань восхищения гению нам, его современникам, но увековечит его имя в веках.
Ибо увековечивают имя гения вовсе не его дела, а именно звонкая и броская фраза. Ну разве упомнишь, что такого сделал Наполеон? Ну воевал где-то там с кем-то, потом напал на Россию и бесславно бежал из нее с отмороженными ушами. И это мы знаем лишь потому, что это касается нашей истории. Часто ли мы о нем вспоминаем, даже в связи с Отечественной войной 1812 года, не то что там с какими-то еще его войнами? Разве что в очередную годовщину, точнее, круглый юбилей, округляемый с точностью плюс-минус четверть века. Значит, раз в 25 лет. Но зато гораздо чаще говорим: «Как сказал Наполеон, от великого до смешного один шаг!» Или взять Людовика номер какой-то там. И номер-то его порядковый в памяти стерся, не то что дела. А ведь помним же: «После меня хоть потоп!» и помнить будет человечество, пока живо.
Надеемся, что и великая фраза, достойная и Людовика номер какой-то и того восточного сатрапа, который отдал приказ высечь море кнутами, фраза, которую произнес наш гений номер первый, а вместе с нею и его имя так же будут запечатлены в памяти са>шх отдаленных потомков. Мы нарочно оставили ее напоследок, чтобы она как следует врезалась в вашу память и вы смогли передать ее не только внукам, но и правнукам. Вот она: «Пусть гибнет Арал!» И сказал ее не кто иной, как сам – сам! – первый заместитель министра мелиорации и водного хозяйства СССР (сегодня уже бывший замминистра) П. А. Поладзаде.
И знаете, Арал гибнет.
В том-то и отличие нашего доморощенного гения от всяких там сатрапов и Людовиков, что его слово выражает дело. Ну, высекли море кнутами и что из того – оно даже и не почесалось от этой экзекуции. Ну, сказал Людовик номер какой-то звонкую фразу. А где потоп, им обещанный? Нету потопа.
А тут – не только сказано, но и сделано. Вот, что ценно и величественно.
«Рыбы в нем больше нет. Соленость не то зеленой, не то сине-зеленой по цвету воды увеличилась в два с половиной раза. Глубина снизилась на 13 метров, а берега ушли от прежней черты на 70–80 километров. Оголившееся дно, а это почти два миллиона гектаров, превратилось в пустыню. По предварительным оценкам, с пустынного дна Арала в атмосферу поднимается ежегодно до 70 миллионов тонн соляной пыли. Она оседает, оставляя на каждом гектаре Приаралья соляный след весом в полтонны… Катастрофа на Арале угрожает здоровью, жизни почти трех миллионов людей, расселившихся у моря» (Московские новости, 1988, 16 окт.).
Из-за засоленности гибнут ценнейшие земли Хорезмского оазиса, в течение тысячелетий щедро питавшие миллионы людей своими поистине роскошными урожаями самых всевозможных сельскохозяйственных культур. Все, что нужно человеку, давала земля древнего Хорезма. А сейчас гибнет. И не только от засоления, от экологической катастрофы, приключившейся с Аралом.
Все дело в том, что до сих пор Аральское море являлось естественным конденсатором вод, прибывающих вместе со стоками Аму– и Сырдарьи. Как любой конденсатор море не только накапливало речную воду, но и, испаряя ее со всего обширнейшего зеркала, поддерживало в горячих среднеазиатских широтах определенную влажность, выпадающую и в виде дождей и в виде рос и обязательно впитываемую растениями и руслами тех же, текущих в Арал, рек. Сейчас жара-то осталась прежняя, но вот влажность в связи с огромным – на 25 тысяч квадратных километров! – сокращением зеркала моря – сократилась настолько значительно, что судьба растительности Хорезмского оазиса, да и всего Приаралья в целом стоит перед серьезнейшей угрозой. Дело в том, что высшие растения и животные чрезвычайно сильно зависят от влажности воздуха. Понижение уровня влажности ниже 25 процентов представляет для них смертельную опасность. А в жарком климате – тем более. Словом, в результате орошения регион гибнет от засухи!
Вот во что обходится гениальное экологическое невежество.
По-видимому, испугавшись, что вышеприведенная великая фраза не продержится в веках, ибо если и дальше пойдет таким чередом, то уже через десяток-другой лет, услышав ее, люди будут наивно спрашивать: «А что такое Арал?», – поскольку от моря и помину не останется, решили поправить дело – спасти Аральское море за счет «проекта века», переброски вод северных рек, в частности Оби, к Аралу. Задача решается предельно просто, прямо по Малинину и Буренину, составившим еще дореволюционный задачник по арифметике для младших классов: «Из бассейна А вытекает, в бассейн В втекает». Нужно только от бассейна нижней Оби провести канал длиною в 2400 километров, ценою в 28 млрд. рублей – полное обустройство его и прилегающих к нему земель обойдется в 90 миллиардов – и подвести его к бассейну впадающих в Арал рек, по которым и понесется северная вода в количестве более чем 27 млрд. кубических метров ежегодно на спасение моря.
Нам это обойдется в общем-то недорого, примерно но 300 рублей с каждого носа – от только что заявившего о себе криком в родильном доме до почтенного старца, еще и еще раз сокрушенно пересчитывающего накопленные за всю жизнь денежки: на похороны, пожалуй, не хватит. И Оби небольшое кровопускание не помешает – ишь, раздулась до того, что в ее губу океанские пароходы запросто приходят. И канал пройдет, как говорят «проектанты века», по целине – пи одного города не прядется сносить, что, конечно, для них печально: как бы величественно прозвучала фраза: «Да погибнет Томск!», или еще какой-нибудь город, скажем, Новосибирск. Людовики всех порядковых номеров перевернулись бы в гробах от зависти! Ну, а интересы ненцев, ханты и прочих мансийцев всегда можно ублаготворить обещаниями «в обозримом будущем» создать им посредством строительства канала райскую жизнь.
Словом, серьезных протестов против переброски северных вод как будто бы не наблюдается. А что там говорят и пишут всякие писатели да академики – не в счет. Они ведь не специалисты-мелиораторы-водохозяйственники. Все специалисты – в Минводхозе СССР. И все – за.
И мы тоже были бы за переброску северных вод, даром что считаем, что без самой крайней необходимости человеку не следует ни в коем случае нарушать установившееся за десятки и сотни тысяч лет равновесие биосферных процессов. Но уж коли есть необходимость в спасении Арала и Приаралья, трех миллионов живущих в непосредственной близости от бывших берегов бывшего моря людей да 34 миллионов населяющих весь регион, о чем может быть речь? Мы и новорожденному младенцу сунем в рот вместо бутылочки с молоком пустышку и почтенного старца похороним, скинувшись по рублику всем многоэтажным домом или деревней, – не привыкать жертвовать при необходимости.
А есть ли эта необходимость?
По подсчетам специалистов, только в одном Узбекистане в руслах каналов теряется 20 млрд. кубических метров воды. Всего же, по всему региону, потери воды составляют, по подсчетам Минводхоза СССР, 37, а по подсчетам независимых специалистов, 49 млрд. кубометров воды. Даже если взять наинизшую из этих цифр, и то она почти в полтора раза превосходит тот объем, что собираются перебрасывать по «проекту века». Причем потери это – не просто убыль воды, которую хоть и жалко, но что ж поделаешь, коли выпала планида такая, приходится терять. Эти потери идут на подтопление и засоление – зачастую безвозвратную гибель ценнейших земель.