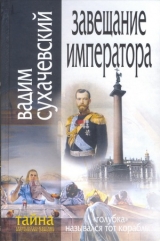
Текст книги "Завещание Императора"
Автор книги: Вадим Сухачевский
Жанр:
Альтернативная история
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 19 страниц)
Глава 11
Бесы
…Но куда, куда он несет меня?! Что надо мной хотят сотворить?..
…Оказывается, это не смерть, а жизнь входит в него кружением, как вода в воронку. И сразу – всепоглощающая боль в голове: только живое способно так болеть…
…Фон Штраубе, преодолевая эту муку, открыл глаза. Голова разламывалась и была словно чужая. Он лежал вниз лицом на грязном дощатом полу, к губам прилип какой-то мусор, но он не мог найти в себе сил хотя бы повернуться на бок, чтобы не вдыхать эту грязь. Все-таки пошевелившись, он понял, что вдобавок руки у него связаны за спиной и ноги тоже скручены какими-то путами.
Наконец собрался таки и, превозмогая боль, – кажется, даже застонал, – перевернулся всем телом.
Это была какая-то неопрятная кухня, слабо освещавшаяся керосиновой коптилкой с разбитым стеклом. На веревке, прямо над ним, висело белье, грозя вот-вот капнуть ему на нос. Тошнотворно пахло объедками и поганым ведром.
У лампы на табурете восседала коротко постриженная женщина довольно мужеподобного вида и, дымя папиросой, – пепел она, вместо пепельницы, стряхивала в полную уже окурков железную банку от монпансье, – с равнодушием наблюдала за его потугами принять сколько-нибудь менее мучительное положение. Лежать на спине со связанными позади руками тоже было чудовищно неудобно, да еще здоровенная шишка на затылке, – видно, его там, на лестнице, чем-то здорово саданули по голове, – от соприкосновения с полом добавляла мучительства.
– Чего вам надо? – с трудом спросил фон Штраубе, на том исчерпав остаток сил.
Ответствовать неприятная особа не пожелала, вместо этого хрипловатым, более мужским, нежели женским голосом позвала:
– Гриша, иди сюда, твой, кажется, очухался.
Кто-то вошел, не разглядеть; фон Штраубе увидел только сапоги, очутившиеся возле его лица. Мерзкий тенорок издевательски пропел:
– Никак, пришли в себя, ваше благородие? Слава-те, господи! Быстро, быстро, не ожидал… Головка-то, чай, прошла?.. Уж не взыщите, что таким манером вас принимаем. Так и вы ж – без особого приглашения, а незваный гость – он всем известно, хуже кого… Чего, спрашивается, беготню было нынче устраивать? Тоже, поди, не благородно как мальчишке бегать, а, господин лейтенант?
Тот самый перстень блеснул в чадящем свете лампы.
– Филикарпий, ты?.. – проговорил фон Штраубе, отодвигая лицо от воняющего дегтем сапога.
Сапоги неторопливо прогулялись вдоль кухни и остановились чуть в отдалении. Теперь была видна физиономия их обладателя, расплывшаяся от подлого упоения властью.
– Никак нет-с, ваше благородие, – с издевательским холуйством отозвался лакей. – Нету-с! Нету-с имени такого в святцах, что и вашему благородию, наверняка, ведомо. Григорием меня крестили. А Филикарпий – это так-с. Их сиятельство Василий Глебович нарекли-с, от общего неуважения к низкому сословию и, думается, предполагая некое паскудство в этой кличке. Они с нами – как с собачонками. Вот и Машеньку глухонемую Нофреткой наименовал, Анютку с Зинаидой – Сильфидкой и Одилькой. Насчет паскудства они вообще были большой весельчак.
Стриженая загасила папиросу в банке, по-мужицки сплюнула на нее и куда-то в пространство хриплым голосом изрекла:
– Представители высших классов ни перед чем не остановятся, чтобы задушить человеческое достоинство в пролетариате.
– Именно так-с, – пуще расплылся в ухмылке лакей, довольный таким обобщением.
Фон Штраубе, хотя и находился в их полной власти, но страха не чувствовал – одну лишь досаду, что так глупо подставился там, на лестнице, и еще брезгливость к этому ухмыляющемуся холую.
– Какой ты, к черту, пролетарий? – сказал он. – Из лакея пролетарий – как из кокотки архидиакон.
Из глазок Григория-Филикарпия теперь сочилась только подленькая злоба. Ответила за него стриженая, более склонная к теоретизированию:
– Принадлежность к той или иной среде ничего не определяет, – все так же в пространство произнесла она. – Важно лишь служение пролетарскому делу, – и задымила новой вонючей папироскою.
– Ах, пролетарскому делу? – восхитился фон Штраубе. – Это для пролетарского дела ты, значит, у Василия непотребством занимался? И ларец с деньгами – тоже ради пролетарского дела стащил?
Лакей почел за наилучшее продолжать фиглярствовать:
– Вот тут угадали-с, ваше благородие. Денежки – они в нашем деле тоже вещь необходимая. А уж касательно пути, которым получены, так они, ежели помните, как римский цезарь Веспасиан (слыхали, должно быть, про такого?) говаривал: не пахнут-с.
– Деньги пойдут в кассу нашей организации, – сказала женщина, явно бывшая за главную тут. – Привилегированные сословия сотни лет грабили других. Отъем награбленного, поэтому, не грабеж, а только восстановление исторической справедливости.
– Экспор… – хотел было и Филикарпий щегольнуть словцом, да поперхнулся.
– Экспроприация, – подсказала фурия, – запомнить пора. Впрочем, весь этот разговор сейчас… – Она замолкла, открыла зачем-то посудный шкап и стала громыхать там кастрюлями и мисками.
– Вот как! – воскликнул лейтенант. – И перстенек на палец – тоже для восстановления исторической справедливости? Поносили, господа эксплуататоры, теперь дайте другим поносить, – так у вас?
– А вот и не угадали-с! – возрадовался чему-то лакей. – Нам перстеньки и прочие бирюльки без надобности. Вот, товарищ Этель (он кивнул на мужеподобную, все еще рывшуюся в шкапе) предлагала эту вещицу в деньги обратить – для нужд общего дела, а у меня с перстеньком другой планец возник: вас на него выманить. Вы ж, господа благородные, нашего брата в упор не узнаёте – рожей не вышли-с. Я уж и так, и сяк перед гостиницей перед вашей, и барином, и мужиком, – нет, не признаёте и все…
– А чего ж не сатиром-то? – съязвил, не удержался фон Штраубе.
– Да холодно на морозе, – в ответ скривился этот шут гороховый. – Нет, у меня другой планец созрел. Я ж вас на него – как щуку на плотвичку выманил. Проследил, как вы с Машенькой – в этот ее вертеп, – ну, и за вами. По роже так бы, может все равно и не признали бы, а на побрякушки вон, оказывается, у вас, у благородных, глаз как наметан! Так за мной сразу припустили – едва ноги унес, уж боялся до подъезда не добегу, словите; да Бог-то, изволите видеть, оказался все же на моей стороне.
– Опять ты!.. – не высовывая головы из шкапа, подала голос фурия-Этель. – Бог-то причем? Сколько тебя материализму учить?
– Расчет, говорю, был верен! – поправился он.
– И зачем это я тебе так понадобился? – полюбопытствовал лейтенант.
– Как же-с! Про денежки эти только вы один и знали. Ну, еще, допустим, Нофрет… Машенька, то есть, – но она-то, глухонемая, чай, не выдаст. А за вами, смотрю, уже и шпики в котелочках – всюду по пятам. Ясное дело – тут вы меня им и выложите. Кому больше будет веры? Понятно, вам.
Стриженая уже, видимо, нашла в шкапе то, что искала, и, высунув голову, сформулировала:
– Жандармерия всех стран всегда поддерживает родственных ей по классу.
– О! – поднял палец лакей, восхищенный снова такой емкостью определения. – Так что не взыщите, ваше благородие, опасность от вас нашему делу. Вред могли бы нам преогромнейший нанести.
Страха почему-то не было, хотя фон Штраубе уже не сомневался, что живым отсюда не выпустят. Хотелось лишь напоследок процарапаться еще к одной тайне (неужто последней в жизни для него?). Спросил:
– Так и Бурмасова ты убил, выходит?
Тот как-то уж очень правдоподобно удивился:
– Василь Глебыча? Да Господь с вами! Вот те истинный… – он посмотрел в сторону своей фурии (та в этот миг отворотилась прикурить папиросу от коптилки) и перекрестился меленько. – И как это я бы их – когда у них силушка медвежья, да еще "Лефоше" завсегда в кармане? Они пятерых таких, как я, запросто ухайдакают и не моргнут. – Его лживое лицо на миг озарилось такой искренностью, что даже фон Штраубе как-то поверил.
– А труп куда подевал? – спросил он. – И зачем вообще тогда его прятал?
Лицо Филикарпия снова замаслилось улыбкой. Ответствовал вовсе загадочно:
– И касательно трупа – опять неправда ваша. Натурально в заблуждении, несмотря что ученый человек. Того не уразумеете, что попреж, чем труп спрятать, его надобно заиметь. Верно я говорю, Этель Соломоновна?
Фурия, сидевшая к ним спиной, деловито над чем-то колдуя, бросила через плечо:
– Я как просила меня называть?
– Пардон! Товарищ Этель… Я вот пытаюсь втолковать ихнему благородию…
– Хватит разговоров, – оборвала его "товарищ Этель", – пора кончать.
Она потянулась за новой пачкой папирос, и стало видно, чем она была занята. На промасленной тряпке лежал небольшой короткоствольный револьвер, вероятно, извлеченный из кастрюли. Снова прикурив от лампы, стриженая вынула из другой, крохотной кастрюльки последний патрон, вытерла о подол юбки, не очень умело всунула его в барабан, защелкнула револьвер и взвела курок. Слово "кончать" обрело вполне зримое очертание – очертание дула, нацеленного лейтенанту в лоб.
– Грохоту наделаем, товарищ Этель, – усомнился Филикарпий. – Может, лучше топориком? Или вот сковородкой? – Он даже взял в руки эту чугунную сковородку для пущей наглядности.
– Мы не мясники, – отрезала фурия. В одной руке она держала папиросу, в другой револьвер. – Жестокость возможна только в необходимых пределах. Но в этих пределах мы обязаны быть максимально тверды.
На ее каменно неподвижном лице читалось, что она знает Истину – ту самую, о которой нынче вещал спьяну болтун Иконоборцев, ту Истину, за которой следом – только чума, смерть и выжженная земля. Фон Штраубе зажмурился. Он с ужасом понял: сейчас его так и пристрелят, походя, под папироску, за ради какой-то неведомой ему Истины. Вместе с ним уйдет в небытие и его Тайна. Боже, какой крохотной сейчас она ему казалась! Во всяком случае, крохотней этого черного жерла, нацеленного в упор.
Вот, сейчас!.. Квирл – и все!.. Куда? В сердце, в голову? Уж только бы сразу!.. И еще он успел подумать: как, однако же, глупо! От руки сумасшедшей, на полу грязной кухни, в смраде и папиросном чаду…
Что-то громко стукнуло, но жизнь, хотя на миг и съежилась, все-таки крепко держалась за тело. Это был явно не выстрел. Фон Штраубе открыл глаза.
"Товарищ", так и держа револьвер в руке, лежала на полу, головой у него в ногах. Папироса выпала изо рта и тлела возле ее уха.
Филикарпий (или как его там теперь?) поставил на плиту сковородку, которой, очевидно, нанес удар, и подобрал револьвер, а лейтенанту вдруг подмигнул:
– Лихо я ее, а, ваше благородие? – Он потрогал у нее пульс. – Чай, жива будет, башки у них крепкие… Совсем умучили, сил никаких! Думают, коли я на чем попался – так уж в полной власти у них. И так, и эдак: чтоб у Василий Глебыча деньги для ихней революции стянул. Деньги, оно, конечно, штука полезная, да не про вашу честь!
– На чем это они тебя поймали? – спросил фон Штраубе, еще не придя в себя после такого поворота.
– Да на этом… на растлении неполнолетних. А поди угадай, полнолетняя она или нет, когда и тут, и тут – все у ней целиком полнолетнее… Показали мне по уложению: вполне, оказывается, за такие шалости каторга светит, аж до пяти годов. А хочешь на воле гулять – за это, мол, нам теперь послужи, добудь как хошь деньги у своего миллионщика… По мелочи я им тыщи две перетаскал – их сиятельство, когда выпивши, и не знали, сколько у них в кармане. Нет, все мало, еще давай. Добро бы, на что путное – так нет же, на взрывчатку для бомб да на револьверты… Но чтоб я когда руку – на их сиятельство, на Василь Глебыча!..
Скрученные за спиной руки были уже неживые.
– Развяжи, – потребовал лейтенант.
– Погодите, ваш-благородь, надо бы сперва… – Он сорвал одну из бельевых веревок и стал ею связывать бездыханную пока "товарищ Этель", приговаривая: – Вот так мы ее сперва, от греха. Бесноватая баба, ей человека порешить – что семечку щелкнуть. А мы ее вот так вот, покрепче. И ножки тоже, на провсякий случай…
– Теперь развязывай. – Фон Штраубе повернулся на бок, подставляя руки, но услышал сверху издевательский голос лакея:
– Экие вы быстрые-с! Малость потерпеть… Надобно-с уговориться сначала, а то, гляди, сами меня спеленаете еще – в благодарность-то за спасение.
– О чем? – спросил фон Штраубе. Власть этого холуя, с ухмылкой возвышавшегося над ним, казалась ему еще более унизительной, чем власть той бесноватой.
– О них самых, о денежках-с, – пропел сладенько Филикарпий. – Для вас, для благородных, оно, может, и пустяк, а для нас – жизнь. С денежками-то они меня, – он кивнул на распростертую, – нигде не достанут. Если бы они меня тогда на выходе от Василь Глебыча не перехватили, уже нынче бы, верно, к Парижу подъезжал, а там ищи-свищи раба Божия Григория. Нет же, словили, упыри! Одно оставалось: еще большее у них доверие возыметь, чтоб такой минуты, как сейчас, дождаться. Так что – моя вам признательность, ваше благородь. Когда я вас давеча, не осудите, хитро так заманил да приложил по башке – тут уж доверие ко мне стало преполнейшее, иначе бы они черта-с два оставили меня с Этелькой вдвоем, когда ларец с деньгами туточки. Все благодаря вам-с. И без нужды над вами душегубство чинить – мне никакой стати. Ей-ей, курицу зарезать не могу!
– Чего ж ты от меня тогда хочешь?
– Вот, ваше благородие! Об том и разговор! И душегубствовать неохота, и угроза мне через вас…
– Какая еще, к чертям, угроза?! Руки хотя бы развяжи – болят.
Филикарпий, однако, не торопился.
– Как же-с! Очень даже не малая угроза. Я-то второпях про синема не учел: что вы оттуда про деньги Василь Глебовича узнаете. Думал грешным делом – погорите вы в пожаре вместе с этой синемой. А коли вы теперь живы и все знаете, так запросто можете и в полицию сообщить: и вором меня выставите, и поджигателем, а то, глядишь, и убивцем, как тут недавно пытались. Меня ж за такое сразу по телеграфу с любого поезда сымут. Прощай тогда, воля, прощай, Париж! А в Париже ох как хорошо! Еще когда мы там три года назад с Василь Глебычем были, я тогда еще себе подумал…
– Ты мне лучше все-таки скажи, – оборвал фон Штраубе его излияния, – куда, в таком случае, и за каким чертом тело Василия убрал?
– Ну вот, опять вы со своими вопросами… – огорчился лакей. – Радовались бы, что покуда живой; нет, все у вас любопытствие! Сказал бы – да не могу: не моя это тайна, слово чести давал! – Почему-то снова осклабился: – И Василь Глебыч вживе ни за что не одобрили бы.
Блюдение своего слова и пиитет перед прахом покойного – все это плохо вязалось с подленьким нравом лакея, который фон Штраубе успел уже почти до дна постичь. В действительности, видимо, обстояло так, что Филикарпий был кем-то еще запуган, и не в его нынешнем положении было наживать себе лишних врагов. Тайны множились, как и предупреждал птицеподобный Джехути, и пробиваться сквозь еще одну тайну – исчезновения Бурмасовского праха – лейтенант сейчас не находил в себе сил.
– Ладно, черт с тобой, – сказал, поэтому, он. – От меня ты все же чего хочешь?
– Неужто не уразумели еще, ваше благородие? – обрадовался тот перемене разговора. – Ясное ж дело: чтобы вы насчет меня – молчок! Никому-с! Пообещаете – и дело с концом, сразу развязываю.
– И не опасаешься, что обману?
– Вы-то? – изумился лакей. – После того, как честное слово дадите? Да ни в коем разе! Уж известное дело – благородство не позволит!
– Фальшивому благородству их отжившего класса мы противопоставим подлинное благородство наших идей… – явно все еще находясь в забытьи, вдруг отчетливо, тем не менее, произнесла товарищ Этель, как невзначай тронутая шарманка, и замолкла опять.
На лице Филикарпия, как прежде, изобразилась некоторая уважительность – не к самой стриженой, а к этому ее бреду.
– Гляди ж ты! – проговорил он. – Хоть и не в памяти – а гладко-то как!.. Надо нам, ваше благородие, поторапливаться – очнется, я чую, скоро, да и вся их братия нагрянуть может в любой миг… Так что, ваше благородие, даете слово? Ей-Богу, так оно лучше, не доводите до греха.
– А если не дам? – спросил фон Штраубе.
– Да вы погодите, господин лейтенант, я ж не за так прошу. Знаю, что вы не богач, а там, в ларчике, если считать вместе с ценными бумагами, то, почитай, на восемьсот тысяч. Я вам даже тыщ сто готов отдать – плохо ли? Так оно по справедливости, ваше благородие, видит Бог. Что с того, что их сиятельство все вам завещали? А кто сохранил? Вас бы они с ларьцом, – он ткнул дулом револьвера на стриженую, – ни в какую живым бы не выпустили с пожара, народ, сами изволите видеть, отпетый, им одной смертью больше, одной меньше – без всякой разницы…
– …и смерть старого мира озарит своим сиянием… – неожиданно снова пробормотала "товарищ".
– Во-во, слыхали? – согласно кивнул Филикарпий. – А я денежки-то эти и вынес из огня, и сберег. Да и вашу жизнь, коли помните, только что сберег заодно, – чего-нибудь, наверно, стоит? Чай, покойнику деньги без надобности… Я еще почему: чтобы Машенька, Нофретка то есть, без вас не осиротела. Я же к ней, было дело, со всей любовью, жениться даже хотел. Не беда что глухонемая – перечить не будет и вопросов глупых задавать. Зато хороша-то как, хороша!.. Она сама не пожелала, ей всё прынцев подавай; что ж, мы не из гордых. А с вами она, я гляжу, – вполне… Это я так, ваше благородь, без укора. Сейчас думаю – оно и к лучшему, поди: с ней мы быстро бы все денежки прокушали, сама-то им цену не знает, привыкла, в содержантках, чужими сорить; и с порошочком ее хлопот не оберешься, разве, может, вы сладите… А сто тыщ тоже деньги немалые, еще и какие неплохие денежки, если, конечно, с разумом подойти. Дележка справедливая – Господь свидетель… – Смотрел на него даже просительно.
В этот миг стриженая вдруг вскинулась, как на пружинке, и, распахнув глаза, но никого, явно, не видя, отчеканила куда-то в пустоту:
– …сатрапам власти, делящим награбленное у народа, не уйти от заслуженного…
Филикарпий лишь громко кашлянул в кулак, и товарищ Этель, явно страдавшая неким странным, революционным сомнамбулизмом, так же стремительно улеглась и закрыла глаза, вполне бездыханная.
– С ней бывает… – сказал Филикарпий. – Надо было покрепче ее сковородкой приложить, да жалко: и так уж головой нездоровая.
Фон Штраубе спросил:
– А не боишься, что они на тебя в полицию заявят? Если, говоришь, тогда из-за малолетних пугали, так теперь и сам Бог велел.
– Не-е, – покачал головой лакей, – только пугали. Это я уже опосля, когда их получше узнал, так сообразил. У них своя честь: чтобы с полицией, с властями – никаких дел. Брезговают. Да и какая полиция их, бесноватых, слушать станет? Сами давно в розыске по всем губерниям. Вон, год назад (слышали, небось?) полицмейстера в Харькове бонбой подорвали; для них уж, поди, и веревки давно намылены, так что насчет полиции – не-е. Что своими силами искать будут – это точно, это у них заведено. Коли найдут – пиши пропало… Только пускай найдут – с эдакими-то деньжищами. Долго искать придется. Не, ваше благородие, с этого боку все чисто, одна опаска – через вас. Так что лучше соглашайтесь, ваше благородие, не доводите до греха. С вас честное слово, с меня – денежки, сейчас прямо и отсчитаю. Жалко – а вот по своей воле отдаю. От греха, сказать можно, откупаюсь… – В глазах заиграли нехорошие огоньки: – Не томите, право же, соглашайтесь! А не то…
– Не то – что? – спросил фон Штраубе, хотя, в сущности, ему было ясно что. Он просто тянул время, пытаясь высвободить руки из уже ослабших немного пут.
На лице Филикарпия взамен лакейской улыбочки обозначилась решимость, и голос подтвердил:
– Умный же человек, могли бы уразуметь, – сказал он. – По-хорошему не захотите – можно тогда и по-плохому. Так оно, может, и правильнее. – Револьвер, было опущенный, теперь снова глядел на лейтенанта черным отверстием дула. – Придется, что ж, грех на душу взять. Не хотелось, но, видит Бог, сами же ставите… Тогда и сто тысяч при мне, и опасаться ничего не надо. С вокзала в полицию позвоню, – рассуждал он теперь сам с собой, – адресочек им, пожалуйте: известен, мол, вертеп злодеев-анархистов. Как думаете, на кого хладный ваш труп в протоколе запишут? Этельке – одним лейтенантом больше, одним меньше – все едино петля; Нофретке – сиротство, покамест кого отыщет взамен; про вас в газете напечатают – и все дела. Так оно лучше, что ли?.. Давайте-ка, не томите, ваше благородие, соглашайтесь, а то я уж и передумывать начинаю: больно, вправду, все гладко выходит, и сто тысяч как-никак на дороге-то не валяются.
Лакей просчитался в том, что затеял этот торг. Фон Штраубе давно махнул рукой на Бурмасовские деньги, своими их все равно не считал, и ни о чем заявлять в полицию не собирался, но выкупать себе жизнь в обмен на какие-то обещания да еще вдобавок на сотню тысяч от лакейских щедрот, все это выглядело настолько подло, что хуже смерти. Он понял, что избавиться от пут все равно не успеет. Значит, оставалось одно – то самое…
* * *
– …снова взвешена – и оказалась достаточно легкой для твоей страны Запада, Саб.
– Но в нем осталось еще земное:
"…твое Destination Grand, мой сынок!.."
"…Бох’енька, самый добх’енький!.."
"…И из стран Востока пришел Гаспар…"
"…Meinen am meisten suss! La mien seul! Миленький, миленький!.."…
– Так что, видишь, Тот, земля своим прахом еще удерживает его. Знающие цену Вечности, должны ли мы торопить крохотные мгновения, мудрый Джехути?
– Ты прав как всегда, мудрый Инпу. Оставим земле ее суетные мгновения, ибо иных, более долгих измерений она и не знает.
– Да будет так.
– Да будет так.
* * *
Мгновение, однако, было, судя по всему, уже последним, и земля, опять сжавшаяся до размеров дула, без сожаления отдавала и его.
– Нет больше время на разговоры, – подытожил Филикарпий. Он, теперь уже не по-холуйски, а по-разбойничьи что ни есть осклабился: – Всё, прощайте! Не поминайте там лихом, ваше благородь!
– Да будет так.
– Да будет так.
– …Миленький!..
…Громыхнуло. Потом еще раз.
– …La mien seul, мой миленький, сладенький, что они с тобой?!..
Господи, да жив, никак?!.. А это… это же Дарья Саввична!.. То есть нет! Как ее на самом-то деле? Вроде бы – Мадлен!.. Сидит рядом с ним, в одной руке у нее дымящийся дамский пистолетик, крохотный, как игрушечный, другой рукой прижимает его голову к себе, повторяет:
– Миленький! Meinen am meisten suss! Успела! Живой!
Филикарпий лежит на полу, накрест поверх своей безумной "товарищ Этели", злодейская ухмылка осталась приклеенной к мертвому лицу, рубаха на груди набухает кровью. У Этели тоже красная дырочка на виске, оба стеклянными глазами смотрят в потолок.
Мадлен убрала пистолетик в ридикюль, кухонным ножом взрезала путы у него на руках и на ногах. Руки были неживые, с синими следами на запястьях. Она стала отогревать их дыханием, растирать, приговаривая:
– Миленький, да что же, что они сделали с тобой, ces brigands [32]32
Эти разбойники (фр.)
[Закрыть] ?
Когда погладила по голове, он покривился от боли.
– Они били тебя? – нащупав шишку, воскликнула она. – Die Tiere, les gredins [33]33
Звери (нем.), негодяи (фр.)
[Закрыть] , подлецы! Тебе больно? Сейчас, милый, сейчас! – Смочила водой носовой платок, дала приложить к ушибленному месту. – Как я вовремя, господи! Эти негодяи убили бы тебя!
Помогла ему подняться. Он, едва не рухнув, тут же сел на табурет. Пока кровь наполняла у него затекшие ноги, она, что-то еще приговаривая про "ces assassins" [34]34
Этих убийц (фр.)
[Закрыть] , умело и деловито распутала мертвую Этель, извлекла из ридикюля и вложила ей в руку свой крохотный пистолетик, а револьвер из руки Филикарпия забрала себе, после чего придирчивым взглядом осмотрела сотворенную картину и сказала, вполне удовлетворенная:
– Вот так! Она убила его, а потом себя… Ты можешь ходить? Нельзя медлить, пойдем скорее из этого проклятого места! – и повлекла его к двери.
…за ней, не чуя под собой ног.








