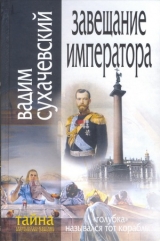
Текст книги "Завещание Императора"
Автор книги: Вадим Сухачевский
Жанр:
Альтернативная история
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 19 страниц)
Глава 26
Возвращение Иванычей
Давай и принимай, и утешай душу твою, ибо в аде нельзя найти утех
Сирах (14:16)
«…Никак, смерть?.. – подумал фон Штраубе, уже не в силах глотать воздух, почти целиком состоящий из ледяного крошева. – Господи, после всего, что произошло – как это теперь нелепо!.. Неужели не уймется никогда? Ну уймись же ты, уймись!..» – молил он.
И в этот самый миг, словно кто-то, кому подвластны бури, внял его мольбам и повелел: "Да будет так!" – все внезапно стихло. Оглушенный этой тишиной и вконец обессиленный, фон Штраубе навзничь повалился на снег. Воздух с каждым мигом становился все прозрачнее. Вверху сквозь редкую, уже на излете порошу виднелись звезды и какая-то небывало огромная, неживого цвета луна, озаряющая во все стороны своим сиянием только что за кружением пурги невидимую закругленность горизонта.
Тишину нарушил громкий скрип снега – с этим звуком к распростертому фон Штраубе медленно приближался большущий снежный курган.
– Борис, ты где?.. – очутившись уже совсем вблизи, вдруг произнес этот курган голосом Бурмасова.
Отозваться сил не было, но, видимо, лейтенант, сам того не расслышав, все же издал слабый стон, потому что курган радостно возопил:
– Борис! Думал уж – не найду!.. Ты как, дышишь?
– Вроде бы… – с трудом разлепил обмороженные губы фон Штраубе.
– А чего ж тогда разлегся? Что, помирать собрался, никак? Это тебе, брат, дудки. Мог бы уже уразуметь: покуда Васька Бурмасов рядом – ей, Смерти Беззубой делать нечего. – Все это он говорил, вытаскивая его из сугроба, ставя на ноги и с такой силищей обивая с фон Штраубе снег, что, казалось, сам сейчас насмерть и пришибет им же только что спасенного друга. – А закрутило – вправду, скажу я тебе! В жизни такого не видывал! Без меня, ей-ей, полег бы ты тут навеки! – И в сердцах с такою медвежьей силой припечатал фон Штраубе по спине, что у иного и дух бы, наверно, вон. – Ну-ка, нос, чай, не отвалился? Нет, вроде бы на месте пока… Это нашему брату русаку любой морозецкий – тьфу и только! Ну да что русскому здорово – то немцу… Ладно, ладно, шучу я, сам знаешь… Ты лучше щеки потри. И пальцами-то, пальцами пошевели – не отморозил?
Фон Штраубе потопал ногами, потер ладони, ощущая, как в них входит жизнь.
– Цел, кажется, – наконец проговорил он, сам, пожалуй, еще не до конца освоившись с этим обстоятельством. – Только до сих пор не пойму – и какого лешего тебя понесло-то в самую пургу?
Некоторое время Василий моргал и сопел, надеясь припомнить.
– А шут его… – так и не найдя ответа, сказал он после бесплодных усилий. – Что-то такое, помню, толкнуло – да теперь поди-ка восстанови… Да и чего теперь? Главное – это что мы имеем dans le bilan [82]82
в итоге (фр.)
[Закрыть] . А «dans le bilan» мы имеем с тобой вот что. Оба мы живы – это раз, и c’est bon [83]83
это хорошо (фр.)
[Закрыть] . Мы целы-здоровы – это два, и c’est encore meilleur [84]84
это еще лучше (фр.)
[Закрыть] . Наконец, у меня в кармане осталась сотенка (он помахал в воздухе сторублевой ассигнацией), – это три, и это уже, можно сказать, tout a fait exellent [85]85
совсем замечательно (фр.)
[Закрыть] ! – Просвиставшая над ними смерть ничуть не убавила в нем природного жизнелюбия. – Какой отсюда сделаем вывод? – продолжал он. И сам же ответил: – А вывод мы сделаем такой, что возможностей перед нами простирается море! Можем, к примеру, закатиться в «Асторию» (Нофретку заодно проведать – она тебя там, в нумере, кстати, все еще дожидается) и закатить по полной свой собственный армагеддончик. Можем, далее, взять кабинет в какой-нибудь ресторации почище и пировать до утра. Можем, наконец, дунуть (а что?) к цыганам, чтобы пораспушить души. Все неплохо – попробуй выбери. Это у нас уже, как говорят французишки, получается даже, пожалуй, embarras de richesse [86]86
затруднение от изобилия (фр.)
[Закрыть] ! Посему – за тобой слово. Ну-ка, давай, брат: чего нам с тобой сейчас не хватает более всего?
– Тепла… – проговорил фон Штраубе, у которого зуб на зуб не попадал.
– Гм, не густо, – прокомментировал Бурмасов столь скромную, не по его размаху, потребность друга. – Хотя, впрочем… – Немного подумав, добавил: – Что ж, коли так – сие тоже в наших силах. Двинем-ка мы с тобой, поэтому… Двинем-ка мы вот куда…
Более ничего пояснять не стал, взял фон Штраубе за руку и, не давая ему увязнуть в снегу, потащил за собой в сторону, где лишь он один каким-то нюхом особым угадывал, должно быть, местонахождение тракта.
– …А ведь правда была твоя. Ей-Богу, славно мы это с тобой придумали! – довольный, говорил Василий, когда через каких-нибудь полчаса они в накинутых, уже повлажневших от пота простынях сидели vis-a-vis в натопленном кабинете бани, предназначенном для двоих, и до самого дна души вдыхали жаркий, с мятным запахом пар. – Однако ж, не дураки, согласись, были римляне, знали, собаки, где надобно коротать время!
В этих простынях они и вправду походили на римских патрициев. Такие же томимые негой патриции взирали на них с росписи потолка. Василий надел себе на голову один из предусмотрительно висевших тут лавровых венков, тем самым придав законченный вид своему патрицианству. Тепло от нагретых мраморных стен усладительно входило в каждую пору еще не насытившегося им тела, оттесняя все страсти этого дня с недавним воем и ледяным кружением смерти, куда-то в незапамятную даль.
На мраморном столике перед Бурмасовым стояла большая бутылища французского коньяка, из которой Василий то и дело наполнял несерьезно маленькую для него рюмочку и раз за разом, блаженствуя, отправлял ее содержимое себе в утробу.
– Не понимаю, признаться, я эту штуку – смерть, – вещал он, рассуждая скорее сам с собой, разглядывая изображение на мраморе в верхней части стены, запечатлевшее последние минуты гибнущей в содроганиях Помпеи. – И что, ей-Богу, за окаянная зловредность в ней такая? Уж коли кто нас произвел изначально смертными – так и сделать бы ему так, чтоб жизнь любому с начала и до конца была не в сладость. Каждый час, каждый миг! Чтобы человека ничем за этот мир не держало. Чтобы всякий с нетерпением только бы и ждал ее, Безносую!..
Фон Штраубе в эту минуту не очень-то прислушивался к философическим разглагольствованиям своего спасителя, он сидел, прикрыв глаза, привалившись к жаркой стене, и чувствовал, как толчками, с потугой в него возвращается полновесная жизнь…
– А то знаю много случаев, – продолжал резонерствовать Бурмасов. – Едва разнежится человек, едва только вкус к жизни ощутит – тут-то она, ведьма с косой, и явится по его душу… Да вот хоть бы – как нынче мы с тобой. Там, в пурге, вроде и не так жалко было бы с миром этим грешным распроститься. А вот теперь, когда разогрелись, да разговелись, да сибаритствуем, да коньячок отменный, – тут, случись, явилась бы она, Костлявая, так бы, небось, белый свет с копеечку показался…
* * *
– Весьма, молодой человек, весьма примечательное и неоспоримое наблюдение!
– Тут и говорить нечего! Будь я трижды проклят, если бы решился оспорить!
«Квирл, квирл», – струился наливаемый коньяк. «Квирл!»– рядом звонко чокнулись рюмками.
* * *
«Да что ж это?!..» – подумал фон Штраубе, уже не сильно, впрочем, удивившись, хотя в кабинет (не мог бы он этого не заметить!) в ближайшее время никто посторонний, совершенно точно, не заходил.
Лейтенант на миг приоткрыл глаза. Как и должно, кроме Бурмасова, рядом никого не было. Зато вдруг промелькнуло то, чего уж точно не могло здесь быть. Он это уже видел однажды – там, в Зимнем дворце, сквозь пламя камина: прорубь с черной водой и яркая дневная звезда…
Однако стоило глаза вновь закрыть, снова раздались эти голоса, теперь уже отчетливо ему знакомые:
– Благодарствую, господин капитан-лейтенант! Вы правы – преотменный коньяк! Какой букет!..
– …И коли так – рад воспользоваться случаем и засвидетельствовать вам свое…
– …искреннейшее и глубочайшее!… – подтянул второй знакомый голосок.
("Господи, неужели опять?.." – устало подумал он, не разымая век.)
– …И – повторюсь – мысль, вами тут высказанная, настолько, скажу я вам…
– …Настолько, право же, своевременна!
– …О, да! В особенности (хочу добавить) для нынешнего момента!..
– …Для мира всего, пребывающего
– …Да, да! Ежели вам угодно – то и для мира всего, пребывающего ныне, как, впрочем, к прискорбию нашему, и всегда, в полнейшем блаженном неведеньи уже о следующей минуте своей…
– …Что – разрешите же мне подъять сию рюмку за ваше здоровье?
– …А также за здоровье господина лейтенанта фон Штраубе, с коим уже не однажды имели честь…
– Эй, Борис, ты, никак, спишь? – раздался у самого уха голос Василия.
Фон Штраубе открыл глаза, уже наперед зная, кого сейчас увидит.
За столом на мраморных табуретах, улыбаясь одинаковыми лицами, восседали оба разномерных Иван Иваныча, на сей раз закутанные в простыни и в лавровых венках вместо уже привычных лейтенанту котелков на головах, оказавшихся идеально лысыми и круглыми, как бильярдные шары. И еще он отметил отчетливо проступавшие под простынями небольшие горбы у них на спинах, которых прежде – видимо, благодаря особому покрою их черных сюртуков – было, кажется, не видать.
– Что, брат, умаялся? – нежно тронул его лапищей Бурмасов. – Не мудрено: денек нынче выдался – не приведи Боже. А ты вот коньячку выпей – сразу взбодрит. Гляди, уже и компания подобралась. Славные ребята! Я их сперва было за шпиков почему-то принял; они тогда у моего дома слонялись – помнишь, в котелках?.. Да нет, скажу тебе! Чистая публика! Уж я в этом понимаю! (Иван Иванычи скромно потупились.) Разреши тебе представить…
– Да мы, собственно, коли не ошибаюсь, знакомы, – сказал фон Штраубе.
– Очень даже!
– Весьма знакомы! Более чем! – хором откликнулись Иван Иванычи.
После того, как фон Штраубе последовал совету друга и выпил, а остальные, чокнувшись, его в этом поддержали, меньший из Иван Иванычей сказал:
– Мы тут как раз обсуждали мысль, высказанную их сиятельством. Мысль настолько непреходящего значения, что мы, простите великодушно, не смогли остаться в стороне от вашего разговора.
– М-да, были поражены – и посему никак не смогли!.. – подтвердил Большой.
Восхваляемый Бурмасов, пожимая плечами, промолвил смущенно:
– Да я, признаться, и не помню уже. Так, мурлыкал себе что-то безотносительное…
– Ничего себе – "мурлыкал"! – воскликнул возмущенно маленький Иван Иваныч.
– Гм, ничего себе… И это у них называется – "безотносительное"… – покачав головою, глухо отозвался другой Иван Иваныч.
– Тогда как оно-то – и самое что ни есть соотносительное! – опять воскликнул Маленький, более склонный к экзальтации. – Ибо – если рассматривать в соотношении с нынешним бытием этого бренного мира, то, уверяю вас, нет темы, в большей степени заслуживающей интереса! Коль запамятовали, дерзну напомнить. Вы изволили говорить о несправедливости человеческой кончины в тот момент, когда его душа отягощена земными соблазнами и потому не готова к неминуемому.
– Да, пожалуй… – отозвался Бурмасов не особо уверенно. – Что-то, возможно, в этом роде…
– Именно! Это самое вы и говорили! Так вот, позволю себе продолжить вашу мысль. Надеюсь, вы слышали о святых угодниках?
Василий почесал в голове.
– Ну, там… "Четьи Минеи"… Что-то такое… В нежном, правда, возрасте… – Он взялся за бутылку: – Может, господа, сперва еще коньяка?
– Эко вы, право!.. – буркнул Маленький, непонятно чем в этот миг более недовольный, невежеством Бурмасова по части жития святых угодников или нежеланием прерывать столь почему-то важный для него разговор. Коньяк, между тем, все-таки вслед за Василием выпил, отчего сразу помягчел слегка и продолжил уже не так сурово: – Если позволите, вынужден буду вас немного просветить. Сии святые мужи, думая непрестанно о смерти (а о чем еще, спрошу я вас, и пристало думать смертному?), нещаднейшим образом ежеминутно умерщвляли свою плоть. Чего, право, только над собой не производили! Заточали себя в склепе посреди зловонных москитных болот, денно и нощно отбивали поклоны, стоя на столбе, самооскоплялись, – (Бурмасов при этих словах даже поперхнулся коньяком), – по сорок раз на дню бичевали собственное тело, жили среди прокаженных, покуда сами не обретали эту страшную болезнь…
– Ногти себе с корнями выдирали, – под рюмочку со знанием дела бесстрастно подсказал большой Иван Иваныч, – на муравейниках сиживали…
– Это кто ж? – не вытерпел Василий, будто сам сидел на муравейнике.
– Святой Мокий, был такой… По пояс в ледяной воде часами стояли, как святой Авдей. Пардон, волчий кал ели. – Бурмасова аж передернуло но большой Иван Иваныч продолжал неумолимо: – Нательные язвы свои расковыривали и солью посыпали. Язык себе протыкали раскаленным стержнем, как это делал святой…
– Да, да, как святой Антроп. Мерси, – остановил его маленький Иван Иваныч. И, не обращая внимания на то, что Бурмасов в эту минуту напоминал человека, томимого зубной болью, безучастно к его мукам продолжил: – А зачем, спрошу я вас?! Во имя чего?!
– Ясно: плоть извести, – поспешил ответить Бурмасов, надеясь на том завершить малоаппетитный разговор. – Однако же, господа… – и потянулся к бутылке.
Но маленький Иван Иваныч опередил его.
– Ах, оставьте вы! – сказал он несколько раздраженно. И после того, как Бурмасов подчинился, убрал руку с бутылки, Маленький подтвердил: – Именно: плоть извести! Дабы она, плоть, не служила цепью, сковывающей с этим миром, полным соблазнов и всяческих прекрас! Дабы расставание с ним было ежеминутно желанным! Если угодно – жертвуя мгновениями, предуготавливали себя к Вечности! Исключали из бытия ту самую неожиданность, о которой вы давеча изволили тут… А, глядя на них, и иные, порой вполне благополучно живущие смертные нет-нет да и постигали ничего не стоящую сиюминутность жизненных благ, посему та маленькая неожиданность, которую вы (признаюсь, я так и не понял почему) назвали здесь Безносой и Костлявой, уже не воспринималась ими столь трагически.
Бурмасов, не привыкший выслушивать столь пространные тирады, не приправляя их выпивкой, кажется, перестал что-либо из слов Иван Иваныча понимать и лишь тоскливо поглядывал на стоящую без дела бутылку. Фон Штраубе, однако, хотя Василий при этом смотрел на него укоризненно, не удержавшись, вмешался в разговор.
– И все-таки позволю себе сделать предположение, господа, – сказал он, – что заботят вас не столько судьбы отдельных людей и их, как вы давеча тут изволили говорить, "предуготовленность к неизбежному", сколько судьба и эта самая предуготовленность целых стран, быть может, даже – всего нашего мира. Несколько минут назад вы почти впрямую так и сказали – я слышал сквозь сон. И во время прошлой нашей встречи делали довольно недвусмысленные намеки по сути на то же самое.
Иван Иванычи застыли, некоторое время глядя на него обескураженно.
– Oh, – потрясенный, воскликнул наконец маленький Иван Иваныч, – comme il est de surveillance! [87]87
О, как он наблюдателен! (фр.)
[Закрыть] .
– Ich bin gar nicht verwundert, – отозвался несколько менее подверженный эмоциональным всплескам большой Иван Иванович. – Man mass sich immer erinnern, mit wem wir handeln! [88]88
Я ничуть не удивлен. Надо всегда помнить, с кем мы имеем дело! (нем.)
[Закрыть] .
А маленький Иван Иванович прибавил:
– Yes, if we at all did not trust in his origin, he would confirm it now undoubtedly! [89]89
Да, если бы мы даже не верили в его происхождение, он, несомненно, подтвердил бы его сейчас! (англ.)
[Закрыть] .
Еще некоторое время они оживленно между собой переговаривались на каких-то вовсе не знакомых фон Штраубе языках, – проскальзывало там и польское "пшеканье", и китайское мяуканье, и что-то, наверно, понятное разве только во времена Вавилонского столпотворения, и что-то вовсе уж, кажется, не людское, – пока в ходе этой перепалки наконец снова не вернулись к русскому.
– Я восхищен! – произнес маленький Иван Иваныч. – Хотя, в сущности, зная, кто вы…
Иван Иваныч Большой перебил его:
– Предлагаю, господа, выпить за проницательность нашего друга!
Наконец-таки и Бурмасов, до сих пор пребывавший в некоторой прострации от заумной беседы, взглянул на фон Штраубе с благосклонностью, поспешил наполнить всем рюмки и торопливо поднять свою:
– За тебя, брат!
– Поддерживаю!
– С превеликим удовольствием! – подхватили оба Иван Иваныча одновременно.
Выпив вслед за остальными, фон Штраубе, к явному неудовольствию Бурмасова, предложил:
– Быть может, господа, мы все-таки вернемся к нашему разговору?
– Oh, certainment! [90]90
О, разумеется! (фр.)
[Закрыть] .
– Как же иначе!
– Otherwise, what have we begun it for! [91]91
Для чего мы его тогда начали! (англ.)
[Закрыть] .
– Невже ж, на вашу думку, ми могли б залишити цу размову без подвиження? [92]92
Неужели же, по-вашему, мы бы могли оставить этот разговор без продолжения? (укр.)
[Закрыть] – наперебой загалдели многоязыко Иван Иванычи.
– Итак?.. – сказал фон Штраубе, опасаясь, что они в полиглотстве своем перескочат на какой-нибудь санскрит или арамейский. – Начав несколько издалека, вы наконец приблизились, не так ли, к судьбам стран и целого мира. Я внимательно слушаю вас, господа.
Вид у обоих Иван Иванычей мигом сделался серьезным донельзя.
– Что ж, – прокашлявшись, приступил к разговору меньший из них, – извольте. Но сперва посмотрим на это любопытное изображение, столь кстати помещенное тут. – Он указал на верх стены, туда, где на панно под искрами, хлынувшими с черного неба, в муках гибла Помпея. Ужас и отчаянье были запечатлены на лицах людей, бессильно прикрывающихся руками от кары небесной. – Обратите внимание, – продолжал Маленький, – на дорогие одежды этих несчастных, на весь этот прекрасный город, на роскошные дома. И в то же время – на те страдания, которые несет этим людям внезапная, неумолимая стихия! Добавлю: в действительности все было еще ужаснее, чем тут запечатлено!
– Намного, намного ужаснее! – подтвердил Иван Иваныч Большой.
– Ибо здесь схвачен один только миг, – пояснил Маленький. – А если вернуться всего на несколько мгновений назад, – что, по-вашему, делали эти люди? Они наслаждались жизнью, пировали, вкушали самые изысканные яства (о, они в этом были великие знатоки!), предавались самым утонченным любовным излишествам…
– В банях, кстати, нежились, – не преминул вставить Большой Иван Иванович.
– Без сомнения! – кивнул Маленький. – И вот после этого земного парадиза внезапно… Оно и самое страшное – что столь внезапно!.. Внезапно сама инферна разверзлась и сейчас вберет их в себя! А что будет в следующий миг? О, по счастью, вам это не дано увидеть!.. Посмотрите на этого изнеженного юношу с прекрасным лицом, с белоснежной, как у девицы, кожей, – несколько минут назад, перед тем, как он в смятении выбежал из дома, эту кожу умасливала драгоценными восточными маслами дюжина юных рабынь; однако, еще миг – и раскаленный пепел изувечит это тело, опалит волосы, усыпет язвами лицо. Нет, сразу он не умрет; ослепший, он будет стенать – не столько даже от боли, сколько мучимый памятью о своей сладостной жизни – пока наконец не накроет его крылами смерть!.. А эта холеная римлянка! Смотрите, она все еще пытается прикрыть рукой свое дитя. Она скончается первой, а дитя ее, этот мальчик, пережив мать всего на несколько мгновений, в муках умирая, будет недоумевать – почему в эту смертную минуту он остался один, куда делся целый сонм рабынь, выполнявших всякую его прихоть? И вот уж эту запредельную муку, это недоумение ни одному художнику не под силу изобразить! А этот мужчина, простерший руки к обезумевшему небу!..
– Он только что ушел с дружеской пирушки, – смакуя коньяк, пояснил Большой. – В нем еще свежа память о несказанных кипрских винах, о паштете из соловьиных язычков…
– Однако ж, странно, – попытался вклиниться в разговор Бурмасов. – Вы рассказываете обо всем этом так, словно сами там побывали… Вам не кажется ли, господа, что это несколько чересчур?..
Но Иван Иванычи оставили его реплику без внимания. Маленький подхватил вслед за Большим:
– …Да, да, именно из соловьиных! По части гурманства равных им, пожалуй что, не было… И каково ему в этот страшный миг своим изнеженным ртом вдыхать смертное гарево вулкана?.. Но – довольно!..
– Да уж, пожалуй, – согласился Бурмасов, но Маленький, не слушая его, продолжал:
– Довольно примеров!.. Можно бы еще вспомнить про Атлантиду, про Лемурию – ничуть не менее утонченные и погибшие ничуть не менее ужасно…
Бурмасов, порядком утомившийся от всех этих страстей, наконец не выдержал:
– Уж это вы откуда можете знать?!
– Не знали бы – наверно, не говорили б, – довольно буднично отозвался большой Иван Иваныч, так же обыденно закусывая коньяк невесть откуда появившимся у него в руке антоновским яблоком.
Маленький, между тем, на время несколько притушив эмоции, продолжал:
– Сказанного, по-моему, и так более чем достаточно. Подведем, посему, некоторый итог. Помпея тут – лишь один из примеров, коим несть числа. Итог же таков. Страшна не столько сама, как недавно изволили выразиться их сиятельство, Безносая, сколько та пропасть, которую люди, по неведенью, иногда способны для себя предуготовить: пропасть между сотворенным ими сладостным раем на земле и тем адом, в который они так легко и внезапно могут в любую минуту сверзиться. Не случайно мы начали наш разговор со святых угодников: оные мужи всеми силами стремились преуменьшить эту пропасть. Страдали от самостязаний? О, да! Но тем самым избавляли себя от гораздо более тягостных мучений и страданий, ибо что может быть страшней, чем низвергнуться в бездну из рая, пускай даже рукотворного, призрачного? И то же самое можно сказать о городах, о той же, к примеру, Помпее. И, коли на то пошло, о народах целых! Да обо всем мире, наконец, если он в какой-то миг слишком возблагоденствует, и лень ему будет заглянуть даже на один миг вперед! Ибо!..








