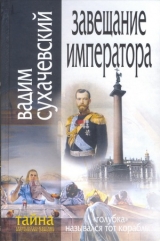
Текст книги "Завещание Императора"
Автор книги: Вадим Сухачевский
Жанр:
Альтернативная история
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 19 страниц)
"Гаспар… Гаспар…" В голове все еще крутилось это имя. Где он слышал? Когда?
В кармане шубы что-то топорщилось. Он сунул туда руку и достал кулек с какими-то восточными сладостями в виде звездочек. Позабыв о скверне на руках, он взял одну звездочку и положил в рот.
Вкус был знаком – так же отдаленно, как это имя. Безусловно, он когда-то уже…
И вдруг фон Штраубе вспомнил. Даже остановился от этого, хотя крепчавший мороз и подгонял. Ну да, Гаспар! Конечно же, Гаспар!..
Да неужели, неужели же?!..
Глава 9
Нофрет. «Гаспар приходит с Востока»
Большой номер «Астории» встретил фон Штраубе, привыкшего больше к спартанскому образу жизни, все еще чужим для него сверканием начищенной бронзы и хрустальных электрических люстр.
Нофрет (по своей глухоте, бедняжка, конечно, не услышала его прихода) в одном неглиже сидела перед зеркалом, разглядывала себя в рыженьком парике, – лейтенант купил для нее накануне, чтобы своей бритой, фарфоровой головкой, вполне сообразной для египтянки, здесь она не слишком шокировала окружающих, – и одновременно втягивала хорошеньким носиком с ладошки свой порошок. На столе картинно стояли вазы со всевозможными фруктами, раскрытые бонбоньерки с самыми лучшими конфетами, из серебряного ведерка со льдом выглядывала бутылка шампанского, уже ополовиненная. Все это роскошество стоило, наверняка, немалых денег, да и порошок ее, без которого глухонемая не могла и двух часов прожить, был, насколько известно, весьма недешев, при себе же, он знал, Нофрет не имела ни гроша.
Прошлым вечером, предвидя расходы, фон Штраубе все-таки забрал все накопления у своего жида, – с процентами набежало около девятисот рублей, – и тайком от Нофрет запер их на ключ в ящике письменного бюро здесь же, в номере, а ключ, уходя, взял с собой. Сейчас, пользуясь тем, что она все еще сидит у зеркала и его не замечает, он подошел к бюро и открыл ящик.
На дне лежали всего две сотенные ассигнации, а поверх – в насмешку, что ли? – трешница и горсть мелочи. И как только нашла, как ящик открыла, чертовка? Впрочем, лейтенант сам удивился тому, насколько мало его это теперь опечалило. Привычка к бережливости, с юности, казалось, неотъемлемая от его натуры, осталась где-то там, в убогой трущобе monsieur Лагранжа, в той жизни, к которой возврата больше нет.
Наконец Нофрет увидела его, подскочила, радостно взвизгнув, обняла за шею, попыталась закружить его по комнате, – ну совсем дитя!
– Борись, борись! – приговаривала она.
– Чего ж бороться? – удивился он. Потом только сообразил, что так она коверкает его имя.
– Борись! – продолжала радоваться глухонемая. – Смотри, Борись! Я ходиля в Пасяж! Купила себе! Я буду самая кх’асивенькая! – Она метнулась в спальню, распахнула там шкап и стала выкидывать из него прямо на кровать новые шелковые платья всевозможных фасонов, числом не меньше дюжины. Одно из них, похожее на японское кимоно, вправду очень ей шедшее, мотовка сразу же на себя надела, снова подскочила к фон Штраубе и закружилась перед ним: – Самая кх’асивая, пх’авда?
– Пх’авда. Самая красавица! – вздохнул лейтенант. Не в силах он был сердиться на это дитя, беспечное, как бабочка-однодневка.
– Мы это отпх’азднуем! – Она кивнула на роскошный стол. – Отпх’азднуем, а потом – любовь! Много-много, да, Борись?.. Или сначала любовь – а потом отпх’азднуем?
Фон Штраубе вспомнил про отвратительную золотушную паршу, к которой недавно прикасался руками и щеками.
– Там придумаем, – сказал он. – Погоди-ка, я сейчас, – и направился в ванную комнату.
Еще два дня назад он не мог и мечтать об этом человеческом удобстве, из всех самом, пожалуй, привлекательном в этой его новой, мотовской жизни, ибо ничто не доставляет такого унижения, как нечистота. Ванная комната в "Астории", вся в мраморе и зеркалах, с начищенными до золотого блеска медными кранами, своим избыточным роскошеством даже превосходила остальную часть апартаментов. Нежась в горячей воде и чувствуя, как из пор вымывается скверна, а из тела уходит усталость, фон Штраубе попытался хоть как-то свести воедино все, что произошло с ним за минувшие три дня, и ничего из этого не получилось. Время разлетелось на осколки и ни в какую не желало склеиваться без зазоров и выщербин. На место одних околупков попадали другие, совсем не оттуда, из других дней, даже из других лет. От производимого насилия время корежилось, как бумага в огне…
…Бумага в огне – и Тайна вместе с дымом навсегда уходит через каминную трубу – не удержать, как в горсти не удержишь мгновение…
…Le cinema: палец Бурмасова на курке вороненого револьвера. Золотушными струпьями взбухает на горящих картинах нежная кожа Амуров и Психей. Квирл! – и бурмасовский особняк яркой вспышкой улетает в какое-то свое Белозерье…
Что еще? Какая-то, как в трамвае, сутолока не слушающих друг друга голосов:
– …Миленький! Meinen am meisten suss! La mien seul!…
– …Здесь не водят никакой девиц!..
– …Как все-таки в отношении коньяка, господин барон?..
И эхом – издали:
– …Барон считает ворон! Барон считает ворон!
Откуда это, откуда?..
Боже, какая давь!
Гурзуф, где они семьей с весны до осени обычно снимают дом. Он еще мальчик, в новенькой матроске сидит на берегу, крымская осень, пахнущая морем, татарскими чуреками, куриным пометом и корками дыни, обволакивает теплом. Рядом сидит его толстая гувернантка фройлен Беккер, всего два месяца как выписанная из Германии, читает ему какую-то скучную книгу на немецком языке, иногда, если местные мальчишки слишком уж громко орут про ворон и про барона, фройлен отрывается от книги, чтобы дать ему поучение, вроде "Sie sollen sich nicht auf sie Argern, Boris. Vergessen Sie nicht, wer Sie existiert, und wer existiert sie" [15]15
Вы не должны на них сердиться, Борис. Не забывайте, кто есть вы, а кто – они (нем.)
[Закрыть] , – а те знай носятся поблизости и всякий раз, пробегая мимо, кричат ему: «Барон, считает ворон!»
– "…Er war dem Madchen aus seinem Schlaf Ahnlich. Dann hat er zum Marz gekommen, hat sie fur die Hand genommen und hat ihr gesagt…" [16]16
«…Она была похожа на девушку из его сна. Тогда он подошел к Марте, взял ее за руку и сказал ей…» (нем.)
[Закрыть]
– Барон считает ворон!..
– Die Schweine!.. "Die Hand die Marze mit der Haut, zart, wie die Seide…" Boris, wenden Sie die Aufmerksamkeit auf diese Dummkopfe nicht… [17]17
Свиньи!.. «Рука Марты с кожей, нежной, как шелк…» Борис, не обращайте внимания на этих дураков… (нем.)
[Закрыть]
– …считает ворон!..
Он не выдерживает. Заранее присмотренный большой камень уже в руке – и фон Штраубе изо всей силы запускает им в стаю этих оборвышей, прилипчивых, как мушиный рой. Бросок выходит неожиданно меткий, одному из них камень точно попадает в колено, тот падает как подрезанный и катается по гальке, держась за ушибленное место.
Пока фройлен Беккер кудахчет о том, что она сегодня же пожалуется их родителям, и этих dieser Rauber [18]18
этих разбойников (нем.)
[Закрыть] дома непременно выпорют, а ему не пристало опускаться до уровня (дальше – какой-то грамматически головоломный немецкий оборот), ватага отбегает на несколько шагов, следом отползает и раненый, мальчишки мигом склеивают комья из гниющей на берегу тины и разом дают дружный и тоже очень меткий залп, с таким расчетом, чтобы ни одно попадание не пришлось по фройлен Беккер, зато по нему, по фон Штраубе – ни единого промаха. Доля секунды – и вонючее месиво обгаживает всю его белоснежную матроску и с головы до коленей по нему сползает липкая гниль. Пользуясь тем, что гувернантка от этого залпа укрыла книгой лицо и ничего не видит, он вскакивает и бросается на обидчиков.
Мальчишки тут же пускаются наутек. Он, распалясь, мчится следом. Через мгновение все они оказываются по другую сторону песчаного холма, откуда фройлен Беккер уже не видать, только слышно ее испуганное квохтанье: "Boris, Boris! Wo Sie, mein Junge?" [19]19
Борис, Борис! Где вы, мой мальчик? (нем.)
[Закрыть]
Очутившись вне поля ее зрения, фон Штраубе вдруг останавливается в растерянности и испуге. К стыду его, – только теперь он осознает, – получается так, что лишь эта толстая немка своим присутствием придавала храбрости ему, сыну контр-адмирала, барона фон Штраубе, кавалера Анны и Станислава, покорителя арктических морей, тоже будущему, как решено, офицеру и, возможно, адмиралу российского флота. Сейчас, один на один с недругами, он не более чем барон, считающий ворон.
Мальчишки, – их пятеро, – тоже разом останавливаются. Теперь ясно – бегство было всего лишь хитрым маневром с их стороны, чтобы заманить сюда, на потаенный от чужих глаз пятачок. Кругом обступают его; они чуть старше, и каждый явно превосходит его по силе.
– Барон, считаешь ворон? – для затравки спрашивает тот, раненный в колено.
Дальше они переговариваются между собой по-татарски, видимо, решая, как с ним быть. И не объяснишься с этими татарчатами – на русском они, возможно, знают лишь про барона и про ворон. Да и о чем объясняться теперь? Впервые он один в таком враждебном кольце, в свидетелях – только безразличное ко всему небо.
Но, кажется, именно с неба приходит подмога, ибо вначале это лишь тень, будто там наползло облако.
Нет, просто кто-то очень высокий, невесть откуда внезапно появившись, на миг заслонил плечами свет.
Враждебный круг размыкается. Позади фон Штраубе стоит высокий мужчина, немолодой, хотя еще не старик, с посохом, с сумой через плечо, одетый в какую-то странную хламиду, и татарчата, подняв головы, с испугом и почтением теперь смотрят на него.
Незнакомец что-то говорит им по-татарски, потом кладет руку ему на плечо (такое тепло от этой руки!), теперь уже по-русски говорит что-то, то ли "они тебе не враги", то ли "полюби их", тех слов уже не вспомнить, да слова и не суть важны – главное, он, фон Штраубе, теперь знает, что ему делать. Он обходит по кругу замерших на месте татарчат, начиная с раненого, и касается своей щекой поочередно щеки каждого из них. Он любит их. Сейчас ближе – никого в мире!
Мужчина достает из сумы и протягивает им кулек. Татарчата начинают галдеть, тянутся грязными руками к белым звездочкам, и фон Штраубе тоже берет одну вслед за ними. Приторная сладость тает на языке…
– Uber, mein Gott! Mein Junge, du lebendig? [20]20
О, Боже! Мой мальчик, ты жив? (нем.)
[Закрыть] – Это фройлен Беккер наконец подскочила. Она выхватывает кулек, в этот миг почему-то оказавшийся у него в руке. – Du bist dem ass? Welches Grauen! Spucke schnell aus! [21]21
Ты это ел? Какой ужас! Выплюнь быстро! (нем.)
[Закрыть] Как ты мог?! Тут грязь и микроб!.. Mit diesen Schweinen!.. [22]22
С этими свиньями!.. (нем.)
[Закрыть]
Смятый кулек летит наземь, звездочки рассыпаются по песку. При виде грозной немки татарчата стремглав уносятся прочь, вслед за ними, опираясь на посох, уходит и незнакомец. Приговаривая про "микроб", она пальцем, тоже, кстати, не вполне чистым, копается у него во рту, стараясь выковырять растаявшую звездочку.
И в доме немка все еще никак не может успокоиться:
– Он кушаль этот дрянь!.. Он… Er wurde mit diesen Schweinen, mit diesen Banditen gekusst! [23]23
Он целовался с этими свиньями, с этими бандитами! (нем.)
[Закрыть] С ними быль еще грязьный мужик!..
Отец, вначале слушавший ее не слишком внимательно, вдруг становится очень серьезен, даже откладывает газету, в которую до сих пор поглядывал невзначай.
– Мужик? – спрашивает он, обращаясь не к ней, а к нему. – Что за мужик? Ты знаешь его? Как его звали?
Вроде бы, татарчата, галдя, произносили какое-то нерусское имя.
– Кажется… Не помню… По-моему – Гаспар…
Этим сообщением отец как-то странно взволнован, даже голос у него совсем не адмиральский уже:
– И что же этот… как ты говоришь, Гаспар? Это он сказал тебе их целовать?
Приходится объяснять, что ничего такого Гаспар (если того вправду так звали), не говорил. Просто… Он не сразу отыскивает подходящее слово. Просто снизошло, что ли…
При этих словах отец вскакивает из кресла.
– "Снизошло"… – повторяет он. – Но ты уверен, что его звали именно Гаспар?.. – и, не дожидаясь ответа, бормочет вовсе загадочные слова: "Боже, est-ce que deja dans cette generation?.." [24]24
…неужто уже в этом поколении? (фр.)
[Закрыть] – обхватив плечи руками, – так он делал лишь в состоянии крайнего волнения, – быстрым шагом удаляется из комнаты.
И еще удалось в тот же вечер, притаившись под открытым окном веранды, услышать обрывки вовсе загадочного разговора, который вели между собой родители.
– Вы хотите ему все рассказать? – говорила матушка. – Но он еще так мал! Да и сами-то вы – верите ли во все эти ваши фамильные предания?
Отец – задумчиво:
– Не знаю, что и ответить. Как географ и натуралист – в большей степени, пожалуй, все-таки – нет. Во всяком случае, так оно было до сегодняшнего дня. Наш мир, однако, столь сложен и многослоен, что тут одной научной логики… Право, Je deja ne sais rien… [25]25
я уже ничего не знаю (фр.)
[Закрыть] Что же касательно его малолетства… Вы не находите, что – чем раньше он будет готов?..
Перебив его, матушка воскликнула:
– Но почему, почему вы полагаете, что – именно он?!.. Неужели только из-за какого-то мужика… уж не знаю, что там наша фройлен mit ihren romantischen Gehirnen [26]26
с ее романтическими мозгами (нем.)
[Закрыть] еще себе напридумывала… неужели только из-за этого мы должны вносить такую сумятицу в душу ребенка? Небось, и был-то обычный бродяга-татарин, мало ли их тут шатается, – неужели из-за такого пустяка?!..
– Возможно, возможно. Просто имя меня насторожило. Но даже если вы целиком правы – по-моему, рано или поздно следует ему кое-что рассказать. Мне, впрочем, родители поведали обо всем, когда я был уже взрослым юношей, с окрепшей головой. К тому времени я, заканчивал училище, вовсю занимался естественными науками и отнесся ко всему этому, пожалуй, даже излишне легко.
– Вот видите!
– Но с возрастом я понял, что существуют вещи и помимо натуралистики и навигации. И сейчас думаю – не слишком ли беспечно поступили мои родители, так долго откладывая разговор?.. А сегодня, когда я услышал это слово… Знаете, он сказал: "снизошло"… И я вдруг увидел его глаза…
– Хорошо, – сдалась матушка, – хорошо! Допустим! Ребенок вполне может знать фамильные легенды. Это даже очень полезно! Все должны знать свое происхождение, тем более – если оно вполне благородно. Но, быть может, не следует начинать так издалека? Для начала расскажем о том, что не вызывает сомнений. Это и весьма кстати: возможно, убережет его от общения со всяким сбродом, как нынче.
– Вы все о том же – об императорской крови, о происхождении от Павла!.. Как раз пользы в том, по-моему, никакой, кроме вреда. И без того Diese dicke Henne [27]27
эта толстая курица (нем.)
[Закрыть] учит его чванству. Век уже не тот на дворе. Даже я, между прочим, два раза плавал простым матросом – и ничего. Да, к слову, и не велика честь знать, что прабабка твоя – обычная блудница, а прадеда пристукнули табакеркой.
– Но ведь именно от Павла, вы сами говорили, идут корни к Меровингской династии, а уже оттуда…
– Вот именно! Если и затевать разговор – то начинать имеет смысл именно оттуда. Все равно через двадцать лет, или сколько там у нас осталось до искончания века, многое откроется. Вспомните про завещание Павла, – а ему, безусловно, многое было известно.
– Вы думаете, там именно то?
– Думаю – это наиболее вероятно, иначе к чему бы такие тайны городить? Меровинги меровингами, – неплохо, конечно, для щекотания амбиций, – но если и влезать в эту генеалогию, то лишь ради самого главного. Не знаю, сколько там правды, но если мальчик по своему предназначению…
Фон Штраубе насколько мог навострил слух, чтобы не пропустить это самое-самое главное, способное, он чувствовал, перевернуть всю его жизнь… Надо же было такому случиться – именно в этот момент кусты вдруг зашуршали, словно целое стадо коров через них пробирается, и раздался голос фройлен Беккер:
– Boris, mein Junge, wohin du hast weggekommen? Ich bin dich ermudet, zu suchen! Mein Gott, wo du? Ich weiss, du irgendwo hier! Antworte! [28]28
Борис, мой мальчик, куда ты пропал? Я устала тебя искать! Боже, где ты? Я знаю, ты где-то здесь! Отзовись! (нем.)
[Закрыть]
Он сжался под окном, не смея шелохнуться. Надо же было ей поднять крик именно в эту минуту! Как он ненавидел сейчас эту глупую, надоедливую немку, эту надзирательницу, эту dicke Henne!
Наконец, что-то еще кудахча, буреподобно шумя кустами, она ушла продолжать свои поиски в другом конце двора. Но услышать главное ему так и не удалось. Когда шум кустов затих в отдалении, родители уже заканчивали разговор.
– Хорошо, – сказал отец, – возможно, вы правы. Он, действительно, еще мал, и можно повременить. Тем более – на днях все равно отсюда уезжаем, я тебе еще не говорил. Завтра начинаем укладывать вещи…
– Что, уже? Только из-за того, что этого татарина звали Гаспар?
Отец в задумчивости, скорее, для самого себя произнес фразу, еще даже более таинственную, чем все, что он говорил до сих пор:
– Сказано: Гаспар пришел с Востока…Нет, конечно же, нет. Просто сегодня получил письмо из Петербурга. Через неделю меня заслушивают в Географическом обществе, а там уже – готовиться к экспедиции.
– Вы думаете, они дадут достаточно денег?
– Думаю, сколько-то на первое время дадут – разумеется, как всегда, не достаточно. Покамест я распорядился заложить оба курляндских имения.
– Mon cher, mais ce, que chez nous sommes! [29]29
Мой милый, но это все, что у нас есть (фр.)
[Закрыть]
– Я переписал на ваше имя ценные бумаги, и кое-что у нас на счету в банке, так что на время экспедиции вам должно вполне хватить. А после… В конце концов, рано или поздно они все оплатят, а помимо этого – вы же знаете, какую премию назначила Академия. В убытке не будем.
– И – когда же?..
– Если Бог даст, с началом будущей навигации – в апреле, должно быть. Но прежде месяца четыре надо на подготовку, и до Владивостока еще добраться надобно, так что, полагаю, через пару месяцев, увы, расстаемся. А там уж, после экспедиции – если все будет хорошо, то, думаю, года через два, и Борис к тому времени подрастет, – там уж мы вернемся к этому разговору…
…Неужто не понимал, сколь невозвратно любое мгновение? Он никогда не вернется к этому разговору. Он вообще не вернется из своей экспедиции. Через полтора года придет извещение из Географического отделения Академии, в коем будет сообщено, что судно "Святая Варвара" с экспедицией, возглавляемой контр-адмиралом российского флота, действительным членом Императорской Академии наук бароном Модестом Викторовичем фон Штраубе оказалось зажато и раздавлено льдами в северных морях. Предпринятые поиски на собачьих упряжках увенчались успехом лишь через два месяца, когда уже ни одного из мужественных участников экспедиции… В том числе и самого контр-адмирала фон Штраубе, имя которого отныне навеки золотыми буквами вписано в историю покорения российского Севера…
Оба заложенные имения под Ригой уйдут на погашение долгов. Матушка, полуобезумевшая от горя, будет жить приживалкой в деревне у какой-то своей дальней родственницы и раз в неделю писать оттуда ему в училище длинные сентиментальные письма, в которых наряду со вздохами воспоминаний изредка будут проскальзывать неясные намеки на его "le Destination Grand" [30]30
Высокое Предназначение (фр.)
[Закрыть] , на что-то еще, столь же смутное, так и недослышанное им из-за Diese dicke Henne фройлен Беккер в тот гурзуфский вечер, зажатый между двумя жизнями, как гербарный листок.
…Вот еще: из того же вечера, из той же, навсегда отломившейся жизни. Матушка при тусклом свете лампы моет его на кухне перед сном в большом корыте, оттирает мочалом следы грязной тины с лица и с колен, потом трогает пальцем родимый знак у него на плече и задумчиво произносит слова, смысл которых так же неясен, как все, что он слышал, сидя под окном веранды, как все, на что позже иногда натыкался в ее письмах:
– Странная родинка… – говорит она. – Такой больше – ни у кого в нашем роду… – Продолжает, разговаривая сама с собой: – Это, конечно, знак… Кто знает, может быть, он прав, и надо тебе рассказать?..
Он смотрит на нее с надеждой, ожидая, что – вот, сейчас!.. Поймав его взгляд, отводит глаза и говорит:
– Не слушай, mon cher, это я так… Может, когда-нибудь потом…
И он смиряется. А она – она, как и отец, не понимает, что не будет никакого "потом", в этом ускользающем в небытие мире все имеет смысл только сейчас!..
Вместо этого она нежно гладит его отметину и повторяет, теперь почему-то грассируя по-французски:
– Какая стх’анная х’одинка… Кх’асивенькая!.. И сам кх’асивенький, – тебе говох’или?..
Квирл, квирл…
Господи, да это же Нофрет! Верно, он, разнежась в ванне, уснул, а эта простая в повадках душа без стеснения разглядывала его уже Бог знает сколько времени.
– Кх’асивенький… – продолжала она щебетать. – И кожа кх’асивенькая… Только худенький… Я как х’аз худеньких больше люблю, а Василий был толстый. И Филикахпий был толстый и совсем не кх’асивенький. И кожа не такая, как у тебя, а липкая и гх’убая… Хочешь, сяду к тебе в ванну? Василий любил, когда вдвоем. Хочешь? – и, не дожидаясь ответа, начала было снимать платье – уже не кимоно, а другое, светло-синее.
– В другой раз, – сказал он, – я уже выхожу. Подай лучше полотенце.
Подав полотенце, она и не подумала выйти, преспокойно смотрела, как он вытирается, затем облачается в халат.
– Пх’идумала! – когда они вышли из ванной в гостиную, воскликнула вдруг она. – Сейчас поедем к моим дх’узьям!
– К друзьям? – удивился фон Штраубе. – А что у тебя за друзья? (Про себя подумал: уж не глухонемые ли? То-то будет веселье!)
Она – дидя дитём! – разожглась от первой же искры желания, вцепилась в руку:
– Поехали, пх’авда! У меня хох’ошие дх’узья, тебе будет интех’есно. А я покажусь, какая я кх’асивенькая в новом! Пожалуйста, хоть на часик! Потом вех’немся, и тогда – любовь, любовь!
Хотя настрой у него был не для светских раутов, слишком далеко сейчас витали мысли, но так она, по-детски ластясь, просила, что отказать он не смог.
– Ладно, – кивнул, – поехали.
Радости не было предела. От счастья она взвизгнула, повисла у него на шее, расцеловала в обе щеки, затем, восклицая: "Я тебя люблю! Ты самый добх’енький, самый-самый добх’енький!" – снова убежала в спальню, опять вытряхнула из шкапа на кровать все свои обновки и перед зеркалом стала поочередно прикладывать платья к себе.
Голова все еще была занята другим. Пользуясь тем, что Нофрет не может его слышать (неоспоримое удобство житья с глухонемой), он вдруг в полный голос зачем-то произнес, будто голос его в эту минуту существовал не сам по себе, а был только эхом той далекой памяти:
– Гаспар приходит с Востока…
…Квирл…








