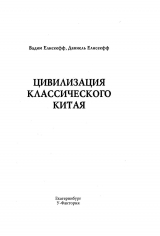
Текст книги "Цивилизация классического Китая"
Автор книги: Вадим Елисеев
Соавторы: Даниэль (Даниель) Елисеефф (Елисеев)
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 41 страниц)
Даже в самом княжестве Цинь современник Хань Фэйцзи могущественный Люй Бу-вэй, бывший ранее одним из самых крупных торговцев, когда стал политиком, стремился самыми разными способами изменить природу человека. Окруженный целой группой интеллектуалов и странствующих философов, он старался рационально организовать нравственную, политическую и космическую составляющие окружающего мира, поскольку практика точного соблюдения соответствующих обрядов способствовала сохранению мирового равновесия. Записи его окружения, впоследствии объединенные в одно произведение, названное «Весна и осени господина Люя» («Люй-ши Чунь-цю») в честь их энергичного лидера, эмоционально восхваляли возвращение к ранней форме религии: «Во всех вещах не должно ни преступать путь Неба, ни уничтожать принципы Земли, ни вносить смятение в законы людей. <…>
Если в первый месяц весны правитель совершает обряды, приемлемые для лета, ветер и дождь не придут в свой сезон, деревья и цветы не расцветут и засохнут, ужас снизойдет на все народы. Если он совершает обряды, предназначенные для осени, чума поразит народ, придут суровые ветры и проливные дожди и в изобилии будут расти зловредные растения. Если же он совершает обряды зимы, дожди и наводнения принесут огромные разрушения, мороз и снег вызовут опустошения и первые посеянные зерна никогда не прорастут».
Казалось, что Небо снова стало очень обидчивым, как и в те времена, когда господствовало только магическое мышление.
Даосизм
Продолжающееся засилие конфуцианства, которое достаточно серьезно влияло на жизнь человека, стремясь полностью ее регулировать, а также идеи этой философии, согласно которым никто не мог избежать обязанностей своего сословия, не должны затмить нам другое направление китайского мышления, для которого характерно исступление мистического или оргиастического безумия, с древности проявлявшегося во время жертвоприношений или крупных сельскохозяйственных праздников. Стремление к неизведанному, любовь к парадоксам и всему иррациональному, восхищение бесконечным течением жизни, секрет которой в какой-то степени оставался в сознании человека, – все это было началом пути, который вел к осознанию всеобъемлющей относительности вещей. Понятие предмета переходит из категории измеримого в категорию неизмеримого. Эти понятия нашли свое место в мышлении людей того времени. Существовавшие с древности понятия инь и ян,элементы, из которых состоит все существующее, одновременно и дополняющие друг друга, и являющиеся антагонистами, в равной степени обеспечивали и течение жизни, и биение гигантского космического сердца. В отличие от зороастрийцев, в китайском мышлении не существовало понятия битвы Добра и Зла, напротив, можно говорить о простом процессе творения путем взаимодополнения. Для того чтобы достичь счастья, человек должен следовать пути, дао.Именно из термина даов XIX в. было создано название этого учения – даосизм.
Согласно традиции считается, что первым правителем, который следовал даосизму, был Желтый император. По нашему мнению, эта традиция обращается к временам столь же древним, как и времена потопа. Фигура Желтого императора одновременно реальна с точки зрения психологии и исторически безосновательна, как и все древние мифы. На самом деле, существует два текста, которые содержат самые ранние отрывки, созданные мыслителями этого философского течения, которое в то время было просто способом существования.
Самый знаменитый из них «Дао дэ цзин» («Путь и добродетель») приписывается Лао-цзы (буквально «старый учитель»), или учитель Лао, который был современником Конфуция. Кажется, что эта личность также относится к категории вымышленных фигур, которые на протяжении поколений стали казаться реальными. Во многом это произошло благодаря остроумным рассказам, которые создали портрет Лао-цзы, описывая его жизнь и тот способ, которым он покинул этот мир. Считается, что он сел верхом на буйвола и направился за перевалы, на далекий Запад, стремясь достичь рая бессмертных.
Текст «Дао дэ цзин», который он оставил, покидая Китай, составлен из множества кусочков, написанных прозой и стихами, содержащих комментарии, в которые были включены старые пословицы и даже магические формулы.
Благодаря тому что в 1973–1974 гг. в знаменитом городе Мавандуй (Хубэй) был найден вариант текста, созданный до периода Хань, а единственный существовавший до этого экземпляр «Дао дэ цзин» датировался именно этим периодом, снова поднялись многочисленные споры о личности этого историка и о послании этого таинственного сборника.
Мы процитируем несколько чжаниз этого произведения.
«XI. Тридцать спиц соединяются в одной ступице, [образуя колесо], но употребление колеса зависит от пустоты между [спицами]. Из глины делают сосуды, но употребление сосудов зависит от пустоты в них. Пробивают двери и окна, чтобы сделать дом, но пользование домом зависит от пустоты в нем. Вот почему полезность [чего-либо] имеющегося зависит от пустоты. <…>
XXXIV. Великое дао растекается повсюду. Оно может находиться и вправо и влево. Благодаря ему все сущее рождается и не прекращает [своего роста]. Оно совершает подвиги, но славы себе не желает, с любовью воспитывая все существа, оно не считает себя их властелином. Оно никогда не имеет собственных желаний, поэтому его можно назвать ничтожным. Все сущее возвращается к нему, но оно не рассматривает себя их властелином. Его можно назвать великим. Оно становится великим, потому что никогда не считает себя таковым. <…>
XLI. Человек высшей учености, узнав о дао, стремится к его осуществлению. Человек средней учености, узнав о дао, то соблюдает его, то его нарушает. Человек низшей учености, узнав о дао, подвергает его насмешке. Если оно не подвергалось бы насмешке, не являлось бы дао. Поэтому существуют поговорки: „Кто узнает дао, похож на темного”, „Кто проникает в дао, похож на отступающего”, „Кто на высоте дао, похож на заблуждающегося”, „Человек высшей добродетели похож на простого”, „Великий просвещенный похож на презираемого”, „Безграничная добродетельность похожа на ее недостаток”, „Распространение добродетельности похоже на ее расхищение”, „Истинная правда похожа на ее отсутствие”.
Великий квадрат не имеет углов; большой сосуд долго изготовляется; сильный звук нельзя услышать; великий образ не имеет формы.
Дао скрыто [от нас] и не имеет имени. Но только оно способно помочь [всем существам] и привести их к совершенству». [28]28
Перевод Ян Хиншуна
[Закрыть]
На самом деле, существуют все основания полагать, что эта редакция является еще более ранней, чем о том говорит легенда. Между тем, даже если это произведение действительно содержит отрывки, датирующиеся не ранее чем серединой III в. до н. э., в которых понятия иньи януже имели рациональные определения, «Дао дэ цзин» все равно является собранием религиозных концепций, таких же древних, как сама китайская цивилизация.
Совсем иначе дело обстояло с прекрасными текстами Чжуан-цзы (369–286 до н. э.), составление которых свидетельствует о значительном развитии философской мысли. Уже через два века после смерти двух личностей-эталонов, Конфуция и Лао-цзы, китайское мышление создало свои структуры классификации. Количество философских школ резко увеличилось.
Чжуан-цзы родился в царстве Сунн, к юго-востоку от Великой Китайской равнины. Некоторое время он занимал незначительную чиновничью должность, однако предпочел провести большую часть своей жизнивдали от волнений того времени. Он презирал принуждение, которое казалось ему греховным по отношению к гуманности и мирозданию в целом: «Ян Цзыцзюй пришел к Лао Даню и сказал: „Предположим, в мире появится человек чуткий, деятельный, знающий, наделенный ясным умом и не ведающий усталости в деле постижения Пути. Можно ли сравнить такого с просвещенными царями белых времен?”
– Для истинно мудрого все это – оковы и путы царской службы, они изнуряют наше тело и понапрасну волнуют наше сердце, – ответил Лао Дань. – К тому же красивый узор на шкуре тигра и леопарда привлекает охотника, а самую ловкую обезьяну и самого усердного пса первыми сажают на поводок. Разве можно сравнить такого человека с просвещенными царями?
– Могу ли я узнать, как управляет просвещенный царь? – спросил Ян Цзыцзюй.
Лао Дань ответил: „Когда правит просвещенный царь, его деяния распространяются на весь мир, но как бы не от него исходят, его власть передается всем вещам, но люди не ищут в ней опоры. Он правит во славе, но никто не воздает ему хвалу, и каждому он дает жить в свое удовольствие. Он укореняется в Безмерном и пребывает в Отсутствующем». [29]29
Перевод В. Малявина
[Закрыть]
Понятие «Отсутствующего» или «ничто» у даоистов и его следствие, знаменитый призыв к недеянию ( у-вэй), не должны расцениваться как простой способ оправдать свою леность. Напротив, этот принцип являлся источником непрерывного труда по адаптации к глубинным течениям мира. Он был гарантией свободы и расцвета индивидуальности. Даже смерть с этой точки зрения становилась дополнением жизни, необходимым изменением бытия, одним из космических превращений: «У Чжуан-цзы умерла жена, и Хуэй-цзы пришел ее оплакивать. Чжуан-цзы сидел на корточках и распевал песню, ударяя в таз. Хуэй-цзы сказал: „Не оплакивать покойную, которая прожила с тобой до старости и вырастила твоих детей, – это чересчур. Но распевать песни, ударяя в таз, – просто никуда не годится!”
– Ты не прав, – ответил Чжуан-цзы. – Когда она умерла, мог ли я поначалу не опечалиться? Скорбя, я стал думать о том, чем она была вначале, когда еще не родилась. И не только не родилась, но еще не была телом. И не только не была телом, но не была даже дыханием. Я понял, что она была рассеяна в пустоте безбрежного Хаоса. Хаос превратился – и она стала Дыханием. Дыхание превратилось – и стало Телом. Тело превратилось – и она родилась. Теперь настало новое превращение – и она умерла. Все это сменяло друг друга, как чередуются четыре времени года. Человек же схоронен в бездне превращений, словно в покоях огромного дома. Плакать и причитать над ним – значит не понимать судьбы. Вот почему я перестал плакать». [30]30
Перевод В. Малявина
[Закрыть]
Охватывая всю жизнь в целом, отбрасывая аргументы обычного ума, источника пристрастий, а значит, и всех бед, мудрец успокаивается благодаря своей мечте осознать все творение целиком. Из этого же исходят шаманы в своих «путешествиях», во время которых человек переносится к границам мироздания: «Совершенный человек живет духовным! Даже если загорятся великие болота, он не почувствует жары. Даже если замерзнут великие реки, ему не будет холодно. Даже если молнии расколют великие горы, а ураганы поднимут на море волны до самого неба, он не поддастся страху. Такой человек странствует с облаками и туманами, ездит верхом на солнце и луне и уносится в своих скитаниях за пределы четырех морей. Ни жизнь, ни смерть ничего в нем не меняют». [31]31
То же.
[Закрыть]
Так выглядит философское учение Чжуан-цзы. Оно написано прекрасным языком и состоит из непрерывного ряда сравнений, аналогий и аллегорий, тем более смелых, поскольку образованные люди никогда не пренебрегали использованием парадоксов, так как при удобном случае их использование казалось эффективным.
Существует традиция, которая слабо подтверждается фактами, но зато кажется очень правдоподобной, она связывает Чжуан-цзы с целой группой философов-диалектиков, таких как Хуэй Ши (380–300 до н. э.) и Гунсунь Лун (320–250 до н. э.). Чжуан-цзы сожалел о том, что они чересчур озабочены мирской славой: «Из числа любителей рассуждать Хуань Туань и Гунсунь Лун внушали людям изощренные мысли и изменяли их представления. Они умели победить людей на словах, но не могли покорить их сердца – в этом заключалась их ограниченность. Хуэй Ши день за днем упражнялся в спорах, но прослыл выдающимся человеком только среди любителей спорить – вот и все, чего он добился. Однако же сам он считал свои рассуждения непревзойденными в целом мире…Он принимал за истину все, что противоречило людским мнениям, и хотел приобрести славу непобедимого спорщика…Хуэй Ши рассуждал обо всем подряд, а в итоге лишь приобрел известность умелого спорщика. Как жаль, что Хуэй Ши впустую растратил свой талант и гнался за соблазнами света, не умея сдержать себя. Он презрел свой голос ради пустого эха и свою тень ценил больше собственного тела. Как это прискорбно!» [32]32
Перевод В. Малявина
[Закрыть]
«Школа имен» («мин цзя»)
Основной проблемой, с которой сталкивались все мыслители плодотворной для них эпохи Борющихся Царств, независимо от того, были ли они конфуцианцами или даоистами, была проблема языка. Вопрос о языке всегда оставался одним из самых сложных в китайской истории. Язык действительно был очень неудобным, иногда представителям разных поколений, профессий и социальных групп было трудно понимать друг друга, а слова могли менять свой смысл. Китайские философы посвящали много времени попытке выразить самые разные понятия посредством сходных слов. Если европейцы могли прибегнуть к использованию греческих или латинских корней, а японцы обращались к бесчисленным китайским терминам, точно определяя их значение, благодаря произношению и тому, в какую эпоху было заимствовано это слово, то Китай, прародитель цивилизаций Дальнего Востока, был лишен подобных средств. Именно этим объясняется существование бесчисленного количества комментариев и постоянная путаница, которая затрудняет понимание многих философских школ. Отсутствие различий между единственным и множественным числом, невозможность точно понять, в каком времени употреблен глагол, отсутствие пунктуации в текстах приводит к тому, что невозможно определить индивидуальные формы слова. Все это способствует двусмысленности языка, в котором понимание значения произнесенной фразы базируется на том, в какой тональности она произнесена, несмотря на то что в большинстве случаев она еще и упрощалась, для того чтобы ее легче было прочесть.
Проблема выражения своих мыслей и общения была поставлена с особой остротой философами IV–III вв. до н. э., когда они заметили, что используют термины, такие же древние, как и сама китайская цивилизация, причем за прошедшие столетия эти понятия обрели множество смыслов, часто противоречащих друг другу.
Диалектическое использование парадоксов было средством, которое позволило постоянно сомневаться во всем, анализировать идеи, которые содержало слово именно как слово: вот почему традиция называет эту группу философов «школой имен» («мин цзя»). Впрочем, более точным переводом этого названия будет «семантическая школа».
Стремясь установить точное значение каждого понятия, философы «мин цзя» были единственными, кто затронул основы этой проблемы. Все остальные стремились присвоить словам разные значения.
Если бы диалектики были бы немного более мудрыми, если бы они чуть меньше увлекались играми красноречия, к которым, впрочем, китайский язык приспособлен меньше, чем к составлению письменных текстов, все интеллектуальное будущее могло поменяться. Если бы развитие теоретических основ логики было подкреплено значительным материальным развитием Китая той эпохи, то, без сомнения, эта страна намного раньше Европы направила бы развитие мира по пути технологической эволюции.
Глава третья
ПЕРВЫЙ ИМПЕРАТОР И ДИНАСТИЯ ХАНЬ
На протяжении III в. до н. э. экономическое положение разных районов Китая, несмотря на то что их ресурсная база была весьма различной, начало выравниваться. Возможно, это было вызвано распространением железа. В целом каждый из регионов наконец преодолел то случайное отставание, которое отделяло его от более развитых соседей. Население увеличивалось, порождая трудную проблему четкого определения приграничных зон. Властям приходилось предвидеть существование населения и вне границ небольших сельских общин, и вне границ городов. Развитие цивилизации все больше и больше зависело от территории всей страны. В повседневной жизни экономический подъем объяснялся двумя факторами: тем, что новые вещи и идеи распространялись повсеместно, и тем, что люди видели, как меняется мир вокруг них.
Если говорить о верхушке социальной лестницы, то культы древних великих семей, от которых произошли правящие кланы, давно устарели, и культы гегемонов также находились в упадке. Начались изменения, которые казались необратимыми.
В народе эти перемены, напротив, казались более заметными и нарушающими естественный ход вещей. Торговцы становились все более влиятельными, причем их значение постоянно росло; даже внутри крестьянских общин началось социальное расслоение: мелкие земледельцы постоянно беднели, рядом с ними появлялись богатые землевладельцы. Мелкие земельные собственники не обладали железными орудиями труда и были вынуждены, влезая в долги, брать их взаймы у своих богатых соседей. В качестве оплаты они вынуждены были отдавать часть своего урожая, а постепенно и свою землю. Существовавшая до этого идея о том, что вся земля принадлежит государству, рухнула.
Впрочем, благодаря постоянной угрозе варварской опасности всегда сохранялось ощущение, что более чем очевидное процветание Великой равнины остается лишь игрой случая. Северные государства Цинь, Чжао и Янь струдом сдерживали давление прототюркских племен сюнну, численность которых все время увеличивалась. Эти племена проживали на территории современной Монголии. Защищенные относительно низким, но хаотичным рельефом, сюнну совершали набеги на богатые китайские деревни, а затем исчезали, прячась в запутанной системе холмов. Именно тогда оседлое население осознало потребность в защите общей цивилизации, которой угрожал хищный безжалостный враг.
Природные бедствия неотступно преследовали Китай. Философы и ученые искали любые возможности, позволяющие предотвратить вред, который в этих условиях наносила стране раздробленность. В то время как война и торговля благоприятствовали развитию государств Древнего Китая, эти катаклизмы наносили ущерб всему континенту. Так родилась идея о том, что изолированное, полагающееся только на свои силы государство никогда не сможет изменить течение таких мощных рек, как Хуанхэ и Янцзы.
Именно в таком психологическом климате, когда постоянно ощущалась угроза цивилизации как таковой, царство Цинь, богатое металлом и зерном, могло стать вестником судьбы. Благодаря тонкой игре на союзах «по долготе» или «по широте», т. е. объединяя страны, располагающиеся на оси север – юг или запад – восток, а также используя свою военную мощь, это царство стало наследником «Мандата Неба», который не сохранили павшие династии древних правителей.
Его молодому правителю Ин Чжэну (259?—210 до н. э.) удалось воплотить в жизнь свою мечту – распространить власть принадлежащего ему царства на весь китайский континент. Недаром даже на далеком Западе именно название Цинь (европейский термин Chineили China) стало обозначать мир китайской цивилизации.
Цинь Шихуанди и приход к власти династии Хань
Создатель Китайской империи со временем превратился в легендарного персонажа, в существо, которое несет в себе одновременно и ростки будущего, и то, что могло погубить их. На протяжении веков правители не прекращали соотносить себя с образом Первого императора, находя в нем одновременно то лучшее и то худшее, что было в них самих.
Когда в 221 г. до н. э. молодой правитель царства Цинь принял имя Шихуанди, «первый император»; создав этот неологизм, он поднял важную проблему о философской сущности власти.
Стоит помнить о том, что Ин Чжэн по своему происхождению был всего лишь ваномцарства Цинь. Следовательно, он носил титул, который другие считали наделенным большей законностью, чем титул главы государства, которым когда-то обладал правитель Чжоу. После того как династия Чжоу потеряла свое политическое и религиозное значение, число носителей этого титула умножилось, поскольку его начали принимать гегемоны. Теперь же объединение княжеств, которые были устроены по единой модели, и появление единого верховного правителя вновь вывело на первый план проблему поддержания главой государства космического порядка, представление о котором было утрачено. Основываясь на древний мифологии, согласно которой когда-то миром правили пять «высших правителей» ( хуан) и три «государя» ( ди), мудрецы составили из этих понятий новый титул – хуанди.Мы обычно переводим его как «император», однако его более точным эквивалентом, по нашему мнению, является титул «Цезарь Август» у римлян. В какой-то мере использование в обращении именно титула хуандивыражало вездесущность и могущество правителя, хозяина всего цивилизованного мира.
Именно с того времени ради заботы о сохранении мирового равновесия, а границы цивилизованного мира совпадали с границами pax sinica, [33]33
Pax sinica – китайский мир (лат.)
[Закрыть]были точно определены имперские ритуалы и названия, которыми они обозначались. И те и другие были объявлены запретными, и тайна стала основным принципом управления, чтобы правитель, свободный от любого человеческого влияния, мог полностью отдать себя следованию Пути. Исполняя, как и правители древности, двойственные функции религиозного и светского лидера, правитель находился в одиночестве на верхушке социальной пирамиды, с которой его больше ничто не связывало. Так оригинально Китай воплотил свою идею о божественном праве на власть.
Лишенные своего изначального магического ореола и облаченные в одежды хранителей закона, образы правителей прошлого вновь вышли на первый план. Но если раньше, в период Чжоу, их авторитет использовался для обеспечения существования общин, которые они объединяли и ассимилировали, то теперь их использовали с другими целями: избавиться от конкурентов, запретить возможность существования нескольких государств.
Император, как и его современники, верил в то, что пять простых элементов – вода, дерево, земля, огонь и металл – в своем сочетании порождают все сущее. Вокруг этих концепций, таких же древних, как и сама китайская цивилизация, развилась целая философская система, создание которой приписывают философу из царства Ци – Цзоу Яню (320–270 до н. э.). Император воспользовался этой системой, он отождествил свою династию со знаком воды, поскольку контроль над системами ирригации был задачей всех правителей начиная с самых ранних периодов. В соответствии с традиционным представлением о космических связях между понятиями, со знаком воды также были связаны зима, черный цвет и число шесть. В связи с этим знамена и одежды императора стали черными, для обозначения огромной массы крестьян использовалось слово «черноголовые». Шесть стало сакральным числом, например важным символом было наличие шестого пальца на ноге. Число спиц в колесе и количество лошадей, запряженных в колесницу, тоже всегда было равно шести. Также нужно отметить, что символ воды соответствовал понятию инь,т. е. женского начала, которое, в свою очередь, ассоциировалось с темнотой и севером. Холодная строгость закона стала основным принципом управления страной.
Из значительных личностей этой переходной эпохи, без сомнения, следует отметить Ли Сы, который стал первым министром империи в 214 г., а умер в 208 г. до н. э. Ли Сы происходил из царства Чу, но так как он был преданным слугой Лю Бувэя, то внес огромный вклад в развитие победы своей новой родины Цинь. Именно он добился полной и обязательной отмены не только местных феодальных иерархий, но и упразднения всех привилегий, которые у них существовали. Он провел разоружение всех подданных империи, которые с этих пор находились под полным контролем центрального правительства. Впрочем, подобные меры, примененные к столь обширной территории, рисковали остаться лишь мертвыми буквами. Однако создается впечатление, что ему удалось добиться требуемого эффекта. Так Сыма Цянь сообщает, что, когда народ восстал, чтобы положить конец тирании династии Цинь, ему приходилось срубать и затачивать ветки деревьев для того, чтобы сделать себе оружие. Все древнее вооружение необходимо было отнести императору, который приказал переплавить его и отлить двенадцать антропоморфных статуй.
Отказавшись от кодексов былых времен, основывавшихся на местном обычном праве, судьи использовали единую систему законов, которая действовала в любом уголке империи. Поднебесная была разделена на 36 (шесть раз по шесть)провинций (цзюнь).Они, в свою очередь, делились на префектуры (сянь),округа (сян),кантоны (дин)и деревни (ли).Таким образом, на всю Поднебесную была распространена уже опробованная административная система, которую в царстве Цинь использовали с 350 г. до н. э. В действительности, правители Цинь заимствовали ее в царстве Чу, так как менее жесткая, по сравнению с Севером, структура семьи благоприятствовала относительно раннему формированию развитой административной системы.
Первый министр (сян-сян)и командующий войсками (тай-вэй)подчинялись лично императору, возглавляя соответственно гражданское управление и военное командование. Они командовали огромной массой чиновников, которые входили в иерархию, распространявшуюся на всю территорию империи. Наделенные двойным знаком – символом власти императора, которую они представляли, государственные служащие заботились о высокой производительности труда крестьян и ремесленников. Усердие чиновников, а особенно продуктивность труда, строго контролировалось: писцы императорской канцелярии получали право на отдых только после того, как исписывали около тридцати килограммов, в наших единицах измерения, деревянных или бамбуковых табличек, которые позднее изготовлялись из более удобных и легких материалов, например из шелка.
Такое стремление к производительности принесло свои плоды. Император служил в этом примером, привлекая на свою службу мудрецов и инженеров, которые приходили из самыхразных регионов Китая. Например, знаменитый инженер-гидравлик Чжэн Гуо, родившийся в царстве Хань, участвовал в проведении важных работ в Шэньси.

Первое административное деление империи
Символом перемен, как материальных – в торговле, так и духовных – в философии, в свою очередь, стало введение единых стандартов. Правительство ввело единую систему мер и весов, создало общую денежную систему. В эпоху Борющихся Царств хождение имели живописные бронзовые деньги, причем формы их в разных царствах очень сильно разнились. Это могли быть ножи, лопаты и кругляшки, получившие название «нос муравья». Император запретил хождение этих денег, введя вместо них общие для всей Поднебесной монеты. Они были круглой, как Небо, формы, с квадратным, как Земля, отверстием посередине. Назывались эти монеты сапек,их форма осталась неизменной до сих пор. Самые простые монеты делались из железа, двойную стоимость имели монеты из бронзы. Для переноски деньги нанизывались на нить – знаменитые «связки».
Письменность, которой император отводил лишь утилитарное значение, также была приведена законами в единую систему и стандартизирована. Действительно, вплоть до этого времени каждое государство, используя общие идеограммы, очень сильно меняло их начертание в соответствии с частными эстетическими предпочтениями или с местными обычаями. Так, мы можем любоваться красотой «знаков-птиц» ( няочжуань),которые часто находят на юге, на территории царств Чу и Юэ, и на севере, в царствах Цзинь и Янь. Речь идет о знаках, тонкие и стилизованные линии которых напоминали следы лапок и клювов, оставленных бегущей птицей. Однако с правления хуанди стало обязательным, чтобы все императорские указы и административные документы были написаны однообразно и понятно. Именно поэтому император в 219 г. до н. э. создал в Ланъе, в провинции Шаньдун, специальные стелы, надписи на которых были эталоном национальной письменности. В эту эпоху китайский язык, соответствующий нормам Первого императора, приобрел новую ценность как образец и посредник в общении между подданными всей империи, он впервые возвысился над местными диалектами.
Эти колоссальные усилия могли бы остаться напрасными, если бы не были улучшены коммуникации Поднебесной. Император начал строительство гигантской системы дорог, которые должны были пройти от столицы во все районы страны. Сегодня археологи открывают ее следы там, где она проходила. Большая имперская дорога востока пересекала морские регионы, дорога юга следовала вдоль течения Голубой реки, дорога севера доходила до пограничных областей империи, туда, где кочевали варвары. Дороги прочно покоились на земляных насыпях, по ним проезжали повозки высоких чиновников и торговцев, военные конвои, которые могли принадлежать и внутренним войскам, и направляться в очередной завоевательный поход. Дорожная сеть Первого императора неизбежно вызывает в памяти римские дороги, которые в эту же эпоху прокладывались по контролируемым территориям.
Нужно отметить, что установившийся мир, унификация системы мер и весов, все эти перемены, столь благоприятные для торговли, отнюдь не привели к созданию буржуазного класса торговцев. Легисты относились к торговцам с большой подозрительностью, обвиняя их в присвоении тех благ, которые должны принадлежать государству. С другой стороны, конфуцианцы тоже относились с презрением к людям, стремящимся к прибыли, но не обладающим мышлением труженика. Таким образом, торговцы подвергались резкой критике всеми философскими школами, возможно, именно потому, что они держали в своих руках все нити экономической жизни страны. Вплоть до XX в., несмотря на все свое богатство, этот слой оставался в самом низу социальной лестницы. Насмешки первого из императоров над торговцами так никогда и не были забыты.
Конфликты не меньшей степени важности существовали между интеллектуалами и правительством. Каждый из философов сохранил с предыдущих эпох привычку высказывать вслух свое мнение. Ли Сы плохо переносил критику, которую его реформы не замедлили вызвать. Его раздражение вылилось в драконовские меры, продиктованные яростью: «В прошлом Поднебесная пребывала в раздробленности и смутах, никто не мог ее объединить, и поэтому имелись разные чжухоу.Все на словах восхваляли старое, чтобы нанести ущерб современному, приукрашивали [прошлое] пустыми словесами, чтобы привести в беспорядок реальность. Люди нахваливали свои собственные идеи, чтобы тем самым отрицать установленное сверху. Ныне вы, Ваше величество, объединили Поднебесную, отделили белое от черного и установили одно почитаемое людьми учение. Однако частные школы, поддерживая друг друга, отрицают законы и установления; каждый раз, услышав об издании указа, тут же начинают обсуждать его, исходя из своих собственных идей. В душе они его отрицают и занимаются пересудами в переулках. Они делают себе имя, понося начальство, считают заслугой использование других учений. Собирая вокруг себя толпы людей, они сеют клевету. Если подобное не запретить, то наверху ослабнет положение правителя, а внизу будут образованы группировки.








