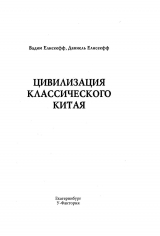
Текст книги "Цивилизация классического Китая"
Автор книги: Вадим Елисеев
Соавторы: Даниэль (Даниель) Елисеефф (Елисеев)
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 34 (всего у книги 41 страниц)
Позднее теория Чэн И и Чжу Си получила название «учения о человеческой природе и всеобщем порядке» («син. ли сюэ»).Европейские миссионеры назвали ее неоконфуцианством – в XVI в. эта школа уже была единой и сформировавшейся.
В эпоху Сун ее успех был менее очевиден. Партия Ван Аньши считала Чэн И грозным противником. Беды философа не закончились, когда реформатор попал в опалу, поскольку он был внесен в черный список еще в 1087 г.Сто лет спустя Чжу Си, в свою очередь, тоже пришлось претерпеть месть министра Хань Точжоу (1150–1202), который завидовал тому значительному доверию, которое стареющий учитель завоевал при дворе.
К соперничеству политического характера следует добавить философские противоречия, порожденные крайним разнообразием взглядов, характерных для плодотворного периода правления династии Сун.
Так, например, Лу Цзююань (или Лу Сяншань, 1139–1192), один из лучших друзей Чжу Си, напоминал в манере последователей доктрины чаньо значении интуиции в достижении высших сфер знания. Он утверждал, что различия между понятиями ции линосят исключительно словесный характер: «Сердце – одно и принцип – один. Совершенная истина сводится к единству. Важнейший принцип никогда не может быть двойственным. Сердце и принцип никогда не могут быть разделены. Вот почему Конфуций говорил: „Есть центральная идея, которая проходит через все мои доктрины”, а Мэн-цзы говорил: „Путь один и только один”».
Лу Сяншань стал основателем «доктрины сердца», которая позднее была развита в форме квиетизма [110]110
Квиетизм (франц.quietisme от лат.quietus – спокойный, безмятежный) – религиозно-этическое учение» проповедующее мистически-созерцательное отношение к миру, пассивность, спокойствие души, полное подчинение божественной воле, безразличие к добру и злу, раю и аду.
[Закрыть]конфуцианского образца знаменитым Ван Янминем (или Ван Шоужэнем, 1473–1529).
Таким образом, можно сказать, что философия периода Сун – это философия узлового момента в развитии китайской цивилизации или даже в ее высшей точке; философы этой эпохи – певцы древности, которые не были ее рабами, носители буддийского духа, не спрятавшегося в пессимизме философии, которую китайцы всегда очень плохо понимали. Впрочем, возможно, основное содержание этой философии, благодаря ее мудрости, сдержанности ее взглядов и пустословию, от которого она не была свободна, несло в себе зародыш быстрого разрушения, которое ничто не могло остановить. Хотя Чжу Си и был святым Фомой Аквинским Китая, но в этом мире до XX в. так и не было Возрождения.
Книгопечатание
Книгопечатание стало основным средством для распространения и увеличения числа идей, которые легко могли пережить любые метаморфозы, оставаясь заключенными в старые рамки мышления, которые их объединяли.
Китай изобрел книгопечатание раньше, чем любая другая страна, это непреложная истина. Первое бесспорное упоминание о книгопечатании в Китае можно найти в тексте, автором которого был чиновник из Сычуани. Он, не зная того, поднял очень важную проблему свободы печати: «…[29 декабря 835 г.]…Фэн Сю [чиновник из восточной Сычуани] в своем донесении задал вопрос об императорском указе, запрещающем печатать дощечки с календарями. Провинции Двух Чуаней, Цзяньнань и Жуайнань, печатали все календари при помощи дощечек и продавали их на рынках. Каждый год, до того как канцелярия астрономии предоставила свой доклад об утверждении нового календаря, эти печатные календари уже наводняли империю. В этом есть [что-то] противоречащее правилам уважительной передачи [нового календаря, утвержденного императором]. Вот почему был издан указ, запрещающий [частную печать]».
Однако можно запретить только то, что становится достаточно заметным явлением, а выражение «наводняли империю», вероятно, не является простой стилистической оговоркой. Среди манускриптов, найденных в Дуньхуане, находилась и печатная «Алмазная сутра», датирующаяся 868 г. Таким образом, можно сделать вывод, что книгопечатание уже получило широкое распространение. Но на сегодняшнем уровне знания мы не можем дать датировку более точную, чем столетие. Нужно вернуться в Сычуань. Если верить историку Сыма Гуану, то именно правитель Шу (Сычуань) за семь лет до начала правления династии Сун, в 953 г., отдал первый официальный приказ выгравировать на дереве и отпечатать классические тексты: «С последних лет династии Тан учебные заведения были покинуты повсюду, где они располагались. У Чжаои из Шу (Сычуань) израсходовал миллион [сапеков] из своих собственных средств, чтобы основать учебное заведение. Более того, он потребовал, чтобы на [деревянных] дощечках были выгравированы девять классических текстов. Правитель Шу дал свое согласие. После этого обучение просвещенных мужей вновь расцвело в государстве Шу».
Недавно изданные работы подчеркивают, насколько широко и универсально было распространение книгопечатания. В Кайфэне по приказу Фэн Дао (882–954) также начали печатать классические тексты. Раскопки в районе Янцзыцзян регулярно приносят новые тексты, напечатанные в ту же эпоху. Тем не менее самым искусным оставалось производство книг в Сычуани. В 931 г. Муцю Цзянь воспроизвел при помощи ксилографа знаменитую древнюю антологию поэзии Вэнь Сюань. Там же были отпечатаны первые словари, а в период между 972 и 983 гг. – буддийский канон. Позднее ученый Ван Минцин (1127–1200) отметил, что «сегодня [книгопечатание] распространилось по всей империи, но не больше, чем это было в Шу [Сычуань]». Кажется, что этот богатый регион, остававшийся автономным и своеобразным на всем протяжении китайской истории, действительно способствовал развитию книгопечатания в Китае.
Тем не менее нужно подчеркнуть особенности и локальные границы этого изобретения, которое Дальний Восток и Запад понимали совершенно по-разному. На самом деле, будет небесполезным узнать, какое точное значение вкладывалось в такие слова, как «книгопечатание» и «печатать». Имеются два технических определения: первое, широкое, мы находим в словаре Littre:«печатать – создавать или оставлять оттиск, клеймо, черты или фигуры… на чем-либо». Другое, дающее более узкую дефиницию, сформулировано словарем Robertследующим образом: «книгопечатание – совокупность техник, позволяющих воспроизводить текст при помощи тиснения набора перемещаемых знаков». В последнем случае, когда мы говорим о Европе инкунабул [111]111
Инкунабула (от лат.incunabula – колыбель) – всякая книга, напечатанная на начальном этапе книгопечатания (1450–1500), после изобретения Иоганном Гуттенбергом (около 1400–1468) подвижных металлических литер. По оценкам, всего было выпущено около 40 тыс. инкунабул (из них около 30 000 составляют книги), сохранившихся приблизительно в 500 тыс. экз.
[Закрыть]и об истории книг, для нас не существует книгопечатания без типографий. Но мы видим, что китайцы использовали главным образом ксилографию, тиснение при помощи дощечек, на которых был вырезан необходимый рельеф.
Наконец, нужно вспомнить, что на Западе в конце Средневековья печатали при помощи гравированных дощечек. Это была «Библия для бедных», которая предназначалась для тех людей, которые, умея читать, не могли позволить себе расходы на манускрипт из тонкого пергамента. Тем не менее очевидное первенство китайских изобретателей не может быть поставлено под сомнение. Качество их работы стоит отметить не только из-за давности изобретения или его совершенства, но и из-за использования нестираемых чернил и незаменимого материала – бумаги.
Впрочем, печать могла быть произведена на любом материале: четверть тиража знаменитой Библии в 42 строки Иоганна Фуста, компаньона Гуттенберга, т. е. 13 экземпляров, были отпечатаны на пергаменте. Китайцы могли печатать и на шелке. Но такое производство не могло приносить прибыли. Поэтому можно сказать, что самым значительным и самым незаменимым вкладом Китая в развитие человечества является изобретение бумаги, которая получила распространение на Западе как раз в эпоху Сун.
Традиция, мы упоминали о ней, когда говорили об эпохе Хань, приписывает ее изобретение евнуху Цай Луню (II в. до н. э.). Он возглавлял императорские мастерские (шан фан лин)и действительно написал донесение о производстве бумаги, когда ее изобретение еще находилось в процессе. Он стал покровительствовать этому изобретению, автор которого остался неизвестным, как, впрочем, и изобретатели кисти, фарфора и самого книгопечатания.
Несколько дошедших до нас образцов показывают, что бумага совершенствовалась очень медленно: светло-желтые листки V в. н. э. сменились элегантными листками золотого цвета VI–VII вв., которые, в свою очередь, уступили в VIII в. голубой бумаге. В V–VI вв. бумага стала известна в Центральной Азии, затем она проникла в Индию. В 751 г. битва на реке Талас, которая одновременно проложила самую восточную границу продвижения арабов и самую западную – Китая, породила важнейшие культурные феномены. Китайские пленники, увезенные в Самарканд, устроили там бумажные фабрики, и производство бумаги постепенно завоевало мусульманский мир вплоть до Магриба, а затем достигло и Испании. В XII в. оно появилось в Южной Франции и распространилось по всей Европе. Меньше чем через триста лет появились первые печатные книги. Таким образом, можно сказать, что европейское книгопечатание порождено китайским открытием, хотя их техника существенно отличалась, но это производство не могло существовать без бумаги, а бумага была китайским изобретением.
Искусство воспроизводства текстов при помощи способа, отличающегося от рукописного копирования, родилось целой серией технических изобретений, которые использовались для копирования знаков с давних пор. Несколько разных путей, таких как тиснение и использование печатей, вели к одному результату.
Тиснение – это процесс, при котором гибкий лист бумаги смачивался чернилами. Перед этим он слегка увлажнялся, а затем высушивался, чтобы принять форму объекта, выгравированного при помощи легкого рельефа или впадин и углублений. Таким образом, на нем оставалось изображение или прямой оттиск орнамента или надписи.
Истоки создания техники тиснения малоизвестны. Мы знаем только, что в эпоху Тайцзуна, правителя династии Тан (626–649), тиснение уже достигло высокого качества. Это позволяет предположить, что как обычное явление оно существовало не позднее VI в. Тем не менее возможности тиснения кажутся ограниченными: если оно и позволяет воспроизводить изображения или тексты, то требует тонкого шелка, огромного количества времени и в связи с этим не позволяет существенного размножения оригинального документа.
Совсем иначе дело обстояло с печатями, которые требовали, чтобы на них были надписи и зеркальное отображение знаков. Печати были прямыми предшественниками книгопечатания. В связи с этим необходимо уточнить определения, так как по-французски слово «печать» обозначает одновременно и штамп, и тот пластичный материал, на котором остается оттиск. Европейские средневековые печати-штампы были гравированы при помощи углублений, их обратная сторона была из очень твердого материала. В Китае, если исключить несколько древних образцов, только печати-штампы периодов Хань и Шести Династий, наложенные на глину или на воск, напоминали западный тип. Впоследствии получила развитие практика нанесения краски, и штемпели, смачиваемые краской, окончательно получили распространение в ущерб печатям: легкий слой черных чернил или киновари лучше подходил для таких тонких носителей информации, как бумага или шелк, чем тяжелые восковые печати, подобные тем, которые в Европе использовались одновременно с пергаментом. На штампе была выгравирована надпись, находящаяся в углублении, обычно она была белого цвета на красном фоне. Впрочем, гдето в конце IV в. получила развитие выпуклая гравюра, а печати, пропитанные киноварью, позволяли создавать красные надписи на белом фоне. Именно выпуклая гравировка могла породить идею ксилографии, для которой требовалось нанесение краски и чистка щеточкой гравированной дощечки.
Насколько возможно сегодня установить, ксилография прежде всего была изобретена и использовалась для того, чтобы воспроизводить буддийские и даосские «прелести». Как и в случае с другими благочестивыми произведениями, их продажа, кроме того, становилась для монастырей неисчерпаемым источником дохода. Поль Пеллио приводит отрывок из «Истории династии Суй» («Суйшу»): «Более того, с помощью дерева [даосские священники] создают „прелести” (инь),на которых они гравируют созвездия, солнце и луну. Задерживая дыхание, они держат их в руках и делают оттиск. Многие больные вылечились [благодаря им]».
Наконец, примерно на половине пути между тиснением и ксилографией находится еще одна техника – гравировка по дереву при помощи незеркальных углублений. Таким образом создавался белый текст на черном фоне.
Вслед за этими относительно простыми процессами быстро получили развитие первые элементы настоящей китайской типографии. В 1040 г. Би Шэн изобрел способ использования подвижных знаков: глиняные модели он помещал на железные пластины и проклеивал их вязкой субстанцией, созданной на восковой основе. Затем все это помещалось в металлический каркас, так создавалась страница текста. Для того чтобы извлечь знаки, было достаточно нагреть основу, что позволяло растопить клей. После этого можно было начинать составление следующего текста. Четыреста лет спустя, в XV в., корейцы также начали использовать подвижные знаки, которые они создавали из свинца, фарфора или дерева. Впрочем, в Китае они оставались практически без употребления, вплоть до того как в XIX в. с Запада в страну не пришли механизированные технологии.
С этой точки зрения китайское книгопечатание действительно оставалась принципиально отличным от своего западного аналога. Печатники империи продолжали гравировать свои дощечки из грушевого дерева или ююбы. [112]112
Ююба, или жожоба, – китайский финик, кустарниковое растение, с древности широко распространенное в Центральной и Восточной Азии, а также в Средиземноморье, на Кавказе.
[Закрыть]Огромное количество знаков в китайской письменности приводили к тому, что использование подвижных знаков становилось долгим и скучным процессом, в отличие от других способов, которые были более рентабельны. В результате использовались более простые техники, которые не давали тех преимуществ в распространении печатных изданий, как европейские изобретения, зато делали себестоимость производства крайне низкой. Основным способом оставалось применение гравированных дощечек, которые можно было оставить про запас и использовать до полного износа. На такую дощечку накладывался тонкий лист бумаги, после чего ее терли щеточкой. В итоге на одной из сторон отпечатывался текст, лист затем сворачивали гармошкой и прикрепляли к кромке. Таким образом, в традиционном китайском печатании, в отличие от Европы, никогда не использовался пресс, как, впрочем, и специальные чернила «для печатания» с высушивающим лаком: обычных чернил, которые использовались для письма, а они были превосходного качества, было вполне достаточно. Таким образом, подобный процесс книгопечатания привел к тому, что китайские издатели, которые не испытывали, как их западные коллеги, давления «общественного мнения», никогда не сталкивались с такими трудностями, как печать при помощи пресса, амортизация материала или рентабельность тиража. За малый период времени они могли без всякого финансового риска изготовить дощечки, предназначенные даже для самых секретных изданий. Ни один текст не мог быть размножен большим тиражом, но зато могло быть издано абсолютно все, даже если круг читателей подобной книги ограничивался несколькими людьми.
В таком виде китайское книгопечатание оказалось идеально приспособлено к условиям Китая правления династии Сун, когда от него требовались не новые идеи, а воспроизводство стандартных приемов. В отличие от процессов, которые происходили на Западе, где гуманисты XVI в. охотно становились печатниками и издателями, китайское книгопечатание намного более благосклонно относилось не к литературным или философским трактатам, а к научным и техническим исследованиям. Ведь их выход в свет способствовал улучшению повседневной жизни, – распространяя накопленные за многие годы теоретические и практические знания.
Современники считали эти знания своим богатством, поэтому сунское правительство всегда издавало законы, запрещающие вывоз печатных книг. Но торговцы не упускали шанса нарушить эти запреты в том случае, если получали интересные предложения от иностранца. Так, мы можем проследить путь энциклопедии, которая называлась «Тайпин Юйлань», состоявшей из тысячи глав (983). Попав в 1100 г. в Корею, она достигла Японии в XII–XIII вв. и в середине XIII в. стала очень ценным подарком, который могли себе позволить образованные люди.
Таким образом, несмотря на официальные запреты, книжное искусство умножило знания иностранцев о блеске китайского знания и литературы.
Литература
Литература периода Сун в обширной истории китайских интеллектуалов занимает слегка приниженное положение по сравнению с блестящей поэзией эпохи Тан и театральным и романтическим расцветом периодов Юань и Мин. Она, прежде всего, состояла из серьезных трудов со справками, наполненных знаниями. Еще их отмечает высокий уровень мышления. Все это привело к тому, что литература периода Сун стала неисчерпаемым источником для блеска последующих эпох.
Проза
В X в., в период политических и литературных новшеств, появилось множество важных сборников, самые известные из которых были составлены Ли Фаном (925–995). Его произведения состояли из коллекции фантастических историй, которыми китайская наука никогда не пренебрегала. Первым был сборник, изданный в 981 г., «Большой сборник эры Тайпин» («Тайпин Гуанцзи»). Затем появилось более серьезное произведение, содержащее сумму всех китайских знаний того времени, заказанное и тщательно изученное императором Тайцзуном (976–997) – энциклопедия «Тайпин Юйлань». Век спустя увидел свет «Сборник разговоров у пруда о мечтах» («Мэнци битань»), автором которого был эрудит Шэнь Гуа (1030–1094). Он собрал «на конце кисти» ( суйби) серию самых разных наставлений и размышлений литературного, научного, художественного свойства, написанных с большой непосредственностью. Еще сто лет спустя появились сборники, о которых можно сказать, что в них отразилась душа эпохи Сун. Это были собрания сказок, самый крупный из которых принадлежал кисти одного автора – Хэн Мэя (1123–1202), а назывался он «Ицзяньчжи». Любопытство и восхищение, свойственные этой эпохе экономического роста и философского возрождения, способствовали распространению очарования энциклопедическим знанием, увлекая всех и историей науки, и историей мысли своей цивилизации. Эти произведения, составленные красивым литературным языком, не отклонялись от существовавшей интеллектуальной традиции. Они были своеобразной вершиной ее социального и научного развития.
Совсем иначе дело обстояло с добродушными рассказами, более близкими народу, которым эпоха Сун обязана большей частью своей самобытности. Впервые в истории империи литература неспеша покинула дорогу, проторенную философией и политикой. Еще более важным моментом было то, что литература поменяла свою социальную среду и стала существовать отдельно от философии. Одним словом, она сделалась общедоступной, создав, таким образом, предпосылки к появлению романов, хотя в Китае были развиты только большие эпические рассказы. Именно из них вышли все остальные жанры китайской литературы. Сказка, фантастика, китайский роман всегда уподоблялись рассказам, интересным для науки, объединяясь в огромный исторический жанр.
Современные исследования подчеркивают относительную скудость китайских мифологических циклов по сравнению с тем, что были созданы в Греции или, если смотреть на Дальний Восток, в Японии. Коль скоро они не входили в рамки истории, приемлемой для разума и династий, были отвергнуты Конфуцием и его школой, эти чудесные рассказы, позднее ставшие практически повсюду источниками для фантастических сочинений, сохранились в империи только в виде суеверий, презираемых просвещенными людьми. Они видели в них только анекдоты, которые хороши для приятного времяпрепровождения, однако чиновники-интеллектуалы не имели привычки тратить время на пустопорожние занятия.
Впрочем, подобная конфуцианская строгость не подавила у простых людей вкуса к пленительным буддийским сказкам, появившимся в эпоху Тан, чтобы популяризировать догмы этой религии. Манускрипты Дуньхуана открывают нам длинные серии подобных рассказов, где смешивались проза и поэзия. Они исчезли когда-то вместе с религией, выражением которой они являлись. К сожалению, мы не обладаем полными письменными свидетельствами, поскольку в основном они передавались сказочниками в устной форме. Они дошли до нас только в общих чертах, в виде памятных заметок.
Впрочем, в период правления династии Сун фантастические рассказы делились на несколько групп и были настолько распространенными, что Су Дунпо (конец XI в.) рекомендовал родителям не позволять своим детям слушать рассказчиков, предостерегая от большой опасности: дети могут неправильно понять услышанное, например восхититься хитрецом Цао Цао, романтичная жизнь которого побуждала рассказчиков к краснобайству. Мэн Юаньлао (1-я пол. XII в.) в своем «Описании Бяньляна» (современный Кайфэн, столица династии Северная Сун) также сообщает о том, что можно услышать несколько видов сказок: романы, воображаемые истории о любви, войне, вымышленных интригах, детективы, буддийские рассказы, исторические рассказы, вдохновленные далекой эпохой Троецарствия (III в.) или более близким периодом Пяти Династий (X в.), которые были богаты героическими сражениями, наконец, басни, которые выдумывал сам рассказчик.
Распространение книгопечатания, доступ к культуре богатого слоя торговцев, которые мало ценили классическую литературу, считая ее слишком сложной и скучной, приводило к распространению новелл или, по крайней мере, их основных сюжетов. Романтическая литература на простом языке, которая на самом деле появилась только в правление династии Юань, а расцвела еще позднее, в эпоху Мин, зародилась именно в период Сун.
От этих первых рассказов до нас дошли «Романтическая история Пяти Династий» и два текста, которые стали источниками для создания самых знаменитых китайских романов. Первый, «История Сюань Хо», действие которого происходит в последние годы правления династии Северная Сун, в эпоху Мин послужил основой романа «Речные заводи» («Шуйху чжуань»). Он рассказывает о жизни и приключения 108 великодушных бандитов, защитников угнетенных, восставших против коррумпированного правительства. Второй текст содержит рассказ о долгом путешествии паломника Сюань Цзана (602–664) в поисках буддийских сутр. Это повествование, вдохновленное индийской фантастикой, после переработки и дополнения различными эпизодами превратилось в знаменитый занимательный роман «Путешествие на Запад» («Сиюцзи»), самое знаменитое фантастическое произведение китайской литературы, где этот жанр не входил в число самых распространенных.
И действительно, классические периоды китайской истории, когда страной руководили интеллектуалы, управленцы, образцы морали для народа, которым они управляли, были очень суровыми. Любой нонконформизм, любая экстравагантность, как в эпоху Тан, исходили от иностранцев или находили себе прибежище в иррациональных даосских и анархических течениях, необходимых и универсальных нишах, существование которых могло допустить репрессивное общество. Личность никогда не жила в настоящем, но всегда осознавала свое положение относительно прошлых или будущих поколений. В связи с этим повседневность, современность, приключение – все это не вызывало интереса. Хэн Май представляет собой интересный пример, когда рассказывает о китайской семье: личность находится в плену у рода, который требует от него все, так как только семья может возжигать ему жертвы после смерти, непременное условие блаженного состояния в потустороннем мире.
Без сомнения, именно поэтому китайская литература, полная резонерства, очень абстрактная, лишенная лирического выражения, долгое время обращалась к проблемам человека только через отражение судьбы умерших, т. е. через историю. В свою очередь, это благоприятствовало развитию аналитического мышления и интеллектуальной порядочности, но, возможно, провоцировало преждевременное истощение фантазии, слишком подчиненной работе летописца. Напротив, литература могла содержать ни с чем не сравнимый фермент критического и научного мышления, который благодаря такому автору, как Сыма Гуан (1019–1086), достиг вершин в своем развитии.
При помощи группы соратников Сыма Гуан составил обширное описание империи под властью правителя и реформатора Шэнь-цзуна, которое называлось «Зерцало всеобщее, управлению помогающее» («Цзы чжи тун-цзянь»).
Для начала Сыма Гуан составил обширный «черновик» в виде хронологической таблицы, в которую он включил уже существовавшие монографии и библиографические источники. Поскольку все элементы составляли связанное единое целое, то переписчик копировал их настолько полно, насколько это было возможным. Когда сюжет казалось невозможным изложить в обобщениях, указывались использованные источники. И наконец, если источники противоречили друг другу, историк должен был сделать выбор, который представлялся ему наиболее рациональным, делая примечание, в котором обосновывал свое решение.
Именно на основании этого огромного черновика, который, как говорили, полностью занимал две комнаты в доме Сыма Гуана в Лояне, он и создавал свое произведение. Он занимался долгими поисками несомненных доводов, таких как хронология, и того, что можно было узнать только с некоторой долей вероятности, как, например, характер человека и связи, существовавшие в обществе. Как и все китайские историки, он не видел, насколько огромным было количество самых разных нитей исторического полотна, людей и событий, которые, переплетаясь, создавали полноценную картину. Кроме того, Сыма Гуан не достаточно серьезно проверял достоверность используемых текстов. Однако он испытывал насущную потребность разъяснить принятые решения и выбранные мнения. Он стремился открывать истину шаг за шагом от известного к неизвестному. Таким образом, можно сказать, что он основал современную историографию.
Поэзия
В эпоху Сун не было такого интеллектуала, который хоть раз не выражал бы свои идеи при помощи поэтических ритмов. Из поколения в поколение молодые кандидаты на официальные должности обучались благодаря этой рифмованной игре, передающей информацию. Добившийся успеха в зрелые годы, политик одинаково хорошо умел передавать свои мысли как стихами, так и прозой. Вот почему история поэзии периода Сун позволяет понять общую историю династии, если смотреть на нее через жизнь человека. Сборники, составленные китайскими эрудитами XVIII в., позволили обнаружить, что в период между эпохами Тан и Сун произошел расцвет поэзии, так как количество поэтов, память о которых сохранилась в последующих веках, практически удвоилось. Впрочем, чтение сунских поэтов иногда оставляет ощущение, что их поэзия была безжизненной.
Писатели этого времени не переставали размышлять прозой, даже если свои мысли они выражали стихами. Такова, скорее всего, была самая яркая черта авторов середины XI в. Рассудительные, умеющие работать в серьезных жанрах, они чаще пользовались поэзией не для того, чтобы передать чувства, а чтобы лучше выразить свою мысль. Обыкновение передавать стихами то, что раньше говорилось прозой, быстро получило распространение, что иллюстрирует блестящая личность поэта Оуян Сю (1007–1072). Поэзия, ставшая повествовательной, приобрела рассудочность и объективность, но потеряла эмоциональность. Ученые размышления или живописные картины повседневной жизни привели к появлению искусного жанра стихосложения. Было написано бесчисленное количество поэм, которые никогда не могли сравниться с восторженностью, отличавшей поэзию предыдущей эпохи.
Мэй Яочэнь (1002–1060), чиновник-интеллектуал, происходивший из провинции Аньхой, дал первый импульс к созданию нового идеала поэзии, используя стихотворения-«лозунги», которым благоприятствовал моносиллабизм китайского языка: «ясность и простота» ( пиндан) – вот что стало основным требованием к создаваемым стихотворениям. Оуян Сю, который восхищался поэтом, загорелся этой идеей:
Учитель Мэй приглашал того, кто чист и лаконичен,
и моет свои крепкие зубы в холодном потоке.
Он пишет стихи на протяжении тридцати лет,
а мы смотрим на него, как школьники…
Его новые поэмы сухи и суровы…
При первом чтении, это как поедание оливок:
чем больше вы их обсасываете, тем лучше становится вкус.
Достижению этой легкости могло помочь многое, и прежде всего язык, насыщенный просторечиями. Мэй Яочэнь через своего последователя Оуяна Сю стал основателем целой поэтической школы, и поэты эпохи Сун, в общем, стали избегать пышных, тщательно обработанных, ярких выражений, свойственных авторам эпохи Тан. Они отказались от драмы, отрицая существование исключительной связи, которая, как еще недавно считалось, объединяла поэзию и страдание.
Они следовали правилам хорошего вкуса, которые почитал Оуян Сю. Вот пример искусного описания созерцания стихами, вдохновленными прекрасным японским клинком:
В ножнах из благовонного дерева, украшенных кожей акулы,
смешивается желтое и белое – медь и бронза.
Сто слитков золота принесли они коллекционеру,
и тому, кто носит этот клинок, не страшны никакие демоны…
Я слышал, как говорили об этой стране,
там, на большом острове,
где почва богата, а нравы добры.
Когда Сю Фу [посол Цинь Шихуанди] совершил туда свое
путешествие,
книга документов не была сожжена,
и все сто ее глав должны сохраниться в Японии…
Классические тексты наших правителей прошлого
были спрятаны у варваров, вдали от бескрайних просторов
зеленых волн,
которые скрывают любые следы!
Это вызывает слезы на глазах.
Кто может рассказать о небольшом ржавом клинке?
Повествование, созерцание, простота, исполненная эмоций, но без мучительных возгласов – вот то, что объединяет поэзию периода Сун.
Чтобы развивать дальше поставленную им задачу, Оуян Сю изложил свои принципы Ван Аньши и Су Дунпо. Оба этих талантливых поэта следовали различными путями и превзошли своего учителя.
Ван Аньши родился в провинции Цзяньси; в 1042 г., в возрасте двадцати одного года, выдержал трудные правительственные экзамены. Этим он обнаружил свой талант, вызвавший внимание Оуяна Сю. Впрочем, молодой человек, казалось, хотел держаться в стороне от высокой политики. Несмотря на расположение мастера, до 1056 г. он предпочитал занимать провинциальные посты. Назначенный в столицу, Ван Аньши впервые встретился с Оуян Сю, по отношению к которому он всегда держался на значительном расстоянии. Это было правильным поведением, так как публичное недовольство, которое вызывал Ван Аньши, было доказательством его честности. Значимость Ван Аньши как политического персонажа часто заставляет забыть о том, что он был великолепным поэтом и теоретиком литературы. Доказательством этого служит то, что китайские историки вплоть до XX в. видели в нем только поэта.








