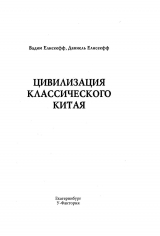
Текст книги "Цивилизация классического Китая"
Автор книги: Вадим Елисеев
Соавторы: Даниэль (Даниель) Елисеефф (Елисеев)
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 41 страниц)
Молодые люди и. девушки встречались в начале нового сезона, во время больших сельскохозяйственных праздников, где обменивались песнями о любви. Эта практика и сегодня в обычае у некоторых народов Юго-Восточной Азии:
Той порой Чжэнь и Вэй
Разольются волнами
И на сбор орхидей
Выйдут девы с дружками.
Молвит дева дружку:
«Мы увидимся ль, милый?»
Он в ответ: «Я с тобой,
Разве ты позабыла?»
«Нет, опять у реки
Мы увидимся ль, милый?
На другом берегу
Знаю место за Вэй я —
На широком лугу
Будет нам веселее!»
С ней он бродит над Вэй,
С ней резвится по склонам
И подруге своей
В дар подносит пионы.
Глубоки Чжэнь и Вэй,
Мчат прозрачные волны,
Берег, в день орхидей
Дев и юношей полный… [18]18
Перевод Штукина
[Закрыть]
Знать, возносившая почести предкам, также пела во время церемоний, которые упорядочивали их жизнь. Они возносили хвалу основателю династии, они молили умерших послать им на будущий год обильные дары или благодарили их за плодородность земли, которая позволяла собрать богатый урожай:
Жизнь была еще слишком неясной для того, чтобы самая большая восторженность вылилась во что-то иное, кроме простой радости обладания:
Небо поставило Чжоу на месте почетном, преемственность дав,
И немного мы всех всколыхнули князей —
Так всколыхнули, что каждый затрясся от страха!
Духов же светлых мы всех смягчили, к себе привлекая,
Также и духов рек и священных обрывистых гор.
Истинно стали царем и державным владыкой. [20]20
Перевод Штукина
[Закрыть]
Так пели Чжоу после того, как победили династию Шан-Инь.
Чжоу
Чжоу – жители долины реки Вэйхэ, восстановители космического равновесия, защитники цивилизации перед лицом варваров. Как и Шан-Инь, новая династия продолжала вести с ними жестокие сражения, известные нам по длинным надписям, которыми украшались церемониальные бронзовые сосуды.
Чжоу обладали могущественной армией. Помимо пехоты, созданной в основном из крестьян ( гу), она включала в себя многочисленные малые подразделения из пяти колесниц и большие подразделения из 25 колесниц, подобные тем, которые существовали в период Шан-Инь. На колеснице, помимо возницы, находились лучник и копьеносец, которые участвовали в бою, не сходя с колесницы, в отличие от гомеровских героев, которые спускались с нее, чтобы вступить в битву.
Начало и окончание войны сопровождались особыми церемониями, хорошо передающими ранний этап развития земледельческих культов, в которых китайские правители, принося свои жертвы, принимали участие вплоть до самого периода республики. Эти церемонии подчеркивали значение воинской доблести, хотя позднее эта добродетель перестала цениться в китайском обществе так высоко.
Правитель отправлялся в храм предков. Там он, взывая к богу солнца и богу урожая, назначал полководца, призванного спасти государство от военной угрозы. Затем в день, выбранный гадателями, полководец лично являлся в храм предков, для того чтобы получить там топор и алебарду и принести жертвы с просьбами о победе. Служители отправлялись к возвышениям, на которых славили божество солнца, чтобы приступить к приношению жертв. Наконец, военачальник получал бронзовый барабан, который в мирные периоды всегда хранился в храме предков. Для того чтобы придать ему особую ценность, этот барабан предварительно натирали кровью животных, а иногда и кровью людей. На протяжении всей военной кампании войска продолжали славить божество солнца, представленного в виде таблички, которая под охраной перемещалась вместе с армией. Также армия везла с собой табличку, символизирующую отца правителя. Богов всегда извещали о развитии военной кампании: каждый раз, когда правитель переезжал в другое княжество, разводили огромный костер, чтобы известить об этом Небо. По возвращении, если судьба была благоприятна к походу, армия, ведомая «властителем лошадей», который выполнял обязанности военного министра, с триумфом входила в столицу государства. Табличку божества солнца торжественно помещали на место. Часто ей приносили в жертву нескольких заключенных. После этого предкам подносили головы убитых врагов, которые затем сжигали в этих же храмах. Если же армия возвращалась побежденной, то предкам не приносилось никаких жертв. Начинался траур, цель которого была объявить предкам о своем поражении. Затем вместе с самыми простыми дарами таблички возвращались на свое место.
Численность участвующего в таких походах войска крайне важна. Одна из надписей на бронзовом объекте, посвященная экспедиции, отправленной против северозападных варваров, сообщает, что в плен был взят 13 081 человек. Кроме того, эта надпись упоминает об огромной добыче, состоящей из лошадей, быков, баранов и разнообразного оружия. Правители вели себя как великие воины и не гнушались брать с собой войска для того, чтобы расширить свою империю. Так правитель Чжао пересек 26 стран, исполняя каждый раз все ритуалы императорского приема. Он умер во время похода, утонув из-за предательства в бурных водах реки Хань, в Хубее, когда ехал «обозреть свои южные владения»: земли, расположенные между Желтой и Голубой реками. Рассказ об этом событии выглядит так: Чжао специально посадили на корабль, части которого были соединены клеем, в результате чего судно развалилось посреди реки, и правитель утонул. Если детали этого рассказа верны, то цель экспедиции, согласно надписям на бронзе, в действительности была иной – это был военный поход. Проникновение культуры Чжоу в регионы Хубэй, Аньхой, Цзянсу и Чжэцзян, которое подтверждают находки из бронзы, обнаруженные непосредственно в русле реки Хань, тяжело сказалось на культуре этого региона.
Тем не менее Чжоу, какими бы великими ни были их военные таланты и сила духа, не установили свою власть за один день. Без сомнения, в богатом Китае эпохи бронзы они не могли стать кланом, который бы также безраздельно господствовал, как династия Шан-Инь, обладавшая этой властью по праву происхождения. В итоге Чжоу пришлось ждать, пока постепенно не образуются семейные связи между кланом-победителем «князя Чжоу» и родственными группами, члены которых расселились в регионах, еще не контролируемых главенствующим кланом. Эти группы строили там обнесенные оградой поселения, которые включали в себя и сады и пастбища, становясь центром местного правительства и администрации. Постепенно, на протяжении многих лет и правлений, каждый «подданный» правящей династии получил от династии Чжоу новую область, которая стала его «доменом». Эти области получили название фэн– термин, который изначально применялся к участку земли с четкими границами. Так появилось шесть княжеств, созданных из владений тех кланов, которыми Шан-Инь управляли напрямую: например, Лу – княжество у подножия гор Тянь-Шань, которое доверили князю Чжоу, брату правителя У, или Сун – государство в междуречье Хуанхэ и Янцзы, которое оставалось у потомков Шан-Инь. Вместо того чтобы уничтожить это княжество, правители Чжоу изолировали его в южной части древнего государства. Еще одна часть побежденного клана бежала и, без сомнения, нашла убежище в Южной Сибири, встав у истоков формирования местной культуры Карасук. В других географических регионах, находящихся далеко от Хуанхэ, также развивались этнически разные государства, как, например, Чу, которая позднее обретет огромное историческое и культурное значение. С правящей династией Чжоу эти государства связывало только весьма расплывчатое понятие лояльности, за которым не стояли никакие клановые обязательства.
Представители династии получали власть над своей территорией после церемонии, которая проводилась в столице со всей возможной торжественностью. Так, например, когда Бо Цинь, сын князя Чжоу, отправился в свои владения, в княжество Лу, он воспользовался колесницей правителя, украшенной знаменем, на котором были изображены летящие драконы. На Бо Цине был надет талисман, драгоценный камень князей Ся, сам он потрясал луком Фан-жо Фунь-фаня. Его сопровождала многочисленная свита: профессионалы в искусстве подготавливать поля, прекрасно знающие, как устанавливать межевые знаки и высаживать на полях разные зерновые культуры; земледельцы, умеющие правильно провести сбор урожая; гадатели, являющиеся одновременно мудрыми советниками правителя. Также этот караван вез огромное количество утвари и инструментов, документы и предметы, относящиеся к культу правителя.
На своей территории такой князь был абсолютным властителем. Он владел луками и стрелами, покрытыми ярко-красным и черным лаком, и управлял с помощью советников землями, населенными достаточным количеством рабочей силы. Простое описание кортежа достаточно четко показывает, что размещению князя в землях, удаленных от территорий, подчиняющихся собственно Чжоу, в приказном порядке часто сопутствовало переселение значительного количества населения. Когда размещение этих переселенцев сопровождалось трудностями, новые хозяева переселяли прежних владельцев земли или, в случае необходимости, просто истребляли их на месте. Впрочем, чаще всего пришельцы осваивали раскорчеванные участки, способствовали распашке целины или использовали обширные пространства, покрытые дикой растительностью. Таким образом они старались избегать недовольства местного населения, которое могло долго относиться к чужакам с недоверием, если не откровенно враждебно. Вся история династии Чжоу состоит из подобных объединений разнородных этнических групп, которых случайные союзы князей заставили жить вместе. В конечном итоге этот процесс был благом для страны, так как именно он содержал в себе первые ростки культурного единства.
Термин «феодализм», который в марксистском его значении некоторые исследователи применяют к этому периоду истории Китая, является непригодным для характеристики данного типа отношений. Действительно, взаимодействие между правителями династии Чжоу и теми, кому они передавали в управление территории, базировалось на клановых связях, правильнее даже сказать, на кровном родстве. Эти связи нельзя охарактеризовать известным понятием европейской истории, которое подразумевало личное покровительство, испрошенное одним и дарованное другим в обмен на землю или службу. В Китае опорными пунктами центральной власти служили и всегда ими оставались именно города. Эта ситуация отличается от ситуации в Европе, где города были опорой так называемой «коммунальной революции»: покровительство европейских сеньоров распространялось на отдельные группы людей, на крестьян, рассеянных по деревням, лично или через посредника прикрепленных к земле, которую они обрабатывали, т. е. на тех, для кого свобода была равнозначна смерти.
Разнородное общество Чжоу было достаточно нестабильным, его то и дело беспокоили соседи-варвары, против которых оно постоянно боролось. Из-за форм, которые принял его распад, можно предположить, что в этом обществе развивалась жесткая правовая система, отличавшаяся строгими наказаниями. Работу этой системы обеспечивали либо администрация, занимавшаяся криминальными делами, либо выездной суд, который перемещался от деревни к деревне и разбирал мелкие правонарушения. Одни и те же люди исполняли обязанности управляющих, судей и защитников определенной территории. Правовые нарушения пресекались с жестокостью, которая нам известна и по культовым жертвоприношениям, и по кровной мести. Именно в этом преобладании силовых, хотя и менее жестоких, если сравнивать с кровожадным величием церемоний Шан-Инь, решений проблем, Сыма Цянь видит одну из основных причин ослабления династии, а в самом общем плане – и всего строя в целом.
Западное Чжоу
Пришедшие из Восточного Китая, Чжоу расселились по всей Великой равнине, пренебрегая территориями, которые располагались к востоку от них. Там население, еще находясь на стадии, близкой к неолиту, продолжало жить охотой и рыболовством. Существует множество легенд, которые рассказывают о чудесах и опасностях, которыми воображение людей населяло эти еще дикие территории, например «Четыре белых волка и четыре белых оленя» или «Мать-королева Запада», посвященная богине эпидемий, что властвует над демонами чумы. Эти сказки говорят об интересе, смешанном с опаской, испытываемом оседлыми жителями по отношению к странам, от которых зависело спокойствие цивилизованного мира. Экономика этих регионов претерпела некоторые изменения, и именно в западных районах Азии примерно в I тысячелетии до н. э. получило развитие разведение лошадей, что полностью изменило военную тактику и варваров и китайцев, сделав варварские нападения еще более опасными.
Эти варвары представляли собой реальную внешнюю и внутреннюю опасность: благодаря их поддержке князья свергли и убили Ю-вана, последнего из династии Чжоу, владевшего китайским Западом. Одного из его сыновей они возвели на престол в Чжэнчжоу – древнем шан-иньском городе около современного Лояна, который до этого был второй столицей государства. Вторая группа мятежников выбрала правителем другого сына Ю-вана, который разместился в Хуэе около Сйаньфу.
Руины Хао, прекрасной столицы Чжоу, и трагическая смерть Ю-вана сразу же стали объектом легенды. Согласно ей, варвары положили конец беспутному поведению Ю-вана, поскольку, влюбившись в женщину, насколько красивую, настолько же и беспокойную, он пренебрегал делами правления и навлек на себя презрение князей. Некоторые говорят о катаклизмах, которые тогда произошли, и не считают их простым совпадением. В это время случилось землетрясение в Шэньси, которое свалило горы и осушило реки. К материальным последствиям этого землетрясения следует добавить невыразимый ужас, который подобные грозные феномены порождали в сознании людей того времени, особенно внимательных к природным знакам. Космический мир наказал за упадок. «Когда горы 'рушатся, а воды пересыхают – это предзнаменование падения государства», – писал Сыма Цянь.
Значимость этого потрясения оказывается еще большей, если учитывать результаты недавних раскопок, которые сделали очевидными процветание и богатство городов периода Чжоу. В общем конструкция жилища, по сравнению с периодом Шан-Инь, практически не изменилась, однако крыши теперь стали покрывать черепицей, использовать которую начали именно в правление этой династии. Это новшество достаточно быстро получило широкое распространение. Также стоит отметить появление колодцев с водой, которые, благодаря Чжоу, стали открытием для всего Дальнего Востока.
Китайское общество этого периода меньше зависело от климатических случайностей и плодородности почвы. Заняв всю долину Желтой реки, Китай вступил в период городов. Правители, как позднее делали их преемники в трудные для страны моменты, перенесли столицу на восток, в сердце гостеприимной Великой равнины. Их авторитет резко упал. Скрываясь в своем убежище Лояне от постоянной варварской угрозы, чжоуские ваны правили еще более пятисот лет, позволяя расцветать духовным и материальным богатствам страны, которой они уже не стремились управлять со свойственным им авторитаризмом.
Восточное Чжоу
Моральная и политическая слабость последних правителей Западного Чжоу нанесла необратимый ущерб вообще авторитету верховной власти. Каждая страна, или правильнее сказать каждая земля (го),постепенно совсем избавилась от материальной зависимости от правителя Чжоу. Он смог сохранить свою власть только в духовной сфере, поскольку оставался верховным жрецом. Еще более важным фактом является то, что одновременно со снижением значения культа правителя продолжало увеличиваться число посредников, соединяющих этот и тот миры. В итоге наступил момент, когда каждый глава княжества, убежденный в своем фактическом превосходстве, посчитал вполне естественным присвоить себе Ч религиозную власть, с которой идея самостоятельности оказалась связана напрямую. Побуждаемый собственным честолюбием и темпами экономического развития, правитель каждой земли пытался навязать остальным свое превосходство. Таким образом, дробление правительственного культа стало причиной бешеной гонки за власть.
Покинув долину реки Вэйхэ, чжоуский правитель, вероятно, рассчитывал укрыться в союзных землях – на Великой равнине, где процветали представители его клана, потомки соратников по оружию первых правителей Чжоу, а может быть, и его собственные дальние родственники. В результате он нашел множество мелких князьков, дорожащих своей независимостью, которые если и вспоминали о своих связях с Чжоу, то только для того, чтобы было проще управлять собственным народом. Дальние родственники превратились в князей, из которых двенадцати самым могущественным удалось разделить между собой нижний бассейн Желтой реки, где и появились эти многочисленные княжества, стремящиеся к независимости.
Каждое подобное государство состояло из города или из большого обнесенного стеной поселка, в котором располагался князь и его аппарат управления. Центр княжества со всех сторон окружали деревни. Эта довольно древняя схема постепенно полностью изменилась. «Город» начал терять свою сельскохозяйственную составляющую, которую он сохранял с неолита, и стал все больше превращаться в административный, а не производительный центр. Вокруг каждого такого центра расстилались обрабатываемые поля, которые обеспечивали его продовольственными запасами. Этого удавалось достичь без особых сложностей, когда была возможность приступить к обработке новых участков земли. Обратная ситуация возникала, когда население, даже при невысокой плотности расселения, занимало имеющиеся в распоряжении у правительства свободные земли. Под угрозой нехватки продовольствия эти поселения вынуждены были пытаться возместить свои потери за счет соседей, что рано или поздно приводило к использованию силы.
Одновременно изменялись отношения между власть имущими и теми, кем они управляли. Первые должны были доказать способность соблюдать равновесие между миром и войной. Именно оно позволяло сохранить «правильный» путь, так как от населения, задавленного налогами, общественными работами и дурным обхождением, правители не могли ждать ни материального изобилия в мирное время, ни боевого пыла в военные периоды. Одновременно с общностью интересов населения всех княжеств перед лицом любой опасности начал появляться пока еще неотчетливый регионализм. Стоит отметить, что этот регионализм выходил за рамки кланового^кю мере того как, благодаря демографическому росту, стал распространяться страх перед возрастающей нехваткой ресурсов.
Однако бронзовый век подходил к концу, а вместе с ним растаяли и тайные опасения цивилизаций, которые видели, как исчезают основные источники их могущества. В IV в. до н. э. широкое внедрение металлургии железа, которое появилось в результате долгого успешного использования бронзы, привело одновременно и к увеличению количества вооружения и орудий труда, и к социальным потрясениям.
Значительные улучшения произошли в сельском хозяйстве: появились новые острые орудия труда высокого качества, произведенные с помощью готовых форм; были усовершенствованы методы ирригации; изобретен плуг, в который впрягали быков. Таким образом, повышение урожайности позволило временно преодолеть те трудности, которые вызвал демографический рост. Одновременно эти процессы привели к зарождению денежной экономики, которая получила широкое распространение в чжоуском Китае.
Политическая, техническая и экономическая раздробленность Китая той эпохи не препятствовала расцвету цивилизации, а скорее послужила причиной ее интеллектуальной зрелости. Самой большой бедой, от которой когда-либо страдал Китай, было то, что он, объединенный, сильный, монолитный, слишком закрывался от любого иностранного влияния, способного помочь его развитию, и стремился обязательно его превзойти. Самые лучшие умы этой цивилизации появились в тот момент, когда каждый регион мог, общаясь со своими близкими и дальними соседями, совершенствовать свои собственные традиции. Таким было движение, которое получило развитие в эпоху «Весна и осени» (770–473 до н. э.), а затем и в эпоху Борющихся Царств (472–221 до н. э.), когда баланс сил всех государств привел к триумфу таланта, а не только жестокости.
Эпоха «Весна и осени» и эпоха Борющихся Царств
Изучать шаг за шагом развитие китайских княжеств в эти эпохи достаточно тяжело. Это исследование является еще более трудным для нас, мало знакомых с китайскими патронимами и топонимами. Согласно Сыма Цяню, государство Ци, расположенное у подножия гор Шаньдуна в устье реки Хуанхэ, было первым среди вышедших из-под влияния Чжоу. Произошло это благодаря правителю княжества Ци – Хуаню (685–643 до н. э.). Тот почет, который был ему воздан после смерти, напоминает нам о щедрости этой личности: в его могиле, помимо обычных материальных и человеческих подношений, было сооружено маленькое ртутное озеро. Точно такое же озерцо будет устроено и в могиле Цинь Шихуанди в конце III в. до н. э. Действительно, могущество Ци вело происхождение с древних эпох и основывалось на прочном экономическом фундаменте: в этой плодородной, омываемой морем стране население, кроме сельского хозяйства, занималось рыбной ловлей и продажей соли, которую они сами и обрабатывали. Скоро разведение шелковичных червей и ткачество привели к резкому увеличению доходов, причем настолько сильно, что Ци первым из государств своего времени создало мощную армию – орудие защиты и нападения. В эту армию входило 800 боевых колесниц; если добавить к ним еще пехоту и обслугу, то всего войско насчитывало примерно 40 тыс. человек.

Княжество эпохи «Весна и осени»
В противоположной части Китая, на западе, появилось маленькое государство Цзинь, которое расположилось в долине Фэнь. Из-за своего географического положения Цзинь всегда граничило с землями, населенными варварами. Поэтому после тяжелых первых лет становления это государство приобрело важную роль защитника северо-западных путей. Один из его князей Сянь-гун (676–651 до н. э.), чтобы добиться союза с кочевыми вождями, вел дипломатические игры, подобные тем, что позволили Чжоу раскинуться на равнинах Желтой реки и в Центральном Китае. Это была политика браков, которую китайские императоры никогда не прекращали проводить, поскольку ее основной задачей было усмирить варваров и сделать их союзниками. Еще более известным, чем Сянь-гун, был его сын Вэнь-гун (636–626 до н. э.), который в 633 г. до н. э. отправился на выручку государству Сун.
От княжества Сун, расположенного к югу от реки Хуанхэ, как будто бы исходила аура морального превосходства. Основанное потомками клана Шан-Инь одновременно с появлением государства Чжоу, оно кичилось своим очень древним и очень благородным происхождением. Один из его князей, Сян-гун (650–637 до н. э.), был знаменит тем, что единственный, как пишут китайские историки, обладал добродетелью гуманности ( жэнь) в эпоху, которая мало располагала к порядочности и чести. Здесь речь идет о воссоздании его образа a posteriori, [21]21
A posteriori – апостериори, на основании опыта, из опыта (лат.). Ср. априори.
[Закрыть]для того чтобы извлечь из этого пользу для идеологической системы того времени. Выбор историками именно этого государства в качестве образца, если речь действительно идет о княжестве Сун, состояло в том, что географически это государство располагалось между двумя мирами: Северным Китаем, древней страной бронзы и абсолютных правителей, и Южным Китаем, просыпающимся после долгого периода, за который он начал несколько отставать от своего северного соседа.
От топких берегов Голубой реки до Южного Вьетнама, где недавние археологические открытия доказали наличие самостоятельной древней культуры, раскинулась огромная страна гор и вод. Ее можно сравнить с кузнечным горном, гигантской цивилизационной печью. Здесь можно найти и вооружение, орнаментированное животными мотивами, что свойственно варварскому миру, и оружие, созданное с применением уникальных технических умений из благородных материалов, благодаря которым так долго развивалось китайское ремесло. Более разнообразные, более зеленые, чем обширные северные пространства, несмотря на разделяющие их горы, княжества Южного Китая, вероятно, больше получили от различных цивилизаций Центральной и Южной Азии. Благодаря тому что их территории прилегали к морю, княжества Юга оказались более способными, чем их северные соседи, научить другие государства многочисленным достижениям цивилизации Великой равнины. Когда к югу от устья Голубой реки появились государства У и Юэ, они были еще слишком слабы, чтобы изменить баланс сил в самом Китае. Напротив, они играли важную роль в отношениях с иностранными государствами, так, например, культурные связи этих княжеств с Японией были разнообразнее и богаче, чем у находящейся севернее Кореи.
В среднем течении Голубой реки раскинулось княжество Чу. Один из его центров – современный город Чанша – систематично раскапывали на протяжении 12 лет, благодаря чему он мало-помалу отдал свои сокровища. В отличие от Севера, строгого и интеллектуального даже в декоративных искусствах, в Чу предпочитали богатство, яркие цвета, вызывающее использование золота и нефрита, бирюзы и бронзы, легких материалов и разноцветного сияния, а также отделку лаком, благодаря которым даже самые простые предметы становились необычайно красивыми.
Удачливые и могущественные правители Чу постоянно пытались захватить княжества междуречья Хуанхэ и Янцзы, которые не переставали быть объектом их притязаний и театром бесконечных войн. По сути, существовало два полюса – северный и южный, каждый притягивал к себе или, наоборот, отпугивал маленькие княжества, сегодня сенсационные раскопки уже восстанавливают их давно забытое великолепие. Эти княжества приносили клятвы о союзе ( мэн)и разрывали их, что в религиозном плане означало нестабильное состояние дружбы или вражды.
В 473 г. до н. э. княжество Юэ одержало окончательную победу над своим соседом княжеством У: именно в этом событии историки видят terminus a quo [22]22
Terminus a quo – отправная точка (лат.).
[Закрыть]эпохи, получившей название Борющиеся Царства (473–221 до н. э.), на протяжении которой последние представители династии Чжоу правили исключительно номинально вплоть до самого объединения земель и создания империи. Одновременно с тем, как с политической карты Китая исчезло княжество У, на севере из распавшегося государства Цзинь выделились царства Чжао, Хань и Вэй.
Постоянные и повсеместные сражения этого времени стали мощным стимулом для технической и философской мысли, и наоборот, материальное и психологическое развитие изменило ход самих войн.
Год за годом цивилизованный мир раскалывался, кипел, но, без сомнения, еще помнил о священных котлах – древних символах власти правителя, однако похлебки злых знахарей уже заменили ему жертвенные возлияния жрецов. Наконец, именно этой эпохой, когда огромная территория Китая была раздроблена на множество небольших государств, традиционно датируют легендарное утяжеление и кипение священных котлов, что означало окончательное ослабление династии Чжоу: «Юй создал девять треножников: пять согласно закону Ян, четыре согласно закону Инь. Он приказал мастерам, чтобы треножники Инь были сделаны из женского металла, а треножники Ян – из мужского. Треножники были всегда наполнены, для того чтобы предсказать благоприятные или неблагоприятные обстоятельства. Во времена Цзя и Ся вода в этих треножниках внезапно начала кипеть. Когда падение династии Чжоу было близко, девять треножников начали очень сильно дрожать. Это знамение всегда предшествует гибели».
Государства, возглавляемые умелыми правителями, быстро вытесняли своих менее счастливых соседей, иногда перед тем, как в свою очередь также исчезнуть. Каждое княжество укрепляло свои жизненно важные экономические и политические центры высокими стенами, которые служили защитой от нападений соседей и от еще более опасных варварских набегов. Эти города становились центрами притяжения для людей и богатств из деревень и соседних государств. Те государства, которые были слишком бедны, чтобы вынести баснословные издержки этой урбанизации, быстро ослабели. В начале правления династии Чжоу в Китае насчитывалось около 800 маленьких княжеств, а к началу эпохи «Вёсна и осени» их уже оставалось не больше 140. К концу этого периода княжеств оставалось около 40, и именно из них выделились основные участники эпохи Борющихся Царств. К уже упоминавшимся трем государствам, образовавшимся после распада Цзинь, нужно добавить новое государство Янь на севере и двух основных соперников, которые стремились властвовать над Китаем: Чу – на юге и Цинь – на западных границах. Все остальные княжества постепенно пришли в упадок.
Государство Цинь, название которого очень похоже, но не идентично названию менее удачливого государства Цзинь, развивалось в долине реки Вэйхэ, откуда когда-то вышли первые Чжоу, а еще раньше – первые земледельческие китайские общины. Расположенное на границе цивилизованных земель, там, где почва была очень богата минералами, царство Цинь снискало себе прочную славу, уничтожив варваров, которые разграбили чжоускую столицу и способствовали смерти Ю-вана. Таким образом, народы равнины были в какой-то степени обязаны Цинь своим существованием.
Достаточно быстро царству Цинь удалось добиться превосходства над всеми остальными северными государствами во многом благодаря искусной игре на нестабильных союзах с периферийными государствами, с целью овладеть теми землями, которые они окружали. Уже исключительно номинально главенство клана Чжоу исчезло в 335 г. до н. э., когда князь Хуэй из Вэй и князь Сюань из Ци провозгласили друг друга ванами:так, даже в центре Великой равнины Чжоу потеряли все, вплоть до свого религиозного положения. В конце IV в. до н. э. царство Цинь распространило свое влияние на варваров, живших в верхней части реки Вэйхэ, а в 316 г. до н. э. завоевало государство Шу, заняв территорию современной Сычуани у подножия высоких гималайских горных массивов, которые поднимаются вплоть до Тибета.
Триумф оружия освятил поступки военной аристократии, которая по своей строгости напоминает наш Лакедемон. Только эта Суровая и не изобилующая дарами природы страна могла выработать столь жесткую теорию власти, которая обеспечила ей господство над всеми порабощенными государствами. Основанная на пессимистическом взгляде на мир, эта теория имела своим практическим следствием больше тысячи лет размышлений и социальных опытов. Она представляет собой новый, прагматичный способ бытия народа, космические понятия которого начали становиться более рациональными. Именно их мы сейчас и рассмотрим.








