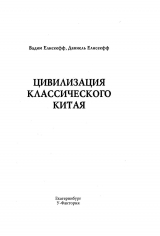
Текст книги "Цивилизация классического Китая"
Автор книги: Вадим Елисеев
Соавторы: Даниэль (Даниель) Елисеефф (Елисеев)
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 41 страниц)
Реформы в китайской армии
Увеличивающееся давление со стороны народов, которые населяли степь, граничащую с Китаем, вызвало глубокие изменения, касавшиеся и материального развития, и психологии. И хотя чувство превосходства Китая над всем остальным миром не могло измениться, все же родилась идея, согласно которой в некоторых случаях было возможным учиться у варваров. Китайские правители оказались поставлены перед неразрешимой проблемой: либо сохранить свою культуру и погибнуть, либо варваризироваться и победить. Дальнейшее сохранение внутреннего мира было невозможно без завершенной реформы по защите границ государства. В свою очередь, эта реформа предполагала создание армии принципиально нового типа, образцом которой выступала бы организация подразделений у варваров, вызывавшая у китайцев страх. На длинных горных дорогах Азии равнинные боевые колесницы теряли всю свою полезность. С другой стороны, пехота, набранная из крестьян, добиралась до них слишком изнуренной. Напротив, кавалерия, первое робкое использование которой приходится на начало эпохи Борющихся Царств, должна была составить мобильную основу армии.
Одновременно предполагалась и революция в вооружении: алебарды и пики, тяжелое вооружение, приспособленное для пешего боя, следовало заменить мечами и арбалетами. Изобретение этого вида стрелкового оружия начиная с V в. до н. э. оставалось гордостью китайцев, секрет его производства они стремились сохранить в тайне. В конце концов, речь шла об одном из самых смертоносных видов оружия того времени. Известно, например, что на Латеранском соборе в 1179 г. именно по этой причине арбалет был объявлен вне закона в христианском мире.
Строение новой китайской армии также требовало усовершенствования важнейшей экономической инфраструктуры. Нужно было не только разработать систему снабжения огромного количества людей – это не было новым для китайской армии, – было необходимо обеспечить фураж для множества лошадей. Эта задача была тем более сложной, что битвы чаще всего проходили в пустыне. Только император обладал достаточной властью, позволявшей создать обширные пастбища, необходимые для содержания верховых животных. В этом смысле можно сказать, что борьба против кочевников могла способствовать окончательному оформлению национального единства. Весьма разумно в качестве «земель лошадей» был избран северо-запад Китая, самые слабозаселенные и наиболее близкие к районам боевых действий земли страны.
В конце концов модернизация китайской армии повлекла за собой трансформацию социального порядка. Старые военные иерархии, – корни которых лежали еще в эпохе Борющихся Царств, и теоретики древней стратегии, применимой к классическим сражением между городами или небольшими государствами, больше не были нужны. Только личность, обладающая особым талантом, способная быстро адаптироваться к обстоятельствам – малознакомому врагу и неизвестной территории, – могла спасти государство.
История борьбы династии Хань против сюнну полностью подтвердила эти доводы. Каждый раз решение императора о продолжении или остановке военных кампаний зависело от таланта конкретных людей. Поэтому подлинные успехи долгой борьбы с варварами приходятся только на эпоху блестящих генералов Вэй Цина и Хо Цюйбина.
Военные кампании
Вэй Цин, брат императрицы, всю свою долгую жизнь ездил верхом по дорогам приграничных регионов. В 127 г. до н. э. в своем передвижении он углубился на север, по ту сторону от Ордоса, где находится большая излучина реки Хуанхэ. Этот отдаленный и малоизвестный регион весьма пренебрежительно называли «страной Запада», Сиюй.Ему удалось выбить оттуда сюнну, причем Вэй Цин сделал это настолько хорошо, что в 114 г. до н. э. даже стало возможным сформировать в этом регионе систему административного управления. Полководец использовал советы Чжан Цяня, которые тот составил во время своего долгого пленения, и они не раз спасали императорскую армию от голода и жажды.
Слава и талант Вэй Цина нашли свое продолжение в его племяннике Хо Цюйбине, который в 121 и 119 гг. до н. э. нанес сюнну два тяжелейших поражения. Императору казалось, что эти победы могут надолго обеспечить мир: «Слава о многочисленных военных подвигах [Хо Цюйбина] на наших границах, вдоль реки Хуанхэ, позволяет нам [императору] надеяться, что отныне [эти территории] будут избавлены от опасности и смогут наслаждаться долгим миром».
Можно восхищаться храбростью и упорством Хо Цюйбина, но прежде всего нужно подчеркнуть его прозорливость, благодаря которой он стал главным двигателем экспансионистской политики династии Хань. Он доказал пользу от использования того же оружия, что и враг – легкой мобильной кавалерии. Он подсказал императору, что необходима экспансия далеко в сердце западных земель для того, чтобы добраться до стран, способных поставлять хороших лошадей, обладание которыми могло, в свою очередь, обеспечить защиту империи.
В память о тех бесчисленных обязанностях, которые исполнял Хо Цюйбин, после его смерти в 117 г. до н. э. император приказал привести в столицу несколько отрядов сюнну. Каждый варвар, обладавший железным оружием, встал на краю дороги, по которой шла погребальная процессия, а степные всадники, вытянутые в гигантскую неподвижную цепь, сопровождали великого полководца к его могиле.
В 1914 г. Виктор Сегален нашел одну из скульптур, которая отмечала вход в курган этого национального героя. Благодаря этой находке, он напомнил современному миру о забытой мощи античной каменной скульптуры.
Доходы от военных экспедиций, тщательные записи которых можно найти в «Ши цзин» или в «Хань шу», не перестают удивлять. Трофеи военных кампаний, когда они заканчивались победой, состояли из огромных верениц бредущих рабов, лошадей, скота, энергия и труд которых использовался на благо Китая. В 124 г. до н. э. люди полководца Вэй Цина захватили более миллиона голов домашнего скота и около 15 тыс. сюнну. Еще примерно столько же обитателей степи было убито. В случае же неудачи китайские потери также могли быть катастрофическими. Например, в 99 г. до н. э. генерал Ли Гуанли потерял две трети своей армии, состоявшей из 30 тыс. всадников. Два других военачальника, Ли Лин и Су У, были при различных обстоятельствах захвачены сюнну вместе со всем своим окружением. От этих новостей император У пришел в ярость и приказал казнить всю семью Ли Лина, которого он обвинил в трусости, а значит, в предательстве. Су У, который, как говорят, пытался покончить с собой, когда его брали в плен, избежал императорского гнева. Он провел 19 лет в плену у варваров. Сюнну предложили свободу обоим пленникам: Су У немедленно уехал, тогда как его товарищ по несчастью, без сомнения, опасаясь репрессий, предпочел остаться у врага. Благодаря археологическим раскопкам были найдены остатки дворца, в котором жил плененный Ли Лин. Эта ссылка, из которой не было возврата, стала легендой и вдохновила на создание множества поучительных меланхолических поэм, посвященных безжалостной разлуке.
Даже если предположить, что эти цифры являются лишь преувеличением, все же нужно отметить, что этот период был периодом демографического подъема, выдержавший подобные кровопускания.
Изучение документов, относящихся к военным кампаниям императора У-ди, представителя династии Хань, позволяет определить, что вопреки устоявшимся представлениям, в эту эпоху в императорской армии служило очень мало варваров. Впрочем, несколько сюнну, находившихся на китайской службе, выполняли обязанности проводников: вот почему Хо Цюйбин никогда не терялся в землях сюнну, даже когда он отходил очень далеко от китайских границ. Можно отметить еще одного сюнну, ставшего военачальником в китайской армии: когдато побежденный своими соотечественниками, он стремился таким образом вернуть свое положение. Можно отметить еще двух китайских полководцев варварского происхождения, однако оба они выросли в Китае, в котором их семьи проживали уже на протяжении нескольких поколений. Коренное изменение ситуации произошло намного позднее, в IV в. н. э.
В целом можно поставить под сомнениеспособность Китая легко ассимилировать варваров, как это иногда подчеркивается – без уточнения обстоятельств, эпохи, местности. Китай привлекал варваров как очаг философской мысли и технического умения. Этот процесс характерен для всех крупных центровземледельческих цивилизаций, соседи которых находятся на более ранней стадии развития и для которых понятия постоянства и наследования традиций значат еще весьма мало. Например, в истории Римской империи можно найти весьма убедительные примеры подобного слияния культур.
Мы затрагиваем здесь очень важную проблему поглощения периферийных культур. В случае с Китаем существует обыкновение противопоставлять варварство, непроницаемость дикой культуры народов Севера и Северо-Запада – открытости и взаимному влиянию стран Юга. Это мнение заслуживает уточнения. Прежде всего, следует понять, что же все-таки называют «странами Юга». Взаимовлияние культур совершенно очевидно в южных регионах, вплоть до современного Кантона. Речь идет о древних царствах, которые очень сильно эволюционировали, – У, Юэ, Чу. С самого своего появления они относились к категории, которую по аналогии с западным миром можно было бы назвать sinicia. [35]35
Sinicia – здесь: китайский [мир] (лат.).
[Закрыть]Впрочем, эти царства сами привнесли важные элементы в развитие искусства и философской мысли этого региона.
Сам образ оседлой жизни, ведение сельского хозяйства, которое развивалось в южных регионах с древних времен благодаря благоприятному рельефу и климату, способствовали тому, что достижения одной культуры могли заимствоваться культурами соседними. Однако эти «страны Юга», вплоть до периода Хань, обладали меньшей самобытностью в искусстве, которое они создавали, так как его истоки лежали не только в самом Китае, но и во многих регионах Евразии.
Уже первый император стремился поставить эти территории под свой контроль. Южнее Голубой реки он бросил свои армии, состоявшие из 500 тыс. человек, против жителей царства Юэ, предков современных вьетнамцев. Война шла в узких ущельях Линаня, заросших густой чащей, и продолжалась около восьми лет, до тех пор пока Сын Неба не смог утвердить свою власть над этим регионом. Впоследствии император разделил его на три округа.
Более хитрый император У окончательно присоединил к империи эти земли, что в итоге привело к появлению в составе его государства культуры, которая очень сильно отличалась от той, что господствовала в остальной части страны. Ее корни напрямую уходили в эпоху Борющихся Царств. В 334 г. до н. э. правитель царства Чу отправил экспедиционный корпус в район озера Дяньчи. Это было вызвано недооценкой могущества царства Цинь, правителю которого удалось отрезать этот корпус от основных сил армии Чу, вынудив их остаться на завоеванных территориях. Окруженный командир корпуса основал там новое государство – царство Дянь и провозгласил себя его правителем. Это событие могло бы остаться незначительным эпизодом в истории эпохи Борющихся Царств, если бы не искусство этого оригинального и эфемерного государства, обнаруженного благодаря археологическим раскопкам в 1955–1960 гг. в провинции Юньнань и открытию могил Шичжайшаня. В искусстве этой труднодоступной горной страны нашло свое отражение удивительное слияние культур. Этот синтез благоприятно сказался на развитии творческого начала царства Дянь.
Некоторые детали, современные периоду Хань, позволяют лучше узнать жизнь коренных обитателей китайского ЮгоЗапада, а в более общем плане и всей Юго-Восточной Азии. Например, бронзовые сундуки, предназначенные для хранения раковин, которые исполняли в этом регионе роль денег, выполнены в форме барабанов, характерной для культур ЮгоВосточной Азии. Однако на этих сундуках, кроме простых линейных рисунков, свойственных предметам, созданным ремесленниками царства Дянь, на верхней крышке находились вылепленные круглые скульптуры, изображающие целый маленький мир, обитатели которого ткут, прядут, занимаются повседневными делами или кого-то чествуют, – часто это женщина, сидящая на троне, по всей видимости правительница.
Еще более удивительными были скульптуры животных, украшающие плиты ограды или верхушки знамен. Они обладают чертами, очень сходными с произведениями так далеко находящихся культур степи. Эти красивые бронзовые предметы, изготовленные грубо, но с фантазией, возрождают взгляд на мир, давно отвергнутый китайскими правилами правительственных и погребальных ритуалов: присущее охотникам внимательное, с симпатией отношение к животному миру, очарованность полетом птиц, возвышенный страх при виде борьбы между лесными хищниками, особое отношение к крупному скоту, занятого на полевых работах.
Население стран Юга настолько заинтересовало императора У, что он отправил к ним своего посла Тан Мэна. В 134 г. или в 133 г. до н. э. он отправился в страну Ба и Шу – современная провинция Сычуань. Богатство этих территорий и пышность церемоний правящих там дворов не была для него неожиданностью: правитель, как и Сын Неба, передвигался в колеснице под желтым балдахином, левый борт которой был украшен плюмажем из перьев.
Местные жители не проявили большого энтузиазма, у них еще сохранялась мучительная память о прошлом. В конце концов, Первый император уже отправлял сюда своих представителей, для которых нужно было открыть «дорогу шириной в пять ступней», т. е. около 1,5 м, тяжелым трудом прорубленную в скалах. Тан Мэна сопровождал огромный, из 10 тыс. человек, кортеж, нагруженный подарками для варварских вождей и провиантом, способным прокормить эту толпу, и этот большой обоз полностью не мог проехать по древней дороге. Жители этих земель, как и их предки, вынуждены были пробивать для него пути. Так изначально мирная по своим целям миссия превратилась для жителей территорий, которые она пересекала, в тяжелый труд. Результатом этого было быстрое ухудшение ситуации: «Тан Мэн… завербовал в административных резиденциях Ба и Шу около тысячи мелких чиновников и солдат. Там же в связи с этим было поднято еще около десяти тысяч человек, чтобы обеспечить их проезд по суше и воде. Тян Мэн использовал закон о военных реквизициях, чтобы наказать вождей племен. Население Ба и Шу было в большом страхе».

Китай периода Поздняя Хань
Положение дел намного ухудшилось благодаря пылкому вмешательству поэта Сыма Сянжу (179?—117 до н. э.), сына этого далекого края. Его знания и литературный талант возвысили его при дворе императора до уровня одной из важнейших личностей. Его защитная речь в пользу соотечественников только усугубила ситуацию. Чтобы доказать благородство своих намерений, в 109 г. до н. э. император У передал печать «правителя Дянь» лидеру маленького государства, существование которого он признал. Сохранив собственное звание единственного политического и религиозного лидера империи, в рамках огромного китайского союза он создал для себя другой титул, при этом подтвердив существование и законность местных культов правителя. Этот новый титул – хуандибыл призван выделить императора из множества носителей титула ван.
Продвижение государства на юг привело к очень тяжелым культурным и экономическим последствиям. Между двумя частями империи, объединяя ее, циркулировало все большее количество вещей и технических приспособлений. В этих регионах, богатых речными системами, на первое место вышел водный путь сообщения, который предвосхитил в своем появлении будущий Великий канал. От верхнего течения Сянцзяна (Хунань) на севере до верхнего течения Гуйцзян (Гуанси) на юге постепенно сложился маршрут, который и сегодня соединяет бассейн Голубой реки и бассейн Жемчужной реки, Китай равнин и Китай ущелий, пересеченных оврагами холмов и запутанных, но судоходных речных потоков.
Вторжение императора У на северо-восток, за пределы установившихся границ, было более жестоким. В том же году, когда он даровал свою инвеституру [36]36
Инвеститура (от лат. investio – облачаю) – здесь: передача властных полномочий от имени китайского императора местному правителю.
[Закрыть]государству Дянь, император морем бросил свои войска на завоевание Кореи, которая была разделена тогда на четыре части. Это было завершением неторопливого продвижения Китая в этот регион, которое было начато еще в эпоху Борющихся Царств. Вторжение принесло свои плоды, поскольку западный берег Кореи оставался китайским вплоть до IV в. н. э., что весьма способствовало тому, что молодая и далекая Япония заимствовала немалое количество культурных достижений континента.
Все эти постоянно повторяющиеся войны,^ долгие путешествия, более или менее эффективные подтверждения собственного могущества обнаруживают одну постоянную величину: отношение китайской власти к другим, к варварам и менее цивилизованным народам, к иностранцам никогда не подчинялись какой-то строгой догме. Император использовал то крайне жестокие меры, то простые угрозы, то, наоборот, лесть и искушение. Впрочем, несмотря на это, всегда сохранялось неискоренимое чувство превосходства династии Хань и ее цивилизации.
Социальная иерархия и экономика
На территории собственно Китая благодаря устройству и стабилизации империи произошла глубокая трансформация связей, которые соединяли различные социальные группы.
Согласно общему мнению, после поздней Античности можно говорить о том, что в Китае сложилась определенная бинарность. Народу, который управлял, противопоставлялся народ, которым управляли. На самом деле, в подобных условиях это довольно неточное понятие, поскольку члены первой группы происходили из второй группы, в которую они могли и вернуться при неблагоприятных обстоятельствах, например уход на покой или разжалование. Вообще, положение любого человека на иерархической лестнице было относительным. Тем не менее среди правящей элиты бесспорно можно выделить несколько категорий: феодальных князей ( цзюнь), хотя в I в. до н. э. они и потеряли власть над своими территориями, министров государства ( цзюцин), высших правительственных сановников ( дафу), ученых людей (ши), знания и гражданские добродетели которых затмевали достоинства военачальников, которых понятие шиобозначало в начале I тысячелетия до н. э.
Вся эта масса людей, управляющих государством, делилась на огромное количество ступеней. Она представляла собой настолько разнородное и неустойчивое сообщество, что философские школы прилагали большие усилия, для того чтобы хоть как-то объединить и классифицировать все эти чины и звания. В отличие от Конфуция, который выделял три управляемых сословия: крестьян, ремесленников и торговцев, – в этот период появились термины, обобщающие все подвластное чиновникам население: «многочисленный народ» ( ли-мин)или «черноголовые», выражение, которое было придумано в эпоху правления Первого императора. Именно эти два самых распространенных понятия объединяли все социальные группы. В продолжение развития этой идеи появилось понятие жэнь-женьсо значением «все люди» – народ становился группой индивидуальностей. Другие, реже используемые обозначения низших слоев населения выводили на первый план кланы – «сто имен» (бо син)или «бесчисленные дети одного предка» (юань юань).
Однако не стоит самообольщаться: главным фактором деления общества служила производительность различных категорий, так как именно равновесие между ними обусловливало выживание нации.
Ремесленники
В древности все виды работ, которые выполняло население, были разделены на множество разных категорий. «Ритуалы Чжоу» («Чжоу-ли») – литературное произведение, содержащее факты и цитаты из более ранних сочинений, называет девять видов работников. Это земледельцы, садовники, лесничие и хранители гор, рек и болот, скотоводы, ремесленники, оптовые и розничные торговцы, ткачихи, ткущие из шелка или пеньки, сборщики листьев, корней и фруктов и, наконец, бродяги, не имеющие постоянных занятий и блуждающие в поисках работы, которой они лишились из-за смены сезона или из-за собственного нрава. Эта последняя категория могла состоять как из богатых, так и из бедняков. Сытые оригиналы или действительно обеспеченные люди, порвавшие с обществом, оказывались на одной дороге с изголодавшимися бродягами. К этим девяти группам добавляются две категории рабов: те, кто был наказан за какое-то преступление, и те, кто вынужден был продать себя из-за голода.
Одним из самых выдающихся событий в истории династии Хань было создание особого устава для ремесленников, работавших в государственных мастерских. В столице существовали три государственные фабрики, производство в которых было поставлено на службу исключительно императорской фамилии. Као гун-шипроизводила мебель; задачей Дун-юань-цзянбыло создание и обработка мин-ци– знаменитых погребальных статуэток, которые сравнивают с танагра; и наконец, Шан-фанвыпускала предметы быта совершенно исключительного качества. К концу правления династии Шан-фан была разделена на три секции: первая производила зеркала, две другие – ткань. Впрочем, некоторые социальные группы, особенно имеющие отношение к религии, обладали, как и государство, своими собственными группами ремесленников.
Похожая ситуация имела место и в каждой из провинций. Шесть центров производства, один в провинции Хубэй, два в провинции Хэнань, два в провинции Шаньдун и один в провинции Аньхой, были ориентированы на снабжение армии. Две ткацкие фабрики существовали в Шаньдуне и Хэнань. В Сычуани были две мастерские, специализировавшиеся на работах с золотыми и серебряными предметами, и государство особо поддерживало это производство, высокое качество продукции которого составляло славу южных регионов страны.
Монополии
Несмотря на некоторое процветание, о котором свидетельствует одновременно количество и качество товаров, производившихся в период Хань, перед власть имущими стояли очень большие проблемы, которые они пытались решить путем использования различных политических методов, как поочередно, так и одновременно.
На протяжении 30 лет, которые последовали за восшествием династии на престол, император самостоятельно восстановил те суровые принципы легистов, которые существовали в период Цинь: перемещение населения – чтобы избежать сговора или соперничества между кланами; жесткие сословные рамки – для крестьян; контроль – за доходами крупных торговцев, которые стремились монополизировать денежную систему и власть. Лозунгами этого периода были простота и умеренность. Но когда пришел мир, а варварская угроза была отражена (175–154 до н. э.), настало время всеобщей либерализации. Этот процесс начал развиваться с такой скоростью и силой, что одним из самых ярких его проявлений стал мятеж «семи стран» Юга, которым династия Хань предоставила определенную феодальную автономию, так как именно оттуда и происходили новые правители Китая.
Впрочем, эти мятежи были довольно быстро подавлены, и правление императора У стало апогеем развития этого общества, стремившегося к централизации, развитию торговли и производства, которое шло полным ходом.
Самой большой проблемой императора У в экономической сфере оказалось именно процветание, которое было столь большим, что благоприятствовало расцвету могущества частных промышленных компаний, выросших из добычи соли и железа. Добыча и обработка этого сырья требовали множества рабочих рук и хорошей координации выполнения различных операций. Торговая деятельность, которая сопровождала это производство, способствовала развитию денежной экономики.
Однако правительство заметило, что денежная экономика ведет к обогащению частных лиц, а не государства, вредит его престижу и может привести к банкротству. Император У сумел на время исправить эту ситуацию, проведя массовую национализацию крупных предприятий: по всей стране вместо 66 предприятий, которые поодиночке бесконтрольно добывали и продавали соль и железо, не принося никакой прибыли в казну, была введена государственная монополия на эти виды продукции. Проводила реформу администрация Кун Цзиня и Дунго Сяняня, они же добавили в список монополий производство и продажу алкоголя. С точки зрения легизма, которому сочувствовали власть имущие, эти принудительные меры были абсолютно оправданными. Но именно они, представленные различными налоговыми репрессиями, в долговременной перспективе и привели к медленной экономической деградации, которая, несмотря на временное процветание, три века спустя привела к падению династии Хань.
Первой причиной экономического спада послужило то, что замыслы императора не способствовали общему подъему морали. Как продажа должностей и титулов повлекла за собой уничтожение системы административных кадров, так и противопоставление столицы всему остальному государству, вместо того чтобы обеспечивать его могущество, привело к тому, что доходы, которые изымались у крупных торговцев и производителей, просто скапливались в сундуках. В конце концов, и экспансия в варварские страны стоила очень и очень дорого.
Тем не менее создание государственных монополий базировалось на прекрасных доводах о необходимости всеобщего экономического оздоровления. В первую очередь особую важность имела металлургия, игравшая огромную роль в материальной жизни нации, потому что именно эта сфера производства отвечала за выплавку монеты. С 120 по 81 г. до н. э. государство стремилось обложить налогами, сократить долю или даже конфисковать частные предприятия, работающие в этой отрасли. Результаты этих мер не замедлили себя ждать, и уже с 115 г. начинается прогрессирующее с каждым годом ослабление деятельности частных собственников. Три года спустя, в 112 г. до н. э., государство уже могло гордиться тем, что вся чеканка монеты была эффективно поставлена под его контроль.
Любопытно отметить, что в связи с этими обстоятельствами император У, выступавший как приверженец и восстановитель конфуцианства, глубоко оптимистичный и либеральный, на самом деле следовал политической линии династии Цин, а на государственной службе оказалось множество людей очевидно придерживающихся идей легизма. Это хороший пример того дуализма, который в различных пропорциях, часто не подлежащих точному измерению, всегда присутствовал в решениях китайских властителей.
Для борьбы со спекулянтами император по совету сановника Сан Хуняна поддержал создание отдельного управления, которое можно было бы назвать «отделом уравнения и стандартизации». На самом деле это был «Трактат о равновесии» («Пин чжунь»), а его главной идеей было увеличение натуральных налогов, скупка по низким ценам товаров, которые император мог перепродавать в другие регионы или возвращать на рынок, когда цена на товар была самой благоприятной для продавца. Официальной задачей, которая стояла перед этим государственным органом, была защита мелких производителей от лихоимства спекулянтов. На самом деле, и в этом случае государственная политика не была продиктована соображениями о чистом человеколюбии, и конфуцианцы не упустили случая сказать об этом.
Через несколько лет после смерти императора У, в 81 г. до н. э., при дворе состоялся важнейший «спор о соли и железе», который дошел до нас в письменном виде («Янь те лунь»). Эта была полемика легистов, которые руководили Большой государственной канцелярией, и группы конфуцианских ученых. Воспевая хвалу миру и добродетелям древнего китайского общества, эти ученые провозглашали: «Никогда материальная выгода не должна служить основным мотивом управления. [Это значит] управлять должна мораль, цель этого – изменение нравов народа. Но сегодня в провинциях монополии на соль, железо и алкоголь и система справедливой торговли установлены, чтобы соперничать с доходами народа, обесценивая значение сельского великодушия и воспитывая в народе скупость. Вот почему людей, которые занимаются [сельским хозяйством], имеющим первостепенное значение, становится все меньше, а людей, которые занимаются [торговлей], имеющей второстепенное значение, все больше…Шан Ян сделал жестокие кары и строгие законы основанием государства Цин, и оно рухнуло вместе со Вторым императором (Эршихуанди). Но удовольствовавшись строгостью законов, он создал систему взаимной ответственности и круговой поруки, объявил преступлением любую критику правительства и умножил количество телесных наказаний до таких масштабов, что народ был устрашен настолько, что не знал, куда деть свои руки и ноги. Недовольный обильными налогами и выплатами, он запретил народу использовать ресурсы рек и лесов и добыл огромные средства на заготовке запасов, не давая народу возможности привести даже самые малые возражения. Подобное почитание богатства и отсутствие внимания к тому, что правильно, такое неистовство власти и стремление к успеху действительно привели к расширению государства и приобретению новых территорий. Но это было подобно тому, как наливают еще воды людям, которые страдают от наводнения, и это только умножило несчастья».
Проблемы сельского хозяйства и рабство
Когда возражения и насмешки легистов были направлены против конфуцианцев, то эти последние часто добивались полной победы в спорах между ними.
Действительно, император У чаще внимательно прислушивался именно к конфуцианцам и старался изо всех сил исправить ситуацию в сельском хозяйстве, которая характеризовалась уменьшением количества рабочих рук в этой сфере деятельности. Крестьяне меняли свою профессию на более доходные, и, чтобы остановить этот процесс и вернуть в сельское хозяйство требуемые рабочие руки, император У ратифицировал целую серию реформ. Однако новое вмешательство конфуцианцев в процесс переустройства, который последовал за этими реформами, привело к обратной катастрофе. В 62 г. до н. э. крестьяне произвели слишком много продуктов и не смогли их продать. Именно после этого кризиса государство взяло под свой контроль все риски, связанные с урожаем, а также частично решало и проблему транспорта. Около Чанъяни, столицы, построенной во II в. до н. э., начали поощрять разведение зерновых, предназначенных для снабжения правительства. Кроме того, у границ были созданы зерновые хранилища (55–44 до н. э.). Их задачей было снабжение гарнизонов, которые охраняли империю. Это было возвращение к политике протекционизма легистов.
В конце концов эти значительные изменения коснулись даже самой концепции сельского хозяйства. Намного большее внимание стало уделяться сфере дополнительных занятий, таких как шелководство и ткачество. Итогом этих изменений стало объединение среди крестьян ( нун)всех, для кого работа на земле была самым важным видом деятельности. И не случайно, что министр сельского хозяйства одновременно наблюдал за торговлей и финансовой системой государства.








