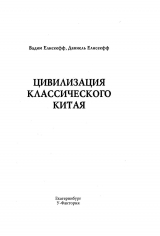
Текст книги "Цивилизация классического Китая"
Автор книги: Вадим Елисеев
Соавторы: Даниэль (Даниель) Елисеефф (Елисеев)
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 41 страниц)
Керамика Яншао представляет собой первую фазу этого колебания. В период IV–III тысячелетия до н. э. происходит трансформация реалистичных рисунков в графические символы. Самый древний из найденных сегодня центров этого периода находится в современной провинции Шэньси, если быть более точным – в бассейне нижней части реки Вэйхэ. Оттуда культура Яншао распространила свое влияние в двух основных направлениях, где она обогатилась местными особенностями: на запад, до провинции Ганьсу, и на восток, где она достигает дельты реки Янцзы.
На месте центрального поселения Баньпо были найдены вазы, чаши, сосуды в форме амфор с ручками, украшенные двумя типами орнамента. Первый – высеченный – создавался оттисками ногтя и покрывал часть сосуда. Второй – рисованный – представлял собой более древний вариант орнамента, который – просто стилизованный или символический – переносился на бронзовые сосуды. Именно этот тип орнамента стал одним из основных узоров, отличающих китайское искусство в целом. Некоторые изображения человека или животных постепенно превратились в простые графические символы, источник которых был забыт: рыбы стали клетчатой сеткой, птицы или жабы превратились в завихрения. Эти рисунки можно обнаружить также и на первых бронзовых сосудах, на которых они стали практически неузнаваемыми. Без сомнения, эти рисунки наделялись магическим значением.
Западные поселения этой культуры располагались почти до провинции Ганьсу, это доказывают осколки красивых кувшинов культуры Баньшань, на которых чаще всего изображались круги или спирали. Степень абстракции этих узоров была очень высокой, впрочем, недавние находки позволили определить ее источник – весьма трогательные рисунки. Эти находки – богатый урожай глиняных сосудов – позволили проследить весь путь от изображений-первоисточников к стилизованному орнаменту. Как и в Баньпо, – правда, речь идет о более позднем периоде, – гончарных мастерских здесь было достаточно много, причем можно говорить о том, что среди ремесленников уже существовала специализация. Их мастерские располагались вокруг поселения. Например, в одном из поселений около Лянчжу так объединились двенадцать гончаров. Они использовали одну ступку, чтобы наносить красящие вещества, этот сосуд состоял из множества отделений, в каждом из которых находился свой цвет. Спирали, зигзаги, клетки, волнистые черточки разной толщины и разных оттенков вместе составляли прекрасное украшение сосудов. Более редкими и, видимо, более архаичными являются сосуды, на которых изображены животные, стилизованные под элементы фигурных композиций.
На востоке культура крашеной керамики встречается вплоть до дельты реки Янцзы. Самые недавние находки – это осколки керамики, обнаруженные в провинции Аньхой или в провинции Цзянсу. Они являются последним шагом в эволюции рисунка, который с этого времени оставался неизменным до начала I тысячелетия до н. э. Основные элементы этого орнамента – ромбы, кресты и звезды. Наконец, самый поздний вариант раскрашенной керамики, рисунок которой состоял из ступеней и квадратной сетки, был найден в Северо-Восточном Китае, в Жэхэ или в Маньчжурии.
На протяжении веков другие ремесленники культуры Яншао, как и гончары, способствовали техническому прогрессу. По мере того как ускорялся процесс перехода людей на оседлый образ жизни, улучшались и средства их защиты. К концу III тысячелетия до н. э. стены из утрамбованной земли окружали те поселения, которые были предназначены для постоянного проживания. В погребальных обрядах появились новые элементы, как, например, диски (пи)и нефритовые ножи, похороненные вместе с мертвыми. Прорицатели разрабатывали новые методы гадания, в которых применялйсь прокаленные кости или палочки тысячелистника, использовались графические знаки, предшествующие письменности. Все это свидетельствовало о том, что, несмотря на внешнюю относительную стабильность, начинали происходить социальные изменения, предвестники великих перемен. Эти изменения становятся очевидными на рубеже III–II тысячелетия до н. э., когда возникает новый вид керамики, тонкостенной и лощеной.
Первые примеры этого утонченного искусства были найдены в 1930 г. в Чэнцзыяй, в провинции Шаньдун. Они получили название «черная керамика Луншаня». В техническом плане методика ее создания является продолжением тех успехов, которых достигла керамика культуры Яншао. В самом сердце этой археологической культуры, в долине реки Вэйхэ, в культурных слоях, находящихся сразу над слоем культуры Яншао, часто находят образцы этой керамики. На смену ранней теории, предполагавшей, что культуры Яншао и Луншаня имеют разную географическую локализацию, пришла новая теория. Согласно этой теории, на всем пространстве Северного Китая распространение культуры провинции Шаньдун, явно превосходящей предшествующую, привело к тому, что господство долины реки Вэйхэ сменилось господством нижнего течения реки Хуанхэ. Неизвестно, чем это было вызвано, смещением экономического центра или политическим подъемом, но этот феномен сохранял свое значение на протяжении тысячелетия. В итоге именно этот регион стал центром китайской цивилизации.
Русло нижнего течения Желтой реки и в ту эпоху, и сегодня остается практически неизменным. Хуанхэ впадает в Бохайский залив, недалеко от Шаньхайгуаня. От разрозненной цепи горных вершин, которые загораживают горизонт современного Пекина, до пологого рельефа низин Янцзы распростерлась огромная аллювиальная равнина желтого цвета, по которой текущие здесь реки несут чистый лёсс. Насколько хватает глаз, всюду земля смешивается с водами рек, порождая зеленую, плодородную, но очень зыбкую почву. Именно здесь разыгрывается бесконечное сражение китайской цивилизации: битва поля и опустошительной воды, земледельца против илистой, не имеющей пологих берегов реки, которая часто меняет свое русло и очень трудна для судоходства. Сердце этой громадной центральной равнины располагается на берегах Хуанхэ, до того как она сворачивает к северу. Именно здесь находится историческая житница Китая, она вытянута вдоль реки, заканчиваясь у подножия гор Шаньдуна. Это пространство всегда щедро отдавало все имеющиеся богатства своим захватчикам, и с распространением новой техники и образа жизни именно здесь завершился неолит. Признаком этого становится появление технических новинок, вызванных потребностью в надежной посуде. Среди новшеств следует отметить изощренные ручки сосудов, сосуды на ножках, специальные сосуды для воды и сыпучих тел. Сырье гончаров, замазка, достигает вершин качества, в руках мастеров она принимает сложные формы. Самым ярким примером этого являются знаменитые сосуды-триподы с полыми ножками в виде вымени, динили гуй,которые были украшены орнаментом из насечек или сработаны с более или менее заметным рельефом. Недавние раскопки обнаружили сосуды из уже известной нам черной керамики, в оформлении стенок которых были использованы серые, красные или белые кусочки, сверкающие ярким блеском, придающим особое очарование черному цвету. Становится заметным прогресс в изготовлении орудий труда, асимметричные формы которых вызваны соображениями функциональности, и в постройке жилищ: дома из хорошо утрамбованной земли составляют целые поселения, окруженные крепкими земляными стенами ( хан-ту).
Последний этап китайского неолита, переход к бронзовому веку, был представлен серой керамикой, которая была впервые найдена в Сяотуне, в провинции Хэнань. Она датируется примерно 2000 г. до н. э. и очень сходна с керамикой Луншаня. Основные ее отличия – в использовании замазки серого цвета, технике плющения, которая позволяла сделать стенки тоньше, и применении специальных инструментов для нанесения орнамента. Примеры подобной культуры были также найдены в 1973 г. на стоянках Эрлитоу, в провинции Шаньси, и Эрлиган – в Чжэнчжоу. Этот период является предшественником появления металлургии.
Таким образом, развитие сельского хозяйства, приносящего обильные урожаи, успешная охота и рыболовство, появление сельских ремесленников, характерных для оседлых обществ, способствовали открытию и освоению металла в середине II тысячелетия до н. э., на рассвете нашей истории. Перед тем как перейти к этому периоду, необходимо сделать обзор основных исторических источников и определиться с основными хронологическими рамками.
Китайские источники и первая историография
Если наши общие знания о китайской истории значительно меньше, чем об истории Европы, то, напротив, изобилие китайских исторических источников неизмеримо богаче и, без сомнения, играет для изучения Китая более важную роль. Однако богатство китайской историографии, которая восходит к далекому прошлому, остается практически неиспользованным.
Как отмечает Этьен Балаш, китайская историография может показаться стереотипной, поскольку ее составление очень рано приняло официальный характер, стало оплачиваемым и зависимым, использовало традиционное искусство цитирования и преклонялось перед письменным словом. Основным фактором, отличающим китайскую историографическую традицию от европейского аналога, было существование специальной службы историографов. Они должны были фиксировать все дела и поступки императора, все законы правительства, отмечать события общественной жизни, собирать и сохранять все донесения и документы, наконец, в их функции входила организация архивов. Самый главный упрек, который можно высказать этой службе, это не их пренебрежение объективностью, а «необходимость мыслить об истории в династических понятиях». Эти узы историка были сформулированы в XI в. великим китайским историком Сыма Гуаном (1019–1086). Об их существовании сожалел в начале XIV в. Ма Дуаньлинь (1250–1325), именно он первым противопоставил простому описанию взлетов и падений превосходство академической истории, которая единственная позволяет установить непрерывность событий.
Эти историки начала II тысячелетия н. э. были последователями своего учителя и наставника, историографа и астролога императорского двора, Сыма Цяня (145?—90? до н. э.). Его «Исторические записки» («Ши цзи»), которые было бы точнее перевести как «Книга придворного историографа», были частично переведены Эдуардом Шаванном в 1895 г. и стали открытием для европейских исторических исследований. Произведение Сыма Цяня состояло из пяти частей, посвященных соответственно императорским хроникам, хронологическим таблицам, трактатам на различные темы, благородным домам и, наконец, биографиям. Сыма Цянь выходит за пределы существующих хронологических и аналитических рамок, унаследованных от предшественников. Он смотрит на исторический материал намного шире, используя новые методы, обращаясь к самым разным темам, касающимся политики и человека. Его подход к истории позже станет моделью для последующих поколений историков, и уровень его произведения настолько высок, что невозможно не привести цитату из него.
Сам Сыма Цянь так излагал основные принципы и цели своего громадного труда: «Я, как тенетами, весь мир Китая обнял со всеми старинными сказаньями, подверг сужденью, набросал историю всех дел, связал с началами концы, вникая в суть вещей и дел, которые то завершались, то разрушались, то процветали, то упадали, и вверх веков считал от Сюань Юаня, и вниз дошел до нынешнего года. Составил десять я таблиц, двенадцать основных анналов; трактатов, обозрений – восемь, наследственных родов-фамилий – тридцать, отдельных монографий – семьдесят, а итого сто тридцать глав. И у меня желанье есть: на этом протяженье исследовать все то, что среди неба и земли, проникнуть в сущность перемен, имевших место как сейчас, так и в дни древности далекой. Дать речь отдельного совсем авторитета…» [7]7
Перевод В. Алексеева.
[Закрыть]
В целом 300 глав, 526 500 слов – вот состав книги великого историка. «Исторические записки» написаны одним из трех классических стилей китайской литературы и создают живую картину тех событий, которые автор воскрешает в памяти. Вместо того чтобы использовать косвенную речь, Сыма Цянь предпочитает включать в свое произведение оригинальные документы, императорские указы, воспоминания, декреты, которые были ему доступны как чиновнику и архивариусу императорского двора.
Функции главного придворного историографа отличались от задач простого рассказчика или хрониста, подобного Григорию Турскому или Жофруа де Виллардуэну. [8]8
Григорий Турский (ок. 540–594) – франкский историк, происходил из знатной семьи в Оверни, настоящее имя – Георгий Флоренций. Епископ Турский, почитается как святой и чудотворец. Его главное сочинение «Historia Francorum» – взгляд на историю с религиозной точки зрения.
Жофруа де Виллардуэн (ок. 1150–1218) – знатный сеньор, маршал Шампани, один из предводителей крестоносцев в IV Крестовом походе, участвовавший в захвате Константинополя в 1204 г. Автор исторического труда «Завоевание Константинополя» (изд. 1585).
[Закрыть]Скорее они совпадали с задачами историка в современном смысле этого слова. Его произведение было плодом долгой работы, включавшей исследование, выборку и критику документов.
Если впоследствии такая работа уже входила в функции придворных историографов, то от Сыма Цяня подобный подход требовал большой смелости. Из простого астролога, каким он был изначально, Сыма Цянь стал судьей прошлого и проводником в будущее. Тот факт, что он претендовал всего лишь на продолжение труда собственного отца, Сыма Таня, был всего лишь вымышленным извинением, для того чтобы под предлогом сыновней любви избежать критики и обвинений в оскорблении величества.
Отвага, которую он проявлял на протяжении всей своей жизни, имела печальные последствия. Для того чтобы нака затьСыма Цяня за то, что он выступил в защиту генерала Ли Лина, сдавшегося в плен варварам хунну (сюнну), император У приговорил его к кастрации. Вместо того чтобы избежать подобного бесчестия и окончить жизнь самоубийством, Сыма Цянь предпочел покориться воле императора, чтобы иметь возможность, невзирая ни на что, завершить свое произведение. Он сознавал, что передает потомству новый взгляд на жизнь, и не ошибся, последующие поколения писателей не устают высказывать ему благодарность. Даже посреди раздоров и кровавых беспорядков, которые ввергли династию в полный хаос, Сыма Цянь остался незаменимым примером историка.
Его «Исторические записки» состоят из хроник ( цзи), биографий ( лечжуань), таблиц (бяо)и трактатов ( uty). Оригинальность «Ши цзи», первой из двадцати четырех официальных историй, которые создавались до династии Мин, основывается именно на научных трудах, которые впоследствии получили название чжи– описание, трактат или просто история. Последовательность трактатов определяется степенью их важности: первыми идут труды о ритуалах и музыке. Эти ритуалы объединяют все правила протокола и поведения (обычаи и костюмы, религия и чиновничья иерархия). В эту часть входят трактат о жертвоприношении (цзяо сы),о церемониях двора (ли и),об ограничении расходов, знаках отличия и придворном костюме (ю фуи чэ фу).На втором месте стоят научные труды, посвященные земледелию: календарь (лэй ли)и астрономия (тянь вэнь),которые использовались и в последующие эпохи. Дальше шли исследования и заметки о чрезвычайных явлениях ( у син),таких как наводнения, засуха, знаки и предзнаменования. В период династии Сун будут созданы разделы, посвященные животным, планетам, лингвистике, в том числе ономастике, картографии, археологии. Значительная часть его трактатов содержит и рассуждения относительно реальных причин этих событий. Они служили проводником правительственного опыта, становились памяткой для идеального бюрократа. Также в «Ши цзи» есть главы, которые посвящены иерархии чиновников и функциям каждого из них (бай гуань чжи гуань),их набору и продвижению по службе ( сюанъ цзинь),географии ( ди ли),гидрографическим системам ( хэ ци),экономике ( ши хо),юридическим учреждениям ( син фа).Наконец, его трактаты содержали библиографический список (и вэньили цзин цзи).Используя разные варианты порядка разделов, учитывая особенности тех эпох, в которые они создавались, двадцать четыре официальные истории полностью соблюдали структуру «Исторических записок», хотя в семи из них, посвященных второстепенным династиям, отсутствуют трактаты.
Ценность трудов Сыма Цяня становится еще значительнее, если учесть, кому были адресованы эти работы. Для бюрократии они были необходимым vade mecum. [9]9
Vade mecum – букв.: «иди за мной»; путеводитель (лат.).
[Закрыть]Также они имеют неоспоримую ценность для историка. Хотя сведения часто кажутся неполными, научные знания представлены довольно слабо, технические детали редки и лаконичны, а интересные цитаты часто урезаны, все же трактаты Сыма Цяня остаются важнейшим источником информации о государственных учреждениях, и часто именно здесь можно познакомиться с текстами, оригиналы которых до нас не дошли.
Официальная китайская история в форме систематизированных громоздких трактатов произошла от древних хроник, которые писали на бамбуке (IX в. до н. э.). В них отмечались случившиеся события; чтобы сохранить их в памяти, год за годом создавался обширный список достижений правительства. Работа архивариуса мало-помалу доставалась переписчикам и жрецам, хранителям памятных событий каждого правления, они же создавали генеалогические древа, которые обеспечивали законность правительства, поскольку в глазах населения его легитимность оправдывалась продолжительностью нахождения рода у власти.
Самые древние хроники этого типа известны под названием «Весна и осени», которые содержат записи об успехах и неудачах царства Лу (722–481 до н. э.). Эти хроники являются частью более древнего свода, который дошел до нас, однако выяснить причины создания этого текста довольно трудно. Хроники «Весна и осени» принадлежат к единой литературной письменной и устной традиции, создание единого свода приписывают Конфуцию (551–479 до н. э.). Философ и мыслитель, приверженец принципа идеального правительства, на протяжении всей своей жизни и учительства он собирал различные тексты, сформировавшие в итоге так называемое «Пятикнижие» («У цзин»). В него вошли «Книга перемен» («И цзин»), «Канон истории» («Шу цзин»), «Канон песен» («Ши цзин»), «Записки о ритуале» («Ли цзи») и упомянутые хроники «Весна и осени» («Чуньцю»). «Вёсна и осени» – это хроники родины Конфуция, так ее воспринимали в других царствах, что подтверждают археологические исследования. Самый древний текст этого источника известен нам по «Погодным записям на бамбуковых дощечках» («Чу-шу-цзи-нянь»), которые дошли до нас в поздней редакции. Также более поздней эпохой датируются и комментарии к «Хроникам царства Лу». Самые знаменитые из них – это «Цзо Чжуань», «Коменнтарии Цзо», названные так по имени автора. «Вёсна и осени» вместе с «Цзо Чжуань» создают красочную картину, включающую в себя когда-то существовавших людей и их обычаи. В этот период чувство общественной морали претерпело значительные изменения, мораль была формализована историей, приверженностью к обрядам первых династий. Вот почему личность Конфуция, возможно без особых на то оснований, тесно связывают с редакцией первых исторических текстов.
Тем не менее следует признать, что не стоит связывать развитие историографии в Китае исключительно с конфуцианской щколой. Понятие истории уже с IV в. до н. э. витало в воздухе. Примеры из прошлого использовали для поддержки своих идей те или иные философские школы, часто совершенно разные. Так софисты пытались определить, как эволюция реальности проявлялась в развитии лексики.
Китайское общество, создав свою первую модель классического общества, искало в прошедших веках образ собственной идентичности. Следствием этого стало рождение морализаторского тона его истории, а историки прилагали усилия, чтобы выявить в прошлом цепочки причинно-следственных связей. Подчинить факты заранее заданному, авторитарному, схематичному порядку было большим искушением, и многие авторы ему поддались. Моралистические рассуждения отдельно от простого описания событий, часто помещенные в эпилоге в заботах об объективности, не должны никого вводить в заблуждение. Части текста были выбраны или опущены так, чтобы изначально вести к единственно возможной формулировке вывода, об этом пишет Анри Марру: «История неотделима от историка. Она всегда отмечена и даже смоделирована теми усилиями, которые он прилагает. История не может не отражать богатство и границы его культуры, качество его мышления. Для начала история появляется как ответ на вопрос, заданный документами и в целом даже самим историком, который может найти только то, что он ищет. Историк допускает достижение только той цели, которую он перед собой поставил».
Однако устройство империи коренным образом изменило цели, которые стояли перед историками: они не должны были больше описывать народ, их задачей стала регистрация деятельности огромной административной машины. Авторы, писавшие о прошлом, должны были демонстрировать критическое мышление по тем правилам, которые официально действовали на протяжении всей истории китайской историографии. Одной из целей было обязательное внушение правящему императору мысли о том, что он не должен повторять ошибки своих предшественников. Такая задача придавала историку моральную силу судьи. Например, в эпоху Поздней Хань тяжелая обязанность по созданию истории прошедших веков возлагалась на старых астрологов. Также эт*у задачу доверяли тем, кто имел литературный талант. Так, в царстве Восточная Хань задачу составить историю их предшественников – царства Западная Хань – получили Бань Гу и его дети, которые тоже были одаренными писателями. В их очень живом произведении «Хань шу» можно найти проблемы, которые странным образом оказываются для нас близкими: трудности, вызванные изменениями в практике земледелия, нехватка рабочих рук, замораживание цен, манипуляции правительства с чеканкой монеты. Долгая работа над составлением истории Западной Хань длилась до 177 г. н. э. Эта летопись известна под названием «Записки о [Ранней] Хань» («Хань цзи»), из нее до нас дошли только отдельные фрагменты.
Несмотря на беспокойные времена, которые последовали в конце периода Хань и в период Борющихся Царств, территориальные разделы официальной истории продолжали создаваться. Из десяти династий, которые существовали в начале I тысячелетия н. э., а точнее со II до VI в. н. э., при пяти дворах были созданы официальные династийные истории. Остальные пять, как и летопись, касающаяся конца VI в., были написаны уже историками VII в., поскольку первые императоры династии Тан (618–907) были заинтересованы в составлении этих текстов и в создании специального департамента историографии. Именно с периода династии Тан официальные истории предыдущей династии стали составляться ее преемниками. Так, летописи, охватывающие период с VII до XVII в., были составлены авторами, жившими в IX–XVIII вв.
Тем не менее каким бы богатством материала не обладали династийные истории, они составляют только часть всего колоссального массива китайских источников. Прежде всего нужно назвать материалы и документы, которые позволяют создавать учебники и из которых до нас дошли только отрывки или копии. Речь идет об императорских архивах, в которых можно обнаружить самые разные формы источников. Первыми необходимо упомянуть произведения типа «Записей о деятельности и отдыхе императоров» («Ци цзюй чжу») – обзор повседневной жизни императора, которую записывали секретари-историки. Это произведение, дополненное «Записями о делах правления» («Ши чжэн цзи»), стало источником для составления «Ежедневной хроники» («Жи ли»),которая, в свою очередь, вызвала редакцию «Правдивых записей» («Ши лу»). По этим двум последним источникам, в которых под видом хроник содержались биографии и сборники правил (хуэйяо или хуэйдянь), иногда составляли национальную историю (го ши).За исключением сборников правил все эти тексты составляли важнейшую часть императорских архивов, существовали только в одном или двух экземплярах и считались секретными. Такое количество документации часто позволяло новой династии очень быстро составить официальную историю своих предшественников. Так, например, в период династии Юань (1280–1368) китайскому историку монгольского происхождения Тото (Токто) оказалось достаточно двух с половиной лет, чтобы написать не только историю предшествующей династии Сун, но и двух некитайских династий Ляо и Цзинь.
Наконец, слава династийных историй не должна нас заставить забыть о существовании значительного числа компилятивных историй, первая из которых была создана в VII в. Лю Чжицзи (661–721). Его «Общие положения истории» («Ши тун») представляют собой первое произведение, в котором присутствует историческая критика. Самым ярким источником этого направления является появившееся три с половиной века спустя «Зерцало всеобщее, управлению помогающее» («Цзы чжи тун-цзянь») историка Сыма Гуана, который по своему значению не уступает жившему двенадцать веков назад родоначальнику истории Сыма Цяню.
Наряду с этими историческими текстами, многие другие произведения содержат в себе еще более важную информацию, если это вообще возможно. Речь идет об энциклопедиях (лэй шу),которые были сборниками знаний и литературной лексики, политическими учебниками и коллекциями текстов. Предшественниками энциклопедий были списки-классификаторы, например «Эр-я», который был составлен во II в. до н. э. и получил широкое распространение в. связи с необходимостью подготовки к экзаменам на должность чиновника. Эти труды больше всего напоминают антологии текстов, сгруппированных по темам, поэтому европейский термин «энциклопедия» не всегда является подходящим. Самые древние произведения, вероятно, были написаны исключительно для того, чтобы их использовал правитель, как, например, составленная вначале III в. энциклопедия «Зерцало императора» («Хуан Лу»). Самым интересным для нас является созданная одновременно с приходом к власти династии Тан энциклопедия «Отрывки из книг Северной беседки» («Бэйтан шучао»), которая состоит из нескольких разделов, посвященных не только политике, экономике, государственному устройству, военному делу, но и продуктам питания, одежде, кораблям и транспорту. Некоторые произведения этого типа могли быть посвящены самым важным проблемам той эпохи, в которую они были созданы. Так обстоит дело с «Государственными учреждениями» («Шен дянь»), написанными около 740 г. сыном великого историка Ли Чжицзи – Ли Чжи. Именно основываясь на этих трудах, Ду Ю (735–812) написал в 801 г. первую обобщающую историю государственных учреждений «Тун дянь» – образец этого жанра.
* * *
Таким оставался вплоть до XX в. список основных источников по истории Китая: летописи, хроники, классические авторы, династийные или национальные истории, различные сборники, энциклопедии, критические работы.
Именно с этими источниками всегда работали и работают китайские и зарубежные историки. Первыми синологами были португальские, итальянские, испанские, французские, а позднее и английские миссионеры. Они с терпением и мужеством разбирали множество текстов, которые иногда переводили in extenso, [10]10
In extenso – полностью (лат.).
[Закрыть]но чаще все же составляли их краткое изложение. Привлекательность текстов классических авторов привела к созданию огромного числа трактатов по конфуцианству, которые священники должны были знать, чтобы облегчить свою миссионерскую деятельность. Несмотря на достаточно высокое качество этих работ, первый комментированный перевод «Исторических записок» Сыма Цяня, сделанный Эдуардом Шаванном, появляется только в начале XX в. Рождается то, что следует назвать критической синологией, которая основывается не только на самих текстах, но и на комментариях к ним, как древних, так и современных. Впоследствии европейские и японские синологи сделали огромный вклад в мировое китаеведение, причем французская синология всегда играла главную роль. Стоит только назвать Поля Пеллио, поборника филологической точности в изучении истории Китая, Анри Масперо, который использовал все возможности исторического метода, изучая китайское прошлое, или Марселя Гране, который даже восстановил, пользуясь социологией Дюркгейма, жизнь Древнего Китая.
К этим работам необходимо добавить фундаментальные труды Этьена Балаша, Поля Демьевиля и Робера де Ротура, великих синологов середины века. Без этих исследований, например, произведение Рене Груссе, который использовал их, не взволновало бы так широкую публику.
Следует также отметить значимость новых данных, которые появились благодаря найденным в 1928 г. гадательным костям. Хотя возможности этих странных источников остаются еще практически неиспользованными, недавние исследования, вызванные этими находками, проливают столько нового на историю Древнего Китая, что нам приходится менять свою точку зрения, а значит, и все те принципы, базируясь на которых мы объясняли историю Китая.
Для того чтобы всегда представлять общую картину, в которую будут вписываться экономические или культурные феномены, описываемые в следующих главах, нам кажется необходимым в конце нашего введения кратко напомнить основные этапы китайской истории.








