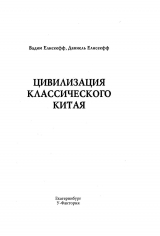
Текст книги "Цивилизация классического Китая"
Автор книги: Вадим Елисеев
Соавторы: Даниэль (Даниель) Елисеефф (Елисеев)
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 41 страниц)
Глава восьмая
ИСКУССТВО ЭПОХИ ТАН
Классический период эпохи Тан больше, чем любая другая эпоха в истории Китая, привлекает к себе внимание и услаждает взгляд. Ведь помимо расцвета изысканного философского мышления, меняющихся и развивающихся направлений которого всегда было очень трудно понять, это был золотой век предмета, семейного комфорта, становившегосядень ото дня все более утонченным и изящным благодаря легендарному таланту китайских ремесленников. Этот талант совершенствовал и эстетизировал многочисленные элементы, пришедшие с Запада, оттуда, где маленькие государства превращались в сателлитов коренного Китая.
Декоративные искусства
Китайская почва изобиловала различными богатствами.Она скрывала огромное количество металлов, таких как медь, олово, железо. Это изобилие не могло не порождать определенной зависти у более бедных соседей, которые стремились любыми средствами раздобыть китайские монеты и украшения. В свою очередь, это заставляло китайское правительство периодически принимать меры, препятствующие вывозу металлов из страны. На самом деле, подлинная нехватка касалась только золота, которое с периода Борющихся Царств использовалось для инкрустаций. Иногда его находили в аллювиальных наносах Сычуани, но чаще всего его нужно было везти из Аньнама (Вьетнама), откуда шло также и серебро. Этого импортируемого товара было достаточно, чтобы поддерживать долгий расцвет декоративных искусств, чему благоприятствовало появление нескольких новинок технического прогресса.

Обработка среброносного свинца
Золотых и серебряных дел мастера империи Тан, воодушевленные новыми идеями, пришедшими из сасанидского Ирана, создавали произведения искусства очень высокого качества. Они обновили традицию металлургов древности и первых лет империи. В то же время они начали использовать несколько технических новшеств, в том числе и изображенное на этом рисунке. Это иллюстрация из трактата, датируемого эпохой правления династии Мин, которая была скопирована из трактата династии Тан, периода, когда техника редуцирования огнем начала вытеснять технику промывания ископаемых. Нужно отметить мехи китайской кузницы, которые очень отличались от своего европейского подобия. Это была коробка с двумя отверстиями, позволяющими поместить внутрь подвижную панель, которая создавала движение воздуха. Часто в качестве кузнечных мехов использовались простые веера
Так, например, редкие металлы широко использовались при создании предметов роскоши. За искусность в этом ремесле, которая была вызвана дефицитом материала, обильно даровались всевозможные льготы. Также никуда не исчезали и древние методы, как, например, инкрустация орнамента из золота или серебра на литую бронзовую основу. Но, вероятно, появление персидских ремесленников, укрывавшихся в Китае после их бегства от арабского продвижения, серьезно изменило местные методы работы. Эмигранты научили своих китайских коллег ковать листовой металл. Благодаря этой методике в Китае появились изысканные предметы высокого качества, украшенные персидскими мотивами – виноградом или розетками, которые чеканились на предмете.
Благодаря тому что стекло, качество которого в эпоху Тан было улучшено, было известно в Китае с конца эпохи Чжоу, ремесленники полагали, что смогут воспроизвести драгоценные камни во всех тонкостях, вплоть до их магического блеска. В Китае существовало два вида стекла: первый вид ( лю-ли), полупрозрачный, либо совсем непрозрачный, состоял из подкрашенной замазки, из которой создавались милые подделки под драгоценные и полудрагоценные камни. Второй вид ( бо-ли),напротив, был прозрачным: оставаясь бесцветным, он напоминал горный хрусталь. Иногда в него добавляли пигмент, чтобы получить дымчатое стекло. В период Тан появилась мода на дутые сосуды, изготовленные из такого стекла. Тем не менее они оставались редкостью, и в Китае в основном использовались стеклянные емкости, привезенные с Запада вместе с другими сокровищами: это и голубое стекло из Ферганы, голубые и розовые стекла из Бухары, красное и зеленое стекло из Рима. В области декоративного искусства путаница, возникающая при попытках отличить друг от друга стекла местного и иностранного производства, была обычным явлением и имела лишь второстепенное значение. Исключительно важным фактом было то, что украшения эпохи Тан, независимо от того, были они экзотикой или нет, всегда были цветными.
Ювелирное искусство
Задолго до правления династии Тан в истории династии Северная Вэй мы встречаем упоминание о том, что в пригородах Лояна находился богато украшенный «зал неизменного постоянства»: «Четыре колонны, поддерживавшие навес фасада, были сделаны из черного камня, отобранного в долине Восьми Ветров, около Лояна. На них были высечены барельефы, в которых использовали серебро и золото, отделявшее скульптуры от туч, так что создавался эффект парчи… Была там и перегородка из голубого камня, окаймленная мрамором, также украшенная барельефами с фигурами, символизирующими верность и сыновнюю любовь, на которых были написаны имена добродетельных и послушных [выдающихся особ]. Перед храмом располагалась стела и скульптуры животных. Камень, из которого была высечена стела, был очень красивым. Перед дверями [императорского] дворца находился Зал императорской искренности. На всех четырех его стенах были изображены портреты мудрецов, верных министров, храбрых офицеров, снабженные подписями, позволяющими понять, кто это…»
Во всех украшениях средневекового Китая богато использовались различные цвета и драгоценные камни. Их оживлял целый мир изображений, которые были объемными, пигмент наносился штрихами. Они были большого размера, а их общая тяга к роскоши и пышности была достойна Версаля.
Эпоха Тан вывела это стремление к красочности на новый уровень. Богатый дом этого времени должен был напоминать пестрый праздник. Хотя резьба по «твердым камням», которая так нам знакома, была еще не слишком распространена, а моДа на драгоценные вычурные предметы развилась только начиная с X в., цветные камни, напротив, были частыми спутниками повседневной жизни. Это могла быть декоративная плитка или облицовка на золотой или серебряной основе.
Сюань-цзун испытывал особую тягу к лазуриту, любимому материалу дальневосточных ювелиров. В его зимней резиденции, расположенной на лесистых холмах, соседствовавших с Чаньянью, с восточной стороны, в центре маленького горного озера, был обустроен миниатюрный остров из лазурита: он выступал из чистых вод, напоминая голубой горный пик. Придворные дамы, одетые в переливающиеся цветные одежды из шелка, управляя при помощи весел легкими судами из лакированного сандалового дерева, плавали вокруг него.
Иногда это богатство появлялось и на улицах. Примерно с VI в. постепенно распространился обычай праздновать нача лонового года: в полнолуние к двери прикреплялся изящный яркий фонарь, свет которого должен был затмить свет луны. Этот же праздник был и поводом отменить обычный для больших городов сигнал к тушению огня, и поводом петь и веселиться до рассвета. Каждый город, каждый храм, каждый человек состязались в роскоши. В честь этого праздника Чаньянь украшали пятьдесят тысяч огней, танцевавших в мисках, которые несли в руках тысячи молодых женщин. Волосы женщин были убраны разноцветными булавками, они шествовали вдоль улиц, украшенных вышивками и металлическими знаменами. В Лояне повсюду горели свечи, а во многих местах возвышались «световые башни» на креплениях из золота, серебра или драгоценных камней, украшенные шелковыми тканями. Они достигали примерно сорока пяти метров в высоту, и на них располагались лампы в форме прыгающих драконов, тигров, фениксов и леопардов. Там же было отлито великолепное дерево из бронзы, настолько прекрасное, что император возил его по провинциям, чтобы каждый мог им полюбоваться. Но, вне всякого сомнения, самым странным оставалось дерево, которое в середине VII в. привез в столицу сын правителя Бухары: у дерева было семь ветвей, на которых были развешены лампы из агата. Слава производителя самых красивых фонарей в эпоху Сюань-цзуна была у города Янчжоу. Век спустя, в 839 г., ими любовался японский путешественник Эннин.
Самым часто используемым китайскими ювелирами материалом был нефрит, так как использование жадеита распространилось только в Новое время. К сожалению, неточность китайских терминов делает трудным точное определение того материала, с которым действительно работали скульпторы. Иероглиф, который традиционно переводят, как «нефрит», часто означал просто «декоративный камень» и мог также подразумевать несколько видов мрамора, стеатита, пирофиллита или змеевика. Настоящий нефрит, использование которого кажется таким же древним, как и сама китайская цивилизация, в Китае не встречается. Его, как и лазурит, приходилось везти по южной дороге Шелкового пути из Хотана, где его можно было найти в руслах двух рек, которые сливались около этого караванного города.
Тем не менее у всех щеголей были многочисленные вазы и коробочки забавных, часто архаичных форм, вырезанные из самых различных видов нефрита: в них хранили ароматные травы и притирания.
Прически и одежда украшались кулонами в оправе из золота и серебра. В VII в. даже распространилась мода носить пояса, изготовленные из нефритовых пластинок. Наконец, из того же материала были вырезаны тысячи изящных безделушек, таких как, например, статуэтки, изображающие любимых лошадей Сюань-цзуна. В китайских мастерских использовался один секрет: там применяли привезенные из Центральной Азии или, что было проще, от соседей уйгуров, алмазные резцы, драгоценные орудия труда ювелиров, которые даже позволяли сверлить жемчуг. Однако эта тонкая техника и успех этих предметов у зажиточных высших слоев создали некоторый дефицит настоящего нефрита. Доказательством этого служит то, что Сюань-цзун лично следил за тем, чтобы все культовые предметы были вырезаны из настоящего нефрита – единственного материала, обладающего сверхъестественными свойствами, – и для этого пришлось уменьшить их размеры.
На самом деле, количество редких и драгоценных камней в Чаньяни было огромным, так как они служили подарками добрым соседям и отражали существование учтивых дипломатических отношений с близкими или дальними государствами. Алмаз, использовавшийся ремесленниками, скрывал в себе тайну камня, который, как полагали китайцы, рождался в центре золотой глыбы. Он символизировал тело Будды, который сидел на сверкающем троне, после того как достиг Просветления. Показательно, что в период правления династии Тан, бесспорно, самой популярной была «Алмазная сутра», сокращенный вариант Праджняпарамита-сутры, когда-то переведенной Кумарадживой. Этот ослепительный и очень редкий камень охотно заменяли горным хрусталем, который также привозили из соседних стран, Японии или Самарканда. Любители ценили его прозрачность и мягкое мерцание, которые они сравнивали со светом далеких звезд.
«Огненные шары», кристаллы из Кашмира, или глаза китов, обладавшие естественным фосфоресцирующим эффектом, были также очень привлекательны. Эти издающие свет сферы символизировали учение Будды, которым он осветил весь мир. Начиная с VII в. китайские ремесленники стали создавать их обычные копии из бронзы. Скоро они стали возвышаться на крышах пагод как видимые вехи высшей истины.
Совершенно безукоризненный, отливающий всеми цветами радуги, мерцающий круглый жемчуг не переставал поражать воображение. Ему приписывались тысячисверхъестественных свойств: он позволял находить воду в пустыне и обнаруживать на дне океанов сокровища правителей-драконов. В Китае самым крупным центром добычи жемчуга была древняя провинция, которая называлась Хэпу (в юго-западной части современного Гуандуна). Этот безлюдный регион в правление династии Хань стал известен благодаря своему жемчугу. Его добыча шла огромными темпами, при этом совершенно никто не заботился о защите естественной среды, поэтому его запасы быстро истощились. В период Поздняя Хань правительству пришлось восстанавливать равновесие, обуздывая активность рыбаков'и ставя под свой контроль сохранение устриц. Событие, которое получило название «возвращение жемчуга», до такой степени поразило воображение, что в VII в. оно превратилось в способ напомнить, о contrario,о хищном опустошении и роковых следствиях чрезмерной жажды наживы. В правление династии Тан добыча жемчуга процветала, так как первые императоры приказали посылать его ко двору в качестве подати. Приказ был отменен в 655 г., затем снова стал действовать в полную силу, и, наконец, к последним годам правления династии Тан установилось чередование периодов добычи и отдыха. Вне пределов Хэпу жемчуг находили в Сычуани, в раковинах, живущих в пресной воде. Однако никогда китайские раковины в глазах любителей не могли сравниться с теми, которые добывались в южных морях.
Украшение дома
Одежды, мебель, ширмы, занавеси обращали на себя внимание самыми разными украшениями: кроме жемчуга и цветных камней, использовались черепаховые панцири, которые привозили из Аньнама (Вьетнама), перламутр, янтарь, гагат из Серинды, клыки нарвала из Сибири, рога носорога и слоновую кость (из которых была сделана «палочка исполнения желаний», сохранившаяся в Нара).
Шерстяные ковры из Бухары помогали согревать изящные жилища, а лак, как и когда-то, придавал легкость материалу и живость краскам. Если использование последовательно окрашенного слоями или отшлифованного лака в Китае насчитывало уже тысячи лет, то резной лак, который называли «резной красный» ( ти-хун), появился именно в период Тан. На заготовку из дерева или металла ремесленник наносил несколько слоев лака, который старательно высушивался перед каждым нанесением нового слоя. Когда достигалась желаемая толщина, на лаке вычерчивались линии выбранного мотива, а затем начиналась гравировка ровной, поблескивающей поверхности.
В высказывании «древняя простота и некоторая неловкость, полная очарования», без сомнения, выражается отдаленная связь с японскими принципами сабии ваби.Несколько веков спустя в среде японской аристократии, например, очень ценилась патина на предмете.
Лак полностью или частично покрывал самые разные предметы: столы, кубки для вина, чаши, подносы, маленькие домашние алтари, коробочки для притираний, гребни, зеркала, колчаны, ножны, древки стрел или копий, луки, доспехи, а также деревянные погребальные фигуры и крашеные ширмы. Самые крупные центры по производству подобных вещей были расположены в теплых и влажных регионах Чжоцзяна, в Цзясин, между Сучжоу и Ханчжоу. Также несколько интересных деталей было найдено в Юньнани. На декоре больше не воспроизводились сцены охоты или битв, которые были свойственны эпохе Борющихся Царств. Их сменили сложные темы цветов, зачастую украшенные инкрустациями из золота или серебра. Они пользовались большой популярностью. Существовал способ, который назывался «пин то», согласно которому драгоценный металл, истолченный в порошок, смешивался с перебродившей смолой. В этой технике были изготовлены вещи, которыми Сюань-цзун и Ян Гуйфэй одаривали Ань Лушаня. Эта техника в Китае довольно быстро исчезла, однако она расцвела в Японии, где ею прославились мастера блистательной культуры Фудзивара (XI–XII вв.).
Зеркала в какой-то степени стали мирским предметом. Впрочем, последователи даосизма продолжали использовать их в качестве амулетов. Они использовали их, чтобы лечить болезни или усмирять злобных духов. Поэты видели в зеркалах отражение Справедливости или Любви. Однако неистощимая радость жизни привела к тому, что зеркала стали предметами искусства, древние религиозные табу были забыты, а ремесленники изображали на них плетеные узоры из цветов, листьев, птиц и стилизованных драконов.

Использование зеркала
Металлическое зеркало, ставшее модным в период Борющихся Царств, было чаще всего круглым или дольчатым предметом, однако могло иметь квадратную или многоугольную форму. Одна его сторона была тщательно отполирована, ее поддерживали в хорошем состоянии, чтобы можно было видеть в ней отражение. Другая сторона обычно была искусно украшена многочисленными рисунками, по которым можно производить датировку, если дата отсутствует в надписях на ободе. Датировке могут помочь также написанные поэтические строки или благие предзнаменования. В центренаходилась шишечка, в которой было просверлено отверстие, в которое обычно протягивали ленту или шнурок. Это позволяло либо держать зеркало в руках, либо, как это изображено здесь, установить его на подножке, чтобы делать прическу. Использование зеркала с рукояткой, хотя и было известно, не было распространено вплоть до Нового времени, а стеклянные зеркала, пришедшие с Запада, появились еще позже, в конце XIX в. Здесь на рисунке мы видим также многочисленные изящные лакированные шкатулки, в которых красавицы того времени держали притирания и предметы туалета.
Глубокие технические перемены в этот период произошли и в гончарном ремесле. Самыми специфическими и самыми привлекательными, на наш взгляд, элементами культуры Тан являются известные так называемые трехцветные сосуды (сань цай),поверхность которых окрашивалась наложением отдельными мазками краски – белой, желтой и зеленой, которую в конце эпохи Тан заменили голубой. Эти веселые тона украшали тысячи осколков найденной загробной посуды и статуэтки, клавшихся рядом с покойником ( мин-ци). В мире живых мода на три цвета распространялась только на орнамент черепицы и кирпичи храмов и дворцов. Кроме того, она просуществовала не больше века и к концу правления династии Тан перестала пользоваться успехом. Сегодня ученые полагают, что подобная трехцветная керамика по своему происхождению восходит к скромному блеску камней, раскрашенных мастерами периода Шести Династий.
Однако гончары, количество печей которых только увеличивалось, интересовались и еще более удивительными техниками. Они создали протофарфор [97]97
Фарфоровое производство развивалось постепенно. Обычно считается» что протофарфор, или «примитивный фарфор», сделанный из глины каолина, встречается в XI в. до н. э. Изделия из протофарфора не имели необходимой концентрации полевого шпата и кварца. Настоящий фарфор был изготовлен в I в. н. э.
[Закрыть]облицовывая глину золой, полученной от сожженного дерева, а затем помещая это в печь при высокой температуре. Сегодня нам не известно, была ли техника производства фарфора, некоторые элементы которой восходят еще к эпохе Шан, утеряна, а затем восстановлена уже в правление династии Хань или, напротив, она сохранялась всегда и медленно совершенствовалась в основных китайских центрах на протяжении веков. Вплоть до сегодняшнего дня казалось, что пробел в знаниях заполнен, а все сходства являются случайными. Однако множество современных находок заставляют относиться к этому заявлению с большой долей осторожности.
Самые древние из известных нам печей располагались в стране Юэ, в Чжоцзяни. На протяжении эпохи Цзинь (III–IV вв.) их использовали для производства глиняных чаш, которые, как говорили, имели нефритовый отблеск. Они были предками зеленой посуды, самый яркий период расцвета которой пришелся на правление династии Сун. Европа узнала в недавних копиях этих произведений цвет лент, которые носил знаменитый герой «Астреи», пастух Селадон. [98]98
Селадон – тип китайской керамики эпохи Сун (X–XIII вв.) из фарфорообразной массы, покрытой светлой серовато-зеленой глазурью, состоящей из окислов железа. Французское название возникло по ассоциации с образом Селадона, персонажа романа писателя О. д’Юфре «Астрея», украшавшего свою одежду лентами зеленого цвета.
[Закрыть]Танские чаши отличались от селадонов, созданных в эпоху Сун, более темным оттенком глазури, вызванным высоким содержанием железа в используемой глине. Без сомнения, эти чаши высоко ценили иностранцы, потому что их находят в Фостате в Египте и в Самарре, когда-то входившей в состав халифата Аббасидов, в Сузах и в Японии, где они, возможно, послужили образцом для первых гончаров города Сето.
На севере Китая также существовало множество печей. Самой знаменитой была печь в Синчжоу, в провинции Хэбэй, однако определить ее точное местоположение не удается до сих пор. Там производили керамику белого цвета, формы которой широко заимствовались не только в китайской традиции, очень обогатившейся, в частности, в период правления династии Суй, но и у металлических образцов, пришедших из Ирана, – кувшинов для воды, амфор с изящно изогнутыми ручками, произвольные линии орнамента которых напоминали очертания птиц. Между тем Синчжоу не единственный центр создания белого фарфора; Фарфор Чаньяни, ни одного примера которого до наших дней не дошло, был знаменит тем, что напоминал белый нефрит. Фарфор, который производился в печи Дай, в провинции Сычуань, вызывал восхищение у Ду Фу: «Фарфор из печи Дай легок и вместе с тем прочен. Если по нему постучать, он издаст звук нефрита, его изящество знаменито во всех городах. Ваш дом скрывает в себе чаши, которые прекраснее инея и снега. Сжальтесь надо мной и пришлите мне одну в мою соломенную обитель».
Танская белая керамика, прототип керамики эпохи Сун, отличалась относительным отсутствием блеска и была достаточно массивной. Более того, изначальная обработка глины, ее качество иногда оставляли желать лучшего. Часто под глазурь наносили белый ангоб, [99]99
Ангоб (франц. engobe) – декоративное керамическое покрытие, наносимое на поверхность керамического изделия и закрывающее цвет или грубую структуру материала. Различают ангобы белые (из беложгущихся глин) и цветные (из глин с цветообразующими добавками).
[Закрыть]предназначенный скрыть сероватый оттенок материала. Это позволяло добиться холодной белизны, которая была менее приятна, чем теплый оттенок цвета слоновой кости, свойственный произведениям мастеров периода Сун. Скромная роспись состояла из листвы и цветов, то вырезанных под глазурью, то нарисованных, как в Дунгуане.
«Зеленыецвета» Юэ и «белые цвета» Хэбэй с самого начала имели своих непримиримых сторонников. Лу Юй, автор «Чайного канона» («Ча цзин»), так превозносил достоинства «зеленой керамики»:
«Некоторые думают, что керамические изделия Синчжоу превосходят те, что происходят из Юэчжоу. Однако это совсем не так. Керамика Син напоминает серебро, керамика Юэ – нефрит. Это первая причина, по которой Син следует оценивать ниже, чем Юэ. Керамика Син напоминает снег, керамика Юэ – лед. Это вторая причина, по которой Син следует оценивать ниже, чем Юэ. Керамика Син – белая, а чай – коричнево-красный, керамика Юэ – зеленая и чай – зеленый. Это третья причина, по которой Син следует оценивать ниже, чем Юэ».
Впрочем, помимо вкусов, которые могли быть различны, этот текст делает наглядным споры, которые всегда противопоставляли, как в Китае, так и в Японии, строгий «вкус чая» и блестящий светский вкус. Гончары периода Тан изобрели все те приемы, которые позволили их сунским последователям создваать настоящие чудеса искусства: живопись под глазурью, особенно развитая в Чаныпа; использование ангоба и глазури, содержащей полевой шпат или фосфорнокислые соединения, которые на просвет создавали эффект огня; смешение разных видов глины с целью добиться сходства с мрамором.
Однако талант китайских мастеров особенно проявился в производстве тканей. Китайцы соперничали со своими персидскими коллегами в том, кто сумеет создать самые изысканные, а может быть, и самые красивые материи на свете. В правление династии Тан существовало около десятка видов ткани. Кроме разнообразных холстов из льна и шерсти, ремесленники искусно обрабатывали лучший из материалов – шелк. Эпонж, дамаст, газ соседствовали с атласом, который был создан именно в период Тан. Украшающий ткани орнамент, по большей части сасанидского происхождения, создавался при помощи целого комплекса умений. Отказавшись от характерного для периода Хань простого «эффекта цепи», при котором единственная уточная нить создавала рисунок на лицевой стороне ткани, мастера периода Тан научились пользоваться одновременно трехи пятицветными нитями, переплетенными таким образом, что рисунок был виден не только на лицевой, но и на обратной стороне ткани в зеркальном отражении. Одновременно яркость многоцветия достигалась изяществом очертаний рисунка и верностью передачи представленного сюжета.
На протяжении VIII в. часто практиковали окрашивание с помощью тщательно обработанных деревянных дощечек. Казалось, что китайцы в эту эпоху почти не применяли технику печатания воском (батик), обычную для Запада и некоторых азиатских государств. Тем не менее окрашивание в основном применялось к тканям, которые были худшего, по сравнению с шелком, качества. В Китае уже широко был известен хлопок, слово, обозначающее этот материал, встречается в китайском языке начиная с IX в. Хлопок привозили из Туркестана и Серинды, которая зависела от территории Китая, так же как современная Юньнань. Самый лучший хлопок рос в Индокитае и на юго-восточных островах Азии – Борнео и Цейлоне.
Китайцам были известны огнеупорные свойства асбеста, с его помощью создавалась ткань, которую называли «моющаяся в огне». Существовал анекдот, согласно которому во II в. один человек бросил свою испачканную одежду в огонь, а достал ее оттуда чистой и свежей.
* * *
Этот долгий список достижений китайских средневековых мастеров объясняется их глубоким знанием природы и ее запасов. Каждая из дорогих материй, которые украшали изящные наряды или жилища, одновременно могла входить в состав многочисленных лекарств. Всему, что было красивым и редким, китайская фармакология, замешанная на даосизме, приписывала особые целебные свойства. Сегодня нам трудно понять их значение, так как словарь древних текстов остается неясным, филологические исследования не смогли продвинуться далеко, а информация, относящаяся к количеству и пропорциям ингредиентов, не сохранилась. Основываясь на имеющихся данных, мы также не можем точно отделить удивительные открытия от простых рецептов.
Неизбежным следствием развития китайской науки и знаний о минералах был талант китайских мастеров в искусстве фальсификации: результаты трудов алхимиков прошлого не только обманывали своих современников-простаков, но и до сих пор приводят в замешательство современных ученых.
Возможно, считалось необходимым не поддаваться очарованию внешнего блеска этих богатств. «Пуританские» заботы постоянно удерживали китайцев от признания своей страсти к драгоценным камням и редким материалам. В целях облегчения совести в китайском фольклоре появилась живописная фигура, которой тайно завидовали, но официально высмеивали. Это был «персидский ювелир», своего рода козел отпущения, дальневосточный аналог наших еврейских банкиров. Для императора единственными настоящими сокровищами оставались лошади, залог военного могущества и мобильности. Драгоценности, разнообразные сокровища, какими бы редкими они ни были, часто отбрасывались с показным высокомерием и презрением. Так, Гаоцзу вернул хану западных тюрков жемчужину удивительных размеров, которая была ему подарена, сказав при этом: «Жемчужина – это действительно сокровище, но намного большее значение мы придаем чистому сердцу. Именно из него мы должны создать жемчужину».








