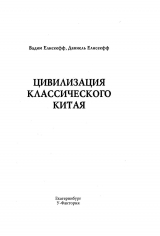
Текст книги "Цивилизация классического Китая"
Автор книги: Вадим Елисеев
Соавторы: Даниэль (Даниель) Елисеефф (Елисеев)
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 41 страниц)
Учебный год делился на семестры и декады. В каждой декаде был один выходной день, накануне которого ученики сдавали контрольный экзамен, прообраз большого экзамена, приходившегося на конец года. Более того, «каждый год в пятую луну у них были каникулы для обработки земли ( тянь-цзя). В девятую луну им предоставлялись каникулы, чтобы они могли найти себе зимнюю одежду ( шоу-и-цзя). Те, кто уходил на каникулы дальше чем на двести ли, получали документ, дающий право на это. Из школы выгоняли тех, кто был не способен проходить обучение, и тех, кто на протяжении года нарушал положение о каникулах, [т. е.] тех, кто опаздывал больше, чем на тридцать дней, тех, кто, отсутствуя по уважительной причине, опаздывал больше, чем на сто дней, и тех, кто, отсутствуя из-за болезни родителей, опаздывал больше, чем на двести дней».
Такое образование, в котором устная речь имела очень маленькое значение, за исключением заучивания наизусть изречений, требовало широкого распространения текстов. Их неустанно копировали в отдельные тетради, напоминавшие pecia, [85]85
Pecia (лат, «шкура»). В средневековых университетах – способ тиражирования учебных пособий. Выделанную под пергамент шкуру разрезали как тетрадь в некоторое число листов. Эти тетради раздавались студентам. Одни из них переписывали пособия для себя, другие – для своих богатых сотоварищей за деньги или кормежку. Потом тетради сшивались в блок. Таким образом довольно быстро размножался исходный текст.
[Закрыть]которые брали в аренду и изучали наши средневековые студенты.
Экзамены, проверявшие знания, полученные в этих высших учебных заведениях, давали право на одну из пяти «докторских степеней», созданных в начале или на протяжении VII в., по мере того как в правительстве проявлялась определенная специализация административных должностей. В их число входили три степени, которые соответствовали потребностям управления государством: право (мин-фа),каллиграфия ( мин-цзы) и математика ( мин-суань). Но самыми престижными оставались степени «совершенного мужа» ( цзинь-ши) и «знатока классических текстов» ( мин-цзин), так как их носители обладали общими знаниями и сохраняли равновесие между здравым смыслом и ученостью.
Экзамен на степень «совершенного мужа» включал в себя три письменных испытания. Первое из них, посвященное изречениям, заключалось в том, что экзаменуемый должен был завершить и исправить классический текст, который давался ему в усеченном и искаженном виде (те).Затем нужно было написать два литературных сочинения (цза-вэнь),а затем пять эссе, отвечающие на вопросы ( ци).Касательно последнего испытания мы процитируем пример, переведенный Робертом де Ротуром. Это извлечение из вопросов для экзамена «совершенного мужа» в шестнадцатом году эры Чжэнь-юань (800 н. э.):
«Доктрины, передававшиеся через мудрость святых, излагали свои основные положения в весьма туманной манере, но с глубоким чувством:
1. Что касается обрядов и музыки, которые поддерживают гармонию (тун)между Небом (тянь)и Землей ( ди).
2. И что касается легкости (и)и союза (цзянь),который можно встретить между деяниями Неба ( цянь) и Земли (кунь),по каким текстам можно изучить эти явления, по каким знакам можно их доказать?
3. [Лао-цзы сказал]: откажитесь от всех наук и вы будете свободны от всех забот.
4. Как [тогда] Лу, князь Юани, оказался на грани гибели [из-за своего презрения к знанию]?
5. [Мэн-цзи сказал]: люди, [которые следуют добродетели], Доброты ( жэнъ) не обогащаются.
6. Как [тогда] Гунцзы Цзин сказал [после того, как разбогател]: это почти совершенно?
7. На восточных склонах летает феникс.
8. Созревание деревьев может изменить песнь совы.
9. Превосходство остается за лесным петухом.
10. Сноровка всегда у того, кто предпочитает черепицу.
Все эти фразы еще не поняты. Мы желаем услышать ваши объяснения».
Получение других степеней также предполагало похожие испытания, которые были дополнены еще и устными вопросами (цоу ши).
Успешная сдача экзаменов отмечалась с большой торжественностью. На протяжении первой половины VIII в., в период расцвета Чаньяни, она была поводом для восхитительных праздников: банкеты у воды, церемонии приема в ряды получивших степень, которые можно назвать демократическими, так как образование, благодаря «четырем вратам» и техническим отделениям, было открытым для относительно широких социальных слоев. Без сомнения, каждый молодой человек, мямливший классические тексты вслед за своим деревенским учителем, мечтал однажды с волнением плыть по Цю Цзян (прогулочный пруд Чаньяни), отмечая торжественное внесение его имени в список кандидатов, получивших Высокую степень «совершенного мужа».
Духовное развитие
Помимо тесных рамок системы экзаменов, следует отметить, что эпоха Тан была основным этапом развития китайского философского мышления. В то время как философия периода Хань стремилась собрать и классифицировать всю сумму накопленного опыта, постепенно усвоить информацию о мире, которой становится больше, благодаря развитию науки и более частым путешествиям, интеллектуальную историю периода Тан отличает долгий методичный самоанализ в поисках лучших средств, позволяющих достичь знаний.
Чань-буддизм
Начиная с IV в. проникновение буддизма из Индии привело к тому, что китайские мыслители столкнулись с новым понятием, которое определяло развитие индоевропейской философии. Речь идет о понятии абсолюта, известного как в махаяне, так и в неоплатонизме.
Чжи Дунь (314–366), знаменитый монах, друг каллиграфа Ван Сичжи, блестящий знаток философии даосизма, пытался перевести это понятие на китайский. Однако сугубо прагматичный язык ханьцев, не позволявший точно выразить понятие времени, был мало приспособлен к тонкостям мышления, возводящего от реального к абстрактному. Чжи Дун часто должен был прибегать к древнему понятию ли,которым он определял место, где все слова теряли значение, и которое позволял достичь только экстаз. Но на таком абстрактном уровне понятийного аппарата было очень трудно выйти за рамки мышления, которое выражало себя одними и теми же терминами на протяжении нескольких тысяч лет.
В то же самое время появление в Китае индийской секты дхьяны(по-китайски – чань), т. е. медитации, позволяло, используя только практические методы достижения мудрости, приступить к изучению вопроса об абсолюте, сохранив при этом китайские выражения. Переводчик дхьяны(314–395) был первым в Китае, кто узнал легендарную историю Бодхидхармы, основателя этой секты, который, как говорят, погрузившись в медитацию, провел девять лет, сидя перед белой стеной. За это время его ноги атрофировались, превратившись в культи. Плодом столь долгих философских измышлений было открытие возможного непосредственного восприятия истины. Ведь в каждом, как говорил Бодхидхарма, есть природа Будды, достаточно лишь найти ее в себе и позволить ей внезапно проявиться любыми, иногда самыми неожиданными средствами.
Эта доктрина дхьяны,известная в Китае под названием чань,пользовалась особым расположением. Несколько веков спустя эта доктрина получила широкое распространение в Японии: известно, какую ценность придавали идеям чаньсамураи (японское название этой доктрины – дзэн).Причины этого успеха были простыми, ведь чаньобращался к тем же категориям, что и даосизм: отшельничество, безыскусная простота, сосредоточенность, мистическое путешествие в поисках внутренних богов. Таким образом, новый мир этой доктрины был открыт благодаря использованию давно знакомых понятий. Она уделяла меньше внимания цели, которой нужно было добиться, по сравнению со средствами, позволявшими ее достичь.
Действительно, учителя чаньпризнавали, что достичь истины можно двумя способами: либо действуя интуитивно, дожидаясь озарения, за которым придет понимание, – этот метод называется внезапным (дунь),либо поэтапно используя многочисленные практики, которые постепенно приводили сознание к открытию истины, – этот метод называется постепенным (цзянь).
Эти две техники предполагали наличие двух различных концепций метафизической истины. «Внезапность» приводит к тому, что абсолют рассматривается как нечто единое и всеобщее. В крайних формах, если переводить эти понятия в политический контекст, что в Китае, который во всем искал соответствия, всегда было господствующей тенденцией, концепция «внезапности» приводила к абсолютизму и тоталитаризму.
«Постепенность», напротив, приводила к тому, что человек видел множественность мира, к накоплению знаний и ориентации в них, так как эта модель предполагает развитие, а не внезапное изменение. Она требовала длительного времени и протяженности пространства, в то время как у сторонников техники «внезапности» эти две категории смешивались в одно понятие, которое объединяло все эпохи и все галактики. Если снова обратиться к политическому контексту, «постепенность» приводила к плюрализму, даже если они были иерархичны, а значит, и к некоторому либерализму.
Склонные к синкретизму монах Чжу Даошэн (365–434) и его друг Се Линюнь (385–433) пытались увидеть в этих двух техниках специфическое отражение двух различных темпераментов, индийского и китайского, перед лицом одной и той же доктрины. На самом деле речь шла о двух бессменных полюсах китайской философской мысли. Один из них характеризует вдохновение даосизма, а второй – дидактические усилия конфуцианства. Таким образом, борьба идей «внезапности» и «постепенности», в основе своей порожденная появлением иностранного образа мышления и заставившая китайскую философию свернуть с обычных для нее путей мышления, всего лишь модернизировала и усугубила старый и плодотворный национальный спор.
Это препирательство утихло на некоторое время, так как его затмили внутренние проблемы и трагические события. Однако, когда в стране снова воцарилось спокойствие и было восстановлено имперское единство, идеи чаньснова получили распространение. Этот подъем связан с именами двух великих личностей: Шэньсю (умер в 706) и Хуэйнэна (638–713).
Первый из них верил во Вселенский Разум, второй – в «ничто» (у). Результатом этого стал философский раскол: северная школа следовала учению Шэньсю, тогда как южная школа, преимущественно интересовавшаяся китайским вариантом доктрины дхьяны,осталась верна учению Хуэйнэна.
Главным понятием для южной школы была категория у,отрицания: непостижимое, невыразимое, почти каждый термин ограничивал это понятие, так как убыло бесконечным. Только тишина могла хоть как-то выразить его. Чтобы достичь у,образованность оказывалась даже бесполезной, так как она требовала приложения усилий, и этим неумолимо порождала бесконечное движение Колеса рождения и смерти. Следовало воздерживаться от «крайних» усилий, сохранять свой разум свободным от любых намерений, включая и жажду незнания. Рай чанъ,как и рай даосизма, не принадлежал нищим духом.
Только преодоление собственного «я» могло привести к озарению, а оно, в свою очередь, позволяло мудрецу принять свою судьбу и прожить период своего смертного существования мирно, без гордости. Для мудреца больше не имели значения ни почет, ни смирение, ни жизнь, ни смерть, так как он уже преодолел двойственность своего существования, неотвратимую случайность на пути своего космического будущего.
Но в тот момент, когда в VIII в. восторжествовало распространение принципа «внезапности», у которого некоторые видели только его индийское происхождение, не замедлила последовать национальная, литературная и конфуцианская реакция. Она отстаивала ценность «постепенности», т. е. воспитания и усердия, а одновременно с ним старые принципы мышления и национального выражения.
Хань Юй
Начиная с периода Хань в Китае очень любили писать произведения параллельными высказываниями (пянъливэнъ),мерными, объединенными попарно, что создавало эффект ритмичной прозы, остановившейся на полпути между простонародной манерой речи и александрийским стихом. Эта лингвистическая форма преобладала всюду, даже в философских произведениях. В связи с этим тексты чаньмогут быть рассмотрены, как попытка реформировать то, что стало рутиной, разбить убаюкивающий ритм, который привел к тому, что мышление оказалось до крайности зажатым и закрытым в узких рамках тезисов и антитезисов, не предполагающих синтеза и уподобления. Другой формой реакции была та, которую воплощал Хань Юй, влиятельный памфлетист и певец национального знания, учитель свободного и немногословного «древнего стиля» ( гувэнь).
Хань Юй (786–824) был настолько типичным представителем ригористических и архаичных интеллектуалов, что, восторжествовав, конфуцианское учение сделало его в X в. своим покровителем. Однако в этой полемичной и непреклонной фигуре можно увидеть воплощение вечного китайского мышления, национального чувства, которое всегда преобладало, несмотря на более или менее продолжительную, но всегда поверхностную моду на экзотику.
Хань Юй выступал не только против всех возможных форм синтеза с буддизмом, но и внутри рамок собственной китайской культурной традиции боролся с иррациональным мышлением даосизма, в котором он видел посредника, способствующего вторжению иностранных идей. По отношению к школе чань, которая была уже китайской, хотя и спиритуалистической доктриной, базирующейся на принципе «внезапности», он выступал в роли китайского Вольтера, врага всякого мыслительного рвения, которое в период Хань вдохнуло новую жизнь в искусство и философию. Хань Юй умел быть убедительным: после него конфуцианские философы, а затем и иностранцы не переставали выступать против этого «инородного тела», этого «ущемления», как они называли распространившийся в Китае буддизм.
Тем не менее такой синтез-мог прижиться в Китае, как это произошло в Японии. Однако для этого было необходимо, чтобы новая религия изменила административные структуры государства, чего не произошло. А когда правительство попыталось нанести ущерб религии, это ему удалось без труда, ведь делая это, оно оздоровляло страну и вело похвальную борьбу с коррупцией. Для большей части людей запрещение буддизма было логичным с точки зрения китайского социального порядка, так как сельскому хозяйству возвращали рабочие руки монахов и послушников, изгнанных из монастырей. Все это восстанавливало положение государства, семьи, конфуцианской иерархии.
Проект, согласно которому в императорском дворце предполагалось поместить мнимую реликвию Будды, для того чтобы ей могли поклоняться верующие, вдохновил Хань Юя на столь резкий памфлет, что его автор чудом избежал смерти и был отправлен в ссылкук южным границам империи:
«Государев слуга дерзает молвить. По ничтожному моему разумению, буддизм – это учение варваров. Оно распространилось в Срединной империи во время правления позднеханьской династии. В древности о нем никто не слыхал.
Вам, Ваше Величество, проницательному и мудрому в делах гражданских и ратных, наделенному поистине божественной мудростью и отвагой героя, Вам, которому равного не было сотни, тысячи лет, с благоговеньем дерзаю напомнить, что, взойдя на престол, Вы не потворствовали желавшим удалиться в монашество, будь то буддийское или даосское, не поощряли основание монастырей. Посему Ваш слуга полагал и надеялся, что замыслы Гао-цзу осуществятся Высочайшею Вашей рукой. Пусть нельзя осуществить их вмиг, пристало ли Вашей особе поощрять процветанье буддизма?
И что же я слышу?! Будто Вы, Ваше Величество, повелели несметному множеству буддийских монахов направить стопы свои в Фэнсян за какою-то костью Будды и доставить ее в императорский город, дабы Вы могли ее созерцать. Будто рака с сей костью поставлена будет в Большом дворцовом покое, будто Вы повелели к тому же всем столичным обителям поочередно высылать за нею процессии, совершать в ее честь подношения.
Как ни глуп Ваш слуга, но он понимает, что Ваше Величество не заблуждается насчет учения Будды, что Вы устраиваете столь торжественную процессию вовсе не для того, чтобы испросить благоденствия и благодати. Ныне год урожайный, люди довольны, и Вы, дабы порадовать всех, распорядились устроить столь необычное зрелище на потеху столичному люду. Но все это – не более как театральное действо, потеха, и только. Разве Вы, столь просвещенный и мудрый, можете верить подобным вещам?!
Но простой люд глуп и темен. Легко ввергнуть его в соблазн, но трудно из соблазна извергнуть. Ведь могут подумать, что Вы и впрямь почитаете Будду. Скажут: „Сын Неба, чья великая мудрость хорошо всем известна, и тот всем сердцем чтит Будду и верит в него. А нам, ничтожным, подобает ли печься о собственной плоти и жизни?” И станут себе прижигать макушки, обжигать пальцы рук, сгрудившись по десять, по сто человек, отдадут свое платье, растратят все деньги и будут друг другу от зари до зари подражать, вон лезть из кожи… И все из боязни от века отстать. Стар и млад побегут, словно волны на берег, забросив занятия и должность… И если не выйдет Высочайший запрет, способный движение вспять повернуть, один за другим будут основываться монастыри. Непременно найдутся такие, которые руки себе отсекут, будут изнурять свое тело – все Будде в угоду. О привычках забудут, презреют обычаи, станут всеобщим посмешищем. А это дело не шуточное!
Да и кто такой этот Будда? Всего-навсего варвар, чей язык не похож на китайский, чьи одежды скроены не как должно. Уста его не изрекали ничего согласного с древними установленьями наших прежних владык. Он не облекал свое тело в одежды, скроенные по веленьям наших прежних владык. Ему не были ведомы отношенья государя и подданного, отца и сына. Допустим, что он дожил бы до нашего времени и с благоговением принял доставленный в его земли высочайший указ с приглашеньем прибыть ко двору, к нам в столицу, и Вы, Ваше Величество, снизошли б до того, чтоб принять его. Чем бы все ограничилось? Приемом в Зале обнародования правительственных указов, обычной церемонией в честь чужестранного гостя, пожалованием ему платья, почетной свитой, провожающей его до границы. Никогда бы ему не позволили вводить в заблужденье народ.
Так можно ли ныне, когда тело его в прах превратилось, дозволить внести во дворец полуистлевшую кость, это зловещее свидетельство распада? Еще Кун-цзы сказал: „Почитая богов и духов, держитесь от них в отдаленьи”. В старину всякий раз, когда князь в своих землях совершал погребенье, заклинателям и гадалкам велено было идти впереди, отгоняя стеблями осоки и ветками персика нечисть и порчу. Лишь после этого приступали к самой церемонии. Теперь же, когда Вы, Ваше Величество, без особой нужды решили внести во дворец вещь столь мерзостную, уже сгнившую, решили удостоить ее высоким вниманием, ни один заклинатель, ни одна ворожея не станут идти впереди высочайшей процессии, орудуя стеблями осоки и ветками персика.
Нижайше прошу Вас отдать эту кость кому следует, дабы бросили ее в огонь или воду и разом вырвали бы зло с корнем, уничтожили бы источник сомнений всей Поднебесной, а также источник заблуждений потомков. Сим поступком Вы покажете всей Поднебесной, что деянья величайшего мудреца в тысячу по тысяче раз превосходят деяния обычного человека». [86]86
Перевод И. Соколовой.
[Закрыть]
В этом тексте содержится важнейшая идея: это страх загрязнения религии, как это произошло в случае с японскимсинтоизмом. На самом деле, все цивилизации Дальнего Востока, как и наши культуры средиземноморского востока, без сомнения, сознательно придавали огромное значение простейшим понятиям «чистого» и «нечистого».
Убежденный националист, Хань Юй с не меньшей строгостью судил и о собственной стране. Помимо своих нападок на буддизм, он сурово изобличал конфуцианскую систему обучения, так как она была подчинена одной цели – сдаче экзаменов. Хань Юй видел, что эта система противопоставляется гуманизму. Школа, по его мнению, превратилась в подделку, разум одряхлел, повсюду господствовал вульгарный карьеризм, несмотря на то, что целой жизни было недостаточно, чтобы усовершенствовать свои познания на долгом пути истинной учености. В конце концов во имя науки Хань Юй пришел к осознанию необходимости трансформации всей системы социальных структур. Одновременно с традиционными идеями возврата к золотому веку, он предполагал, что можно провести переворот в отношениях между молодыми и стариками, между слабыми и власть имущими.
«Тот, кто любит своих детей, выбирает ему учителей, чтобы дать ему образование. Но когда речь идет о нем самом, он стыдится проходить обучение. Какое искажение! Учитель детей дает им книги и объясняет им грамматику. Не он заставляет их избирать жизненный путь, не он исправляет их ошибки в поведении. Таким образом, с одной стороны, существует грамматика, с которой не считаются, с другой стороны, есть ошибки, которые никто не исправляет. Для одного берут учителя, для другого – нет, изучают только малую толику знания, игнорируя очень важные вещи. Я не верю, что это мудрый способ поведения.
Прорицатели, врачи, музыканты и различные ремесленники совсем не стыдятся обучаться, находясь рядом с преподавателем. Но для чиновной братии и для просвещенных людей достаточно, чтобы перед ними произносили слова учителя и ученика. Кончено, это вызывает насмешку у окружающих людей. Когда у них спрашивают причины такого способа обучения, они говорят: „Такой-то и такой-то находились примерно в том же возрасте, их положение было примерно схожим с нашим”. Если ранг учителя низок, это считается достаточным для того, чтобы его презирать, если его официальное положение значительно, то люди опасаются, чтобы их поведение не показалось лестью. Увы, с этой точки зрения никогда не удастся восстановить сам институт учительства.
Те, кто делают мудрость своей профессией, презирают прорицателей и врачей, музыкантов и ремесленников. Однако сегодня всей их мудрости недостаточно, чтобы сравняться с этими людьми: не странно ли это?
У мудреца нет специального наставника. Конфуций говорил: „Среди трех человек, с которыми я иду по дороге, для меня обязательно находится учитель”. Из этого мы видим, что совсем не обязательно, чтобы ученик уступал своему учителю, чтобы учитель был мудрее ученика. Достаточно, чтобы они отличались друг от друга путями практик, которыми они следуют, специальными знаниями каждого из них о своих исследованиях и доктрине».
Невозможно себе представить более проникновенныйгимн «искренности», универсализму культуры, ценности человека, независимо от социальных условностей. По многим аспектам мышления, всегда полный искренности и энтузиазма, Хань Юй, поборник национальной правоверности и конфуцианских правил, сближается с даосскими бродягами: «Иметь скромный дом, жить в деревне; подниматься на вершину, чтобы смотреть далеко, садиться под густыми деревьями, чтобы закончить свой день; совершать свое омовение в водах прозрачного источника; находить превосходную пищу, блуждая по горам, ловить свежую вкусную рыбу, рыбача в речках; не иметь фиксированных часов, в которые надо ложиться спать или вставать ото сна, следовать только удобству; предпочитать похвалу, высказанную в лицо, отсутствию осуждения за спиной; не иметь другой заботы в своем сердце, кроме того, чтобы доставить удовольствие своему телу; не иметь ни колесницы, ни пышных одежд, но и не носить топор палача; не заботиться о порядке и не иметь тревог, не слышать разговоров ни об опале, ни о возвышении – вот образ жизни великого человека, который неизвестен своему веку. Это мой образ жизни. <…>
Люди, которые стоят в ожидании у дверей высоких чиновников и министров; бегущие за теми, кто облечен властью, те, кто в момент, когда можно двигаться, не знают, двигаться им или нет; те, кто в момент, когда нужно открыть рот, колеблются, нужно говорить или промолчать; те, кто барахтаются в грязи, не испытывая никакого стыда; те, кто постоянно нарушает уголовные законы и подвергается наказаниям, несмотря на то у них всего один шанс из тысячи получить звания, но которые не прекращают своей деятельности до тех пор, пока не умрут от старости, – если задать вопрос, на чей образ жизни больше похоже существование этих людей – мудреца или человека низкого звания, то что ответят люди?
Я, Хань Юй, услышал эти речи и их полностью одобряю. Я подношу им вино и слагаю в их честь песню».
Казалось, круг замкнулся. Пример строгого Хань Юя еще раз свидетельствует, что в действительности внутри самой цивилизации особенности существования определялись не предвзятыми мнениями доктрин, а самим образом жизни. Возможно, стоит вспомнить Се Линюня (385–433), который когда-то отмечал, что все просто зависит от склада характера.








