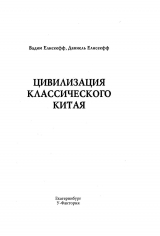
Текст книги "Цивилизация классического Китая"
Автор книги: Вадим Елисеев
Соавторы: Даниэль (Даниель) Елисеефф (Елисеев)
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 41 страниц)
Проблема границ
Действительно, расцвет государства никогда не был таким очевидным, как в эпоху Тан, когда он проявился в необычайном территориальном расширении на запад. Если передовые линии китайских войск, стоявшие на севере Кореи и на юге Индокитайского полуострова, казались относительно естественными для долгого развития цивилизации Великой Китайской равнины, то распространение власти империи на запад в VIII в. было головокружительным, в этих регионах китайское влияние столкнулось с персидским. В итоге Азия оказалась разделена практически на две равные части: китайскую и тюркскую.
* * *
В то время когда правители династии Суй воссоздавали единство Китайской империи, остальная часть Азии принадлежала ту-кю,которые уже неоднократно воевали с Китаем в беспокойные годы правления варварских династий. Во второй половине VI в. эти завоеватели разделились на две соперничающие группы. Подобное деление лишь отражало экономические и политические различия тех регионов, которые занимали эти группы. С запада они испытывали влияние иранской культуры, а на востоке – культуры Китая. Западные тюрки занимали в Центральной Азии территории с низкой плотностью населения, где рассеянные населенные пункты жили сельским хозяйством и торговлей. Эти города были отдельными более или менее процветающими государствами, которые относились друг к другу с безразличием. Кроме того, расстояние между ними было слишком большим для того, чтобы создать настоящую преграду для кочевников-завоевателей и оказать им достойное сопротивление. Восточные тюрки кочевали у самых границ Китая по огромным пространствам пастбищ, никогда не пытаясь по-настоящему вторгнуться на его территорию, так как высокая плотность населения, как варварского, так и китайского, держала их на расстоянии. Более того, обе группы не обладали одними и теми же политическими преимуществами. Западные тюрки нашли в лице Византии могущественного союзника, позволившего им оказать сопротивление Ирану. Напротив, восточные тюрки для нападения на Китай могли рассчитывать только на свои собственные силы и на союзы с пограничными государствами, такими как Корея. Даже сама жизнь тюркских племен начала меняться под влиянием прибрежных цивилизаций.
Традиционно основным занятием тюрков были охота и скотоводство. Они жили в войлочных шатрах или в юртах, которые возили с собой на лошадях и в повозках. Вся территория, контролируемая тюрками, делилась на регионы, во главе каждого из которых стоял князь ( тегин). Этот титул передавался младшему брату от старшего, а от самого младшего брата – сыну самого старшего. Каждый князь управлял своими племенами, которые были неравны по своему положению. Их вожди (беги)объединялись в один совет (курултай),для того чтобы блюсти общие интересы. Помимо правящего племени, существовали и племена свободных людей, которые составляли тяжеловооруженную кавалерию. Их главным занятием была война, и они не утруждали себя повседневной сельскохозяйственной работой или разведением скота. За них этим занимались пленники, обращенные в рабов.
Тюрков объединяла глубокая вера в духов, особенно они почитали Синее Небо (Кок Тэнгри).Кроме того, они отличались терпимостью по отношению к другим религиям, так что дело доходило даже до покровительства, которое они оказывали буддийским храмам и общинам. В истории сохранилось воспоминание об одном из набожных тюркских правителей Табо (552–581), который принял буддизм под влиянием китайского монаха Хуэй Линя. Хуэй Линь перевел на тюркский язык «Сутру о Нирване», он принял монахов, изгнанных из Китая во время короткого периода запрета буддизма, вдохновленного в 574 г. даоистами (период Шести Династий).
Темп этих просветительских изменений ускорился в начале VII в. В 608 г. правитель тюрков (каган)приказал построить город на китайский манер, а каган Ся Ли (620–630) попытался ввести централизованное административное управление, заимствованное у Китая. В конце VII в. один из каганов попросил Китай прислать ему большое количество зерна и сельскохозяйственных орудий: полная приключений жизнь прошлых веков была, таким образом, забыта. В обмен на своих лошадей тюрки получали от Китая деньги, чай, украшения, самые разные предметы, созданные искусными ремесленниками.
Правители династии Суй искусно использовали эту открытость цивилизации приграничных тюрков, умело поддерживая распри между ханамиВостока и Запада. Тюркский союз взял на себя множество обязательств. Благодаря ему император Ян-ди из династии Суй в 608 г. истребил племя сяньби,которое всегда угрожало границам Ганьсу. Сделав это, он снова открыл для Китая Великий шелковый путь (609).
Так как китайцы успешно торговали, интриговали и воевали, они очень быстро стали считать, что избавились от проблемы восточных тюрков, которые были разбиты в 630 г. Однако менее чем через тридцать лет ханы появились вновь, на этот раз став страшной угрозой для страны. Правление императрицы У благоприятствовало созданию проварварских фракций при дворе, так что к началу VIII в. Китай в четвертый раз содрогнулся перед неотвратимой тюркской опасностью. Однако император Сюань-цзун действовал как искусный стратег, сохранив союз с соседними племенами басмилов и киданей, поэтому в 721–722 гг. был заключен мир.
Именно с этого момента тюрки действительно оказались открыты для китайской цивилизации, а с помощью письменности увековечили свою историю, которая была сохранена в записях «Орхона», самого древнего памятника тюркской литературы. Вспыхнувшие новые волнения не получили дальнейшего развития, так как уйгуры, народ тюркского происхождения, победили в этой войне. В период их правления (744–840) расцвела культура, испытавшая огромное влияние Китая, которая распространяла его и дальше, в бассейн реки Тарим.
Уйгуры были манихеями [80]80
Манихейство (по имени легендарного перса Мани) – религиозное учение, представлявшее собой синтез зороастризма, христианства и гностицизма и др. В основе лежит дуалистическое учение о добре и зле как равноправных и изначальных принципов бытия. Возникло на Ближнем Востоке в III в.
[Закрыть]и буддистами, они создали письменность, произошедшую от согдийского алфавита, которая постепенно заменила старую тюркскую письменность орхон.Они вовсе не были варварами и обладали необходимым интеллектом, который позволял им не только переводить и усваивать многочисленные тексты, созданные на санскрите и китайском, но и создать собственную национальную литературу. Вплоть до самого разгрома, который они потерпели в 840 г. от киргизских орд, пришедших позже других с возвышенностей Алтая, уйгуры выступали как воспитатели тюрко-монгольских народов. Благодаря этому Китай на сто лет получил передышку на границах и мог, что было редкостью, относиться к соседям как к равным. В то же время на землях современной Маньчжурии в 713 г. было основано мирное государство Бохай, что также способствовало установлению спокойствия на китайских границах.
Правитель Бохая, которому император пожаловал титул верховного наместника, управлял союзом из 15 провинций, разделенных на 60 округов. Всего в государстве было пять столиц, оно прославилось разведением оленей и лошадей, шелковыми тканями и рисом. Бохай отправлял к китайскому двору ценную дань: мед, меха, золотые и серебряные статуэтки.
С середины VII в., времени, когда Китай распространил свое просветительское влияние на всю восточную часть Азии, на западе арабы начали методично завоевывать маленькие югозападные государства Центральной Азии. Главным следствием продвижения арабов в Трансокситанию и ее завоевания, помимо других многочисленных перипетий, стало столкновение лицом к лицу двух миров – арабского и китайского. На реке Талас китайская армия под командованием корейского полководца Гао Сяньчжи была атакована одновременно в лоб и сзади, что в итоге привело к ее тяжелому поражению. Место этой битвы стало самой западной точкой, которую когда-либо достигал в Евразии китайский мир. Это было в 751 г., через 19 лет после того, как Карл Мартелл сумел остановить арабское вторжение в христианский мир. Больше чем просто битва, сражение у реки Талас было двойным знаком: разделом Азии на сферы влияния и одновременно началом великого смешения культур, в котором мусульманский мир стал постепенно играть определяющую роль в управлении западной части Азии. Многочисленные китайские ремесленники оказались в плену, одни в Самарканде, другие – десять лет спустя, в 762 г., – в Куфе, иракской столице Аббасидов. Там они создали бумажные фабрики, но понадобилось еще несколько веков, для того чтобы бумага была изобретена и в Европе. Кроме того, благодаря пленным ремесленникам появились профессии, связанные с ткачеством, они научили арабов изготовлять шелковые ткани, а художники приобщили местных мастеров к принципам китайского искусства.
Таким образом, VIII в. положил конец оригинальному развитию древних индоевропейских территорий Центральной Азии, где процветали города и искусства, которые черпали сразу из двух источников – Индии и Греции. После получения независимости, а затем покровительства, скорее номинального, чем реального, далекого и могущественного Китая Центральная Азия была захвачена ирано-арабским миром. Установились границы ислама и буддизма. Тем не менее последняя религия была вынуждена отступить внутрь китайских границ.
Пропитанные на протяжении веков иранским, китайским и индийским влиянием, различные народы Центральной Азии, от Памира до Каспийского моря, перешли в ислам, одновременно с медленным продвижением на запад тюркских народов.
* * *
В правлении династии Тан настоящим соперником Китая были только тюрки. Пространство без четких границ, которое они занимали, противостояло землям древнего бюрократического государства. Эти два огромных союза могли только состязаться в могуществе. Сталкиваясь друг с другом, они в лучшем случае делили мир, причем Китай, скорее, стремился не удовлетворить свое могущество, а защитить, используя огромные расстояния, самые древние и самые священные центры своей цивилизации.
В вопросах, которые касались политики, эта открытость чужому миру нашла свое выражение в многочисленных браках между китайскими принцессами и правителями дружественных народов. Тем не менее за этим показным братством тлела старая подозрительность. Как об этом писал Поль Демьевилль, «Китай мечтал о „великом союзе”, о всеобщем мире, однако главным условием было руководство этим всеобщим объятием. Всеобщий мир должен был быть, без сомнения, миром китайским».
В эпоху Тан официальная история Китая насчитывает двадцать одну китайскую принцессу императорского рода, которые были отданы в жены варварским правителям. Однако сложное исследование этого вопроса показало, что на самом деле только три из них действительно имели императорское происхождение. Остальные были всего лишь молодыми девушками более низкого происхождения, дочерями наложниц или высших чиновников двора. Причем первая из этих трех принцесс была дарована в 758 г. кагану уйгуров только под давлением обстоятельств. Именно этому союзу император Су-цзун обязан своим восшествием на престол, закачавшийся под ударами Ань Лушаня.
Китай никогда не был полностью защищен от варваров: когда одни племена успокаивались, тут же внезапно появлялись другие, опьяневшие от завоеваний, которые пользовались внутренними проблемами страны. Несмотря на мирный договор, подписанный в 641 г., тибетцы, грубые и отсталые горцы, в 763 г. за две недели захватили то, что осталось от блистательного города Чанъянь. Там они возвели на престол не имеющего никакой власти императора, а затем, не зная, что делать с этим неожиданным завоеванием, испугались и поспешно отступили к своим западным землям. По дороге тибетцы разграбили находившиеся на дороге в Серинду города, которые еще недавно процветали: Лянчжоу (современный Увэй) в провинции Ганьсу, Ичжоу (Хами) в Синьцзяне, Ганьчжоу (Чжэни), Сучжоу (Цзюцюань) и, наконец, Шачжоу (современный Дуньхуан). Последний город был основан в правление императора У-ди из династии Хань и был сторожевым и наблюдательным постом, расположенным в самой западной части империи. Он был захвачен в 787 г. после 12 лет сопротивления тибетским набегам, а отвоевать Дуньхуан удалось только через 60 лет, в 849 г.
В VIII в. тибетское владычество простиралось от Хотана до Синина, объединяя уйгурские земли и территорию Непала. Китайский протокол признавал превосходство тибетских посланников над корейскими, японскими и даже арабскими послами.
Более того, тибетцы сеяли ужас вокруг себя: они обращали в рабство все работоспособное население захваченных городов, оставляя только стариков и больных, которых иногда просто убивали. Часто тибетцы калечили рабов, для того чтобы помешать им бежать в поисках помощи.
В конце концов китайцы отказались от такого непостоянного способа утверждать свою власть, как сражения, на их место пришла более искусная форма воздействия – идеологические убеждения. Оказалось, что могущественный создатель тибетского государства с задором неофита проявил свое пристрастие к буддизму, который он недавно принял. Вскоре этот правитель пригласил к себе индийского пандитапо имени Падмасамбхава, который позднее будет прославлен в истории буддийской философии. Его задачей было изгнание демонов и различных местных божеств, которые были разъярены из-за неожиданного появления новой религии. Этот мудрец начал ученый спор, который поставил под вопрос единство буддизма, разделенного на индийскую и китайскую ветви. В конце VIII в. императорский двор послал китайских миссионеров, которые отправились в Лхасу, где приняли участие в совете, продолжавшемся около двух лет.
Китайцы умело защищали там принципы медитативной секты чань,несовместимыми с воинственными настроениями тибетского правителя. Призвав свое терпение, несмотря на драматические моменты, китайские старцы смогли распространить среди тибетцев своеобразный квиетизм, [81]81
Квиетизм (от лат. quies – покой) – религиозно-этическое учение, представители которого провозглашают полную пассивность и спокойствие, подчинение божественной воле, равнодушие к добру и злу, отречение от мира и др. В переносном смысле квиетизм означает созерцательный образ жизни, бездеятельность.
[Закрыть]который существенно смягчил этот воинственный и непоседливый народ. Вскоре эти ужасные горцы покорились требованиям очень взыскательного культа, в котором смешались элементы китайского и индийского буддизма с магическими ритуалами, унаследованными от древних времен. Тибетцы, превратившись в очень набожных людей, постоянно занятых обрядами, не уделяли никакого внимания политическим трудностям, с которыми столкнулся буддизм в империи.
В 848 г. верный Дуньхуан восстал против своих тибетских правителей. Тонкие и упорные психологи, китайцы смогли добиться своих целей с помощью могущественных орудий идеологии. Намного позже, уже в Новое время, они точно так же смогут подавить опасные для государства монгольские орды.
Глава седьмая
ЛИКИ КУЛЬТУРЫ ЭПОХИ ТАН
Со временем на общем фоне неуверенности, нищеты слабых, непреложного цикла величия и падения сильных жизнь в эпоху Тан стала представляться как обаятельная игра тени и света. Любопытная смесь академической серьезности, где распускались новые цветы традиционного мышления, и веры, глубокой, наивной или обдуманной, этот период также проявил определенный вкус к экзотике, ко всему, что пришло из чужих краев. При этом одновременно начал формироваться и настоящий китайский патриотизм. Напрасным было стремление к социальному разделению различных вкусов, которые на Дальнем Востоке часто сочетались с намного большей гармонией. Хэ Чжичжан, друг поэта Ли Бо, совмещал строгое достоинство чиновника и радости пошатывающегося пьяницы. Бо Цзюйи (772–846), один из самых великих писателей, которых когда-либо знал Китай, был очень сложной личностью. Просвещенный муж, в классическом смысле этого слова, наделенный особым талантом, государственный управленец, который очень чутко воспринимал несправедливости и несчастья простого народа, отважный цензор власти, но яростный защитник ее основ, во всех обстоятельствах он проявлял неистощимую оригинальность. Могущественный Хань Юй (786–824), непримиримый реформатор прозы и национального мышления, враг буддизма, воспевал в своих стихах, полных нежно-ста, безмятежную радость от святилищ, затерянных в горах, где чистый воздух благоприятствует созерцанию суетности внешнего мира.
Возможно, именно этот синкретизм следует считать причиной настоящего величия классического периода эпохи Тан – ничто человеческое не было ей чуждо, и две столицы империи в этот исключительный исторический момент стали настоящими перекрестками Евразии.
Сцены народной жизни
Жизненные рамки
Обаяние Чанъяни, бесконечного источника литературных намеков, не имело себе равных. Ее внешний вид настолько поразил японских послов, которые посвятили ей восхищенные рассказы, что японские императоры решили создать на поросших травой пространствах плоскогорья Нара город, задуманный по образу китайской столицы.
* * *
Чанъянь, самый большой обнесенный стеной город, который когда-нибудь строили люди, был расчерчен и разделен как координатная сетка. Группы строений и сады размежевывали улицы, усаженные деревьями, к северу от которых простиралась резиденция императора.
Для Чанъяни, созданной в правление династии Чжоу, именно эпоха Тан была периодом наилучшего расцвета. Столица могла состязаться с самыми красивыми мечтами поэтов.
Лазури небесной касается пышный дворец,
Златые драконы обвили резные колонны.
Красавица млеет от солнца лучей,
цитра поет под рукой ее белой.
Ветром весенним доносится песнь,
прославляя достойного князя.
Лодка-дракон рассекает волну,
Мчась по озерной воде к берегам чудесным.
Три тысячи красавиц поют во дворце,
Громко звенят колокольцы, гудят барабаны…
Здесь, как и во многих других владениях, танские правители были очень многим обязаны строителям императоров из династии Суй.
Именно император Вэнь-ди, основатель династии Суй, воскресил древнее величие города, исчезнувшего в период Восточная Хань. Он поручил знаменитому архитектору Юй Вэньцаю (555–612), который построил северо-западную ветвь Великого канала, построить чуть юго-восточнее от древней столицы «город великого процветания» (Дасинчжэн). После падения династии Суй правители Тан обосновались в этом городе, но вернули ему историческое название – Чанъянь.
Размеры города достигали 9 км в длину и 8 км в ширину. Восемь врат с северной стороны и еще по три – с остальных сторон были прорублены в стенах, которые возвышались на утрамбованной земле, как это практиковалось уже на протяжении тысячелетий.
Если верить налоговым реестрам, то этот город насчитывал два миллиона жителей, здесь соседствовали представители самых разных национальностей: тюрки, уйгуры, тохары, согдийцы, арабы, персы и индийцы. Два базара – восточный, более изысканный, и западный – имели бесконечные вереницы маленьких специализированных лавочек.
Без сомнения, никогда город не был ни таким богатым, ни таким красивым, как в начале правления Сюань-цзуна. Все земли присылали в столицу свои продукты. В 743 г. был прорыт водоем для разгрузки кораблей. Корабли, нагруженные всеми сокровищами мира, со всех концов империи могли подняться по Великому каналу до самой столицы: с Севера везли покрывала для седел из ярко-красного войлока; с Юга – горькие мандарины, из восточных регионов – ткани из розового шелка с рисунками, а с западных гор – квасцы для самых разных целей. В Чанъяни товар перегружался на очень маленькие корабли, которые были способны плавать по маленьким речкам, что позволяло снабжать и самые отдаленные регионы этой огромной речной сети. Перед тем как подкрепиться и развлечься в одном из многочисленных «домов певичек» квартала Бэйли, гулякам нравилось любоваться экипажами и с любопытством рассматривать живописные костюмы лодочников на реке Янцзыцзян: шапки из бамбука, халаты с рукавами и сандалии из соломы.
Однако Чанъянь, сокровищница династии Тан, должна была исчезнуть вместе с нею. В эпоху Сун, по словам одного из историков того времени, там можно было увидеть только «грязные столбы и заброшенные земли». Раскопки главного дворца Дамингуна, начатые в 1957 г., и нескольких крупных храмов позволяют увидеть призрак чудес былых времен.
Вторая столица империи, Лоян, давала приют более миллиону жителей. Если она и казалась менее могущественной, чем Чанъянь, спесиво воздвигнутый перед лицом варваров, то атмосфера второй столицы была более утонченной и изысканной. Она славилась красотой своих цветов, качеством фруктов. Умения местных ремесленников вызывали общее восхищение: они создавали парчу по многочисленным рисункам, заимствованным из Персии, тонкие ленты из шелка и керамику, гордость танских горшечников. «Рынки Юга» простирались на два квартала, объединяя 120 базаров, бесчисленные улочки, где занимались своим ремеслом мастеровые, а тысячи лавочек продавали все на свете.
Если столицы, как это и должно быть, представляли собой две самые большие драгоценности среди китайских городов, то, помимо них, по всей империи располагались и административные центры, где находились представители государственной власти. Они были построены по строгому геометрическому плану, что символизировало устройство мира. Для китайцев той эпохи это было новшеством, так как на протяжении неспокойных веков, которые отделяли период правления династии Хань от эпохи Тан, процветающие городки, которые были одновременно экономическими и политическими центрами, практически исчезли. Таким образом, Китай представлял собой не что иное, как громадный агломерат экономически независимых обширных пространств.
Между тем воссоединение империи привело к возрождению городов, передовых отрядов власти. Они создавались или восстанавливались в каждом округе с единственным назначением – быть оплотом государственной власти. Японский исследователь Миязаки Ишизада полагает, что эти глубокие изменения, причины которых до сих пор мало изучены, были следствием двух важных фактов: проникновения на китайские земли варварских народов и создания в каждом из Трех Царств III в. военных колоний ( туныпянъ), к которым прикрепляли всех бродячих крестьян. Организация подобных колоний в сельскохозяйственных районах провоцировала исчезновение древнего понятия «город» как экономического и административного центра. Затем бурный поток варваров, хлынувший в Северный Китай в период Шести Династий, в свою очередь, стал причиной появления нового типа агломерации: распространение получили гарнизоны с военными и административными функциями, которые ничего не производили. Они были обнесены двойным поясом укреплений, к внешней стене добавлялось кольцо крепостных стен внутри города (захватчики всегда чувствовали необходимость в защите). Так зародился план нового китайского города, обладавшего невысокой стеной для защиты малозначительного местного населения, в центре которого располагался хорошо укрепленный бастион, «запретный город», где жили, защищаясь от бунтов, варвары-завоеватели. Соединение этих двух факторов привело к созданию средневековых китайских городов. Правда, подобая гипотеза развития имеет своих противников в исторической науке.
Стены и двери
На многочисленных фресках Дуньхуана, а также на парадных знаменах, найденных там же, часто можно встретить изображения городов, обнесенных стеной, которые характерны для Китая со времен больших неолитических поселений до наших дней. Потребности в экономическом росте и политическая необходимость, которые обеспечивают разрыв с прошлым, сегодня стремятся полностью стереть этот элемент китайского кругозора, который сохранялся на протяжении тысячелетий. Стены Даду (современный Пекин), столицы династии Юань (1271–1368), найденные в 1969–1970 гг., будут снесены, как только археологи составят их план и изучат их характеристики. Собственно стена, как на рисунке, была построена на спрессованной земле. В ней были прорублены ворота, выложенные кирпичом, и бойницы, пробитые на скорую руку в 1358 г., для того чтобы отбивать крестьянские атаки, угрожавшие городу. В менее бурные эпохи и в спокойных местах простая пристройка для охраны и для наблюдения, построенная из дерева, воздвигалась, как и здесь, над входом.

Как и столицы, главные города префектур и округов защищали одновременно внутренние стены и внешний пояс укреплений. Ограниченное таким образом пространство города было похоже на сетку, состоявшую из множества маленьких квадратов (фан).Каждый из них, город в городе, обладал своими укреплениями и постом наблюдения. По каждой такой ячейке проходили улицы, которым давались простые названия, такие как «задняя улица» или «восточная улица». Именно в зависимости от этих артерий города и этих названий определялись адреса жителей, которые указывали, в какой стороне, например северо-западной или северо-восточной, их следует искать. У каждого маленького «города» внутри большого, как и у наших парижских округов, была собственная администрация и свой глава, ректор ( чжэн).
Города, созданные у пересечения дорог или вдоль длинных паломнических маршрутов, развивались по-разному. Они располагались в очевидном беспорядке, в соответствии с законами топографии или требованиями торговли. Некоторые города, которым благоприятствовали географические условия, превращались в настоящие национальные или международные перекрестки. Например, Кантон, хотя и был в десять раз меньше Чанъяни, стал главным портом Южного Китая. Он прославился своими иностранными кварталами: рядом с арабами, персами и индийцами, которых можно было встретить во всем Китае, в этот город стекались также японцы, шаны, кхмеры и сингальцы. Одни переселялись сюда, чтобы вести выгодную торговлю, другие же просто ждали благоприятных ветров, чтобы вернуться домой за новым грузом. Без сомнения, это было незаурядное зрелище, когда по звуку полуденных барабанов и гонгов китайские торговцы и разносчики, собравшиеся со всей империи, устремлялись на огромный рынок. Они взвешивали, рассматривали, торговались до того момента, когда во время захода солнца снова звучал звонкий сигнал, возвещающий о закрытии рынка и кварталов, которые объединяли на ночь жителей и иностранцев, чтобы защитить их от разбойников.
Впрочем, в исключительных случаях, например в некоторые праздники, рынки больших городов оставались открытыми всю ночь: они были битком набиты теми, кто жаждал развлечений и решал свои дела.
Начиная с VIII в. город представлял собой совершенно другой мир, чем окрестные деревни. Путешественник, без сомнения, не знал, чем стоило любоваться больше: пестрыми толпами больших «перекрестков» или величественным порядком административных городов.
* * *
Появившиеся новые отличия городской среды от среды сельской, без сомнения, были не чужды рождению интересного понятия, которое, возможно, впервые появилось в истории человечества именно в эпоху Тан. Речь идет о защите природы. Это кажется несколько парадоксальным, поскольку известно, какие экологические катастрофы произошли как в Китае Нового времени, так и в современном Китае, когда этот принцип был забыт.
Между тем эти заботы в правление династии Тан занимали умы части просвещенной элиты. В этой области огромным влиянием пользовался буддизм, который проповедовал бережное отношение ко всякой жизни, даже когда речь шла о простой инфузории. Ведь каждая живущая частица мира была звеном в бесконечной цепи перерождений. Однако и даосизм исповедовал безусловное уважение к природе: любое человеческое действие могло нарушить биение мира, стать космическим дыханием, которое оживляло и определяло развитие Вселенной. Наконец, конфуцианство также присоединялось к этому значительному движению философской мысли, благодаря своему учению о необходимости почитания предков, их могил, гор и рек, расположение которых было следствием ни с чем не сравнимого труда мудрецов прошлого.
Император Сюань-цзун, утонченный ум, обращал особое внимание на сохранение того, что мы сегодня называем «окружающей средой». Он приказал переиздать обновленную редакцию главы из древних «Записок о ритуале» («Ли цзи»), которая называлась «Юэ лин», что в переводе означало «распорядок лунных месяцев», и была своего рода календарем хорошего землевладельца.
Император выступал не только за устройство водохранилищ и ирригационной системы, что было обычным еще с самого раннего периода истории Китая, но и рекомендовал уважать естественные линии водораздела, чтобы не нарушать бесполезным вмешательством баланс распределения вод. Кроме того, он официально осудил сознательное сжигание лесов, как правило, это был первый этап расчистки целинных земель, и приказал оказывать содействие тем гражданам, кто сажал деревья и кусты. Тем не менее эти меры носили весьма ограниченный характер: строительство домов, основа которых состояла из брусов и балок, массовая выработка древесного угля, который использовался как для отопления, так и для изготовления чернил, неумолимо приводили к значительным вырубкам леса на большей части территории Китая.
Император пытался также прекратить бесполезное убийство животных, которые обитали в рощах и зарослях. Однако запреты на охоту были всего лишь единичными случаями. Если сам принцип, на котором основывались подобные указы, был похвальным, то в глазах населения все эти наставления теряли всякую ценность, как только условия жизни становились более суровыми, а прихоти климата возрождали призрак голода. Только просвещенные умы из привилегированных сословий могли понять жизненную необходимость защиты природы.
* * *
О величии и повседневной жизни Китая династии Тан, которая и в IX в., несмотря на предзнаменования падения, оставалась еще могущественной и уверенной в себе, до нас дошло живое свидетельство. Речь идет о записях японского паломника Эннина, который с 838 г. по 847 г., т. е. на протяжении десяти лет, ездил по Китаю в поисках священных писаний, после чего был изгнан из страны. Кроме религии, интересовавшей его в первую очередь, Эннин описал то удивительное чувство безопасности, которое было присуще любому человеку, путешествующему по огромной территории империи Тан. Каждые два или три километра вдоль имперских дорог стояли межевые столбы, рядом с которыми могли располагаться вооруженные заставы, где нужно было предъявлять свои документы. Естественно, что рядом с заставами бандиты, как правило, не осмеливались нападать. Наконец, его удивило то, что можно было пересекать регионы, опустошенные голодом, не понеся при этом никакого ущерба.
По всей стране были обустроены гостиницы, некоторые были специально приспособлены для приема иностранных послов. Современная топонимика подчеркивает, что вокруг этих «постоялых дворов» (гуаньили и),как государственных, так и частных, появились многочисленные торговые городки. Более того, около мостов и застав существовали своеобразные почтовые станции, где путешественник мог найти комнату для отдыха или спальное помещение. В общем, японский путешественник показал, что доля путешественника достаточно легка, что сеть гостиниц отличается хорошим качеством, что, кроме тех мест, где свирепствовали эпидемии, он всегда мог найти у местных жителей подходящее пристанище. Духовное звание Эннина, до того как он был изгнан, и официальное охранное свидетельство могли обеспечить ему и его свите бесплатный транспорт, жилище и питание.








