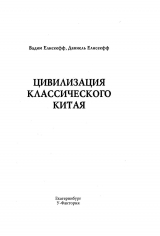
Текст книги "Цивилизация классического Китая"
Автор книги: Вадим Елисеев
Соавторы: Даниэль (Даниель) Елисеефф (Елисеев)
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 41 страниц)
Второй период совпадает с началом правления Сюаньцзуна (712–756) – утонченного императора, большого любителя искусства и красивых женщин. Без сомнения, это была самая радостная, самая роскошная, самая беспечная эпоха. Каждый жил в относительном материальном достатке, в моральном и духовном покое, благодаря усилившемуся влиянию буддизма, вдали от опасных варваров, которые, казалось, практически исчезли.
Пробуждение было жестоким. Восстание Ань Лушаня – фаворита императора – отправило двор на дороги изгнания. За мятежником, который был тюркского происхождения, следовали его братья-варвары. Китай, несмотря на восстановление императорской власти в 756 г., снова познал страх, пожары, голод. С этого момента история династии превратилась в историю долгого упадка, отмеченного постоянными потрясениями, как, например, запрещение буддизма и других чужеземных религий в 845 г., потому что монастыри захватывали земли и людей, таким образом подрывая управление государственными финансами.
Торговля с иностранными государствами, развивавшаяся по сухопутным и морским путям, любовь к экзотике, открытость идеям, пришедшим извне, – все это погибло. Города, появившиеся благодаря торговым связям, медленно умирали. Сохраняли свое значение только города – административные центры, главная задача которых была в управлении и соблюдении интересов общества, основы которого уже были расшатаны. Начиная с 780 г. изменилась система налогообложения. Отныне налогом облагались собственность и производство, что привело, несмотря на все усилия правосудия, к увеличению налогового бремени, возложенного на мелких хозяев. Императорское солнце больше не казалось достаточно ярким, чтобы освещать всю империю.
С 907–960 гг., на пятьдесят лет, Китай вновь раскололся на «Пять династий» Севера и «Десять царств» Юга. От Желтого моря на востоке до китайского Запада, к югу от Великой Китайской стены, империя трепетала перед киданьской угрозой (907—1125). Кидани стали основателями династии Ляо. Варварская проблема снова стала кошмаром китайской действительности. Казалось, время повернуло вспять, к далеким эпохам, предшествовавшим расцвету династии Тан.
Однако в 960 г. полководец китайского происхождения Чжао Куанинь, находившийся на службе у одной из местных династий, называвшейся Чжоу, добился нового, довольно непрочного объединения империи. Он стал отцом нового классического периода, на наш взгляд, самого трогательного.
* * *
Чжао Куанинь, получивший после смерти имя Тай-цзу (960–976), стал основателем новой династии – Сун. Ему наследовал его брат Тай-цзун (976–997), которому хватило двадцати лет, чтобы восстановить империю. По правде говоря, политически объединить удалось только то, что оказалось в зоне досягаемости этого великого завоевателя. Настоящая заслугаэтих двух правителей была в осознании того, что в первую очередь для объединения Китаю необходимо прочное интеллектуальное единство. Для достижения этой цели они мобилизовали всех хоть сколько-нибудь грамотных людей. Кроме того, первые императоры династии Сун провели своего рода моральное перевооружение, чтобы избежать покушений на свою власть.
Была восстановлена система проведения экзаменов для отбора государственных чиновников, существовавшая при династии Тан. Таким образом, императоры династии Сун создали механизм, позволявший привлекать к управлению государством людей, обладающих большими знаниями, поскольку экзамены были достаточно трудными. Эта система была позднее перенята династией Мин (1368–1662), а затем и династией Цин (1644–1912), которым, впрочем, не хватило мудрости для того, чтобы одновременно способствовать возрождению философии. В итоге Китай оказался политически и технически ослабленным, но зато социально стабильным – именно таким его помнят наши деды. Новшеством стало то, что в эпоху Сун система экзаменов, ценность которой подтвердилась, стала своего рода «демократическими» гарантиями китайского правительства. Была объявлена война придворным кликам, интригам евнухов и императорской родни. Понятия «знать», «наследственная аристократия» теоретически окончательно потеряли всякое значение. Без сомнения, никогда империя не была так близка к модели, которой восхищался Вольтер.
Между тем для правителей династии Сун, как и для их предшественников, существовала постоянная угроза со стороны усиливающихся варваров, находившихся в опасной близости от границ империи. Династии Сун так и не удалось уничтожить государство Ляо. Впрочем, от этого желания правители Китая достаточно быстро отказались, и, несмотря на небольшие стычки, между ними был установлен относительный мир, продолжавшийся около ста лет. В 1004 г. по договору, заключенному в Шаньюани, императоры династии Сун согласились считать правителей династии Ляо своими «старшими братьями» и посылать им каждый год дань серебром и шелком. Кроме того, император должен был соблюдать осторожность в отношениях с Кореей, где появилось новое сильное государство Коре, которое могло представлять угрозу для империи. В Центральной Азии продолжало опасно усиливаться государство Ляо, которое к тому же оказывало поддержку появившейся в Тибете новой династии Западная Ся (1038–1227). Несмотря на влияние, оказываемое на варваров ханьской культурой, письменность которой в эту эпоху была использована для создания алфавита киданей, тангутов и чжурчжэней, варварские тиски медленно сжимались. Надеясь избавиться от этих тисков, император Шэнь-цзун (1067–1085) поддержал реформы Ван Аныпи (1021–1086). Однако против этих реформ жестко выступили многие влиятельные лица, например государственный чиновник и великий историк Сыма Гуан (1019–1086). Доводы против этих реформ он привел в своем историческом произведении, которое написал после вынужденной отставки. Даже сегодня сторонники и противники этих «демократических» реформ не прекращают споры. Тем не менее этот опыт был крайне ограничен по времени, поскольку в 1076 г. Ван Аныпи пришлось покинуть правительство.
Вскоре в Маньчжурии было основано государство чжурчжэней, которое получило название Цзинь (1126–1233). Чжурчжэни начали вести военные действия против государства Ляо, напав на него с фланга. Император Хуэй-цзун (1101– 1125) воспользовался этим, казалось бы, благоприятным моментом, для того чтобы начать военную кампанию против неудобных соседей. Оказавшись между двух огней, государство Ляо пало в 1125 г., однако, без сомнения, со стороны империи Сун это было очень большим военным просчетом. Войска победителя,непосредственного соседа китайцев – государства Цзинь, больше не встречали перед собой серьезных препятствий.
В 1126–1127 гг. они захватили Кайфэн, столицу империи Сун. Император и весь его двор бежали, конец династии казался неизбежным. Однако молодой брат императора, получивший позднее имя Гао-цзуна, возглавил «правительство в изгнании» в Линьани (современная провинция Ханчжоу). Началась эпоха, получившая в истории название Южная Сун (1127–1279). Предыдущий период политического единства, закончившийся с падением Кайфэна, благодаря географическому расположению своей столицы, получил название Северная Сун (960– 1127).
Страна вновь вернулась к давно знакомому делению: Китай Хуанхэ и Китай Янцзыцзян, объединенные зоной общих интересов, располагавшейся между руслами двух рек.
Как и всегда в таких случаях, «гонимый» Китай питал надежды на завоевание обратно тех территорий, которые были потеряны в период общего упадка. Постепенно установился modus vivendi [13]13
Modus vivendi – мирное сосуществование (лат.).
[Закрыть]чему благоприятствовали крупные земельные собственники Юга, которые не ждали ничего хорошего от тяжелой войны за «освобождение» Севера. В 1141 г. между государствами Цзинь и Южная Сун был заключен договор, по которому южане должны были платить ежегодную дань своим северным соседям. Такое равновесие существовало примерно столетие, вплоть до того момента, когда оба противника пали под ударами монголов.
Однако до этого варварского нашествия, которое замедлило развитие всех местных культур с Востока до Запада, от Китая до России, Китай династии Сун, и в частности династии Южная Сун, достиг апогея утонченности, основы которой были заложены еще в периоды Тан и Пяти династий.
Города Ханьчжоу, Сучжоу и Янчжоу стали не только важнейшими торговыми центрами, но и колыбелью новой культуры – культуры процветающих торговцев и богатых беженцев, живущих в колониях. Здесь зародились новые формы театра, а изобретение книгопечатания, которое использовало гравированные пластины, увеличило возможности распространения текстов. Как и в Европе, после распространения изобретения Гуттенберга, первыми в массовом порядке начали печатать древние философские тексты, комментируя их в свете новых знаний. Таким, например, было произведение Чжу Си (1130–1200), отца неоконфуцианства, которое вплоть до XX в. господствовало в китайской философской мысли. В это же время художники стремились в своих картинах выразить абсолютную красоту и свой восторг в той форме, которая была им знакома. Так появились знаменитые пейзажи акварелью.
* * *
Таким образом, на протяжении тех эпох, которые европейцы называют поздней Античностью и Средневековьем, в Китае прошли три великих классических периода, которые, несмотря на все бури и иноземные нашествия, и сотворили из этой цивилизации то, чем она является сегодня. В этом смысле и европейское вторжение всего лишь одно в череде множества таких же вторжений.
Первый классический период, Хань (206 до н. э. – 220 н. э.), был посвящен созданию единой империи. В этот же период окончательно оформились основные идеологии Китая – конфуцианство и «легизм», которые добились сохранения единства китайского государства на протяжении трех веков. По многим признакам империя Хань напоминает своего римского собрата.
Второй период, на который приходятся правления династии Суй (581–618) и Тан (618–907), характеризуется ярко выраженной урбанизацией, прочным единством Северного и Южного Китая, значительным подъемом буддизма, который стал основным источником самого долгого открытия Китая для достижений чужеземной науки, знаний и обычаев.
С третьего классического периода, Сун, который включает в себя правление династий Северная Сун (960—1127) и Южная Сун (1127–1279), собственно говоря, начинается «новое время». Происходит «революция» книгопечатания, и государство сразу же оказывается перед проблемой распространения знания. В это же время мощное интеллектуальное течение по возвращению к идеалам древности позволяло людям осознать свое место в истории, а философ Чжу Си создал на этой основе синкретическое философское учение, получившее название неоконфуцианства. С этой точки зрения можно сказать, что классический период Сун представляет собой совокупность первых двух классических периодов, объединившую административную систему Хань и философские размышления Тан. Одновременно научный и технический прогресс, ускорившийся благодаря активному росту городов и относительной легкости передачи информации, создал успешный баланс материального и духовного развития.
Если подсчитать все время, которое ушло на то, чтобы из множества течений китайской философии выкристаллизовался оригинальный философский синтез, то периоды, когда государство оказывалось раздробленным, покажутся весьма короткими. На полторы тысячи рассмотренных нами лет китайской истории приходится всего 470 лет раздробленности, т. е. не более трети. Таковы данные официальной истории.
Однако это соотношение меняется и даже становится обратным, если за критерий целостности взять общую площадь территории, действительно контролируемой этническими китайцами. Так, держава жуань-жуаней V в. и тюркские государства VI в. трижды захватывали северную часть страны. Так же поступали в X в. кидани (Ляо), а в XII в. – чжурчжэни, пока монголы не овладели всей империей. Единственное настоящее национальное объединение произошло в период правления династии Тан. В итоге присутствие варваров – этой вечной угрозы, которой были степные пастухи-кочевники для сельскохозяйственных общин северной равнины, – оставалось постоянным на протяжении всей китайской истории. Несмотря на некоторые периоды относительного спокойствия, не было ни одного века, когда Китай не попытался бы, войной или дипломатией, найти решение этой тяжелой проблемы, которая характерна для более развитых цивилизаций, окруженных соседями иной этнической принадлежности и культурного уровня.
Для нас, сторонников идеи «единства», эти постоянные варварские нашествия и неоднократно порождаемые ими волны регионализма очень часто видятся только через призму их пагубных последствий. В какой-то мере обычнымположением дел для Китая было наличие сразу нескольких государств, которые, продолжая осознавать свою принадлежность к единому культурному сообществу, позволяли развиваться собственным, дополняющим друг друга весьма сходным культурам. С этой точки зрения каждый распад Китая соответствует элементудыхания или периоду вынашивания плода, на протяжении которого вся страна делает выдох, находя и комбинируя элементы нового объединения.
Централизация, происходящая одновременно с созданием империи, теоретически является для государства удачным вариантом. Например, римляне создали империю, которая отличалась огромными размерами, в ее границах было создано средиземноморское объединение. Однако в государствах такого типа могли сохраняться только самые общие идеи, которые, впрочем, при удобном случае доходили до абсурда. Таким образом, подобные великие классические периоды порождали огромную мозаику идей, в которой выживали только отдельные, уважаемые всеми принципы, часто насаждавшиеся в обязательном порядке.
Впрочем, никаких глубинных изменений не происходило. На протяжении веков наследовавшие друг другу китайские правительства напрасно бросались из стороны в сторону в поисках самоидентификации. В практическом плане это выразилось в двух проблемах (таких же неразрешимых, как, например, сохранение равновесия в отношениях между различными регионами или дипломатические контакты с варварами) – содержание мощной армии и распределение земли внутри империи.
Армия всегда была бездонной воронкой, поглощавшей государственные финансы, так как она должна была всегда быть лучше оснащена и обучена, чем армии тех, кто угрожал империи. Династия Хань вторглась в Центральную Азию, чтобы найти хороших лошадей, годных для верховой езды, потому что только кавалерия могла эффективно воевать против варваров. Династия Тан дошла до реки Тарим для того, чтобы защитить свой западный фланг и обеспечить спокойствие на торговых путях, которые соединяли ее с остальным миром. Зато династия Сун никогда не была настолько сильной в военном отношении, чтобы сохранять пастбища китайского Запада, пригодные для разведения лошадей. Эта династия пыталась компенсировать слабость своей армии, привлекая под свои знамена огромные массы людей и развивая наступательную технику, используя, например, взрывчатые вещества. Однако империя все равно оставалась в пределах досягаемости любых ударов со стороны варваров.
Проблемы общей культуры и распределения земли также оставались постоянными источниками трудностей. Можно подробно рассказать, как эти проблемы развивались на протяжении многих веков, но мы остановимся только на некоторых общих моментах.
Тот факт, что некоторые китайские неолитические культуры развивались в бассейнах рек или на равнинах, а также то, что две основные реки Китая, которые, засоряясь собственным илом, текут по весьма пологим склонам к морю, заставляют забыть о том, что поверхность, которую занимают горы, все же составляет больше половины территории страны. Китай разрезан горными цепями, которые скрещиваются, создавая подобие гигантского шахматного поля. При этом вплоть до XX в. только седьмая часть общей территории могла быть доступна для хозяйственной деятельности человека.
Эта природная особенность объясняет два важнейших феномена китайской цивилизации: любовь просвещенных людей к горам, которые представали во всей величественной красоте – большая часть западных художников оказалась к этому совершенно не способна, – и ненависть к ним простонародья, поскольку каждая скала, каждое дерево оказывались препятствием для выращивания продовольственных культур. Эта относительная нехватка земли привела к развитию террасного земледелия, которое могло быть даже ирригационным. Особенно оно было распространено на Юге, что позволяло увеличить площадь пахотных земель. К тому же нехватка земель приводила к нарушениям в питании. Хотя пища и была приготовлена весьма искусно, но, за исключением стола богачей, всегда была бедна кальцием и витаминами. Маленькие размеры полей, практика собирать налоги зерновыми приводили к тому, что крестьяне оставляли мало места для выращивания овощей и фруктов.
Аграрный вопрос приводит к появлению вопроса о «перенаселенности» Китая, который невозможно решить, не зная некоторых нюансов. На самом деле эта проблема появляется потому, что в Китае использовались самые древние формы ведения хозяйства, требующие огромного количества рабочих рук. Речь идет о посадках риса, об оборудовании каналов и плотин, необходимых для создания ирригационных систем, о получении шелковой нити из маленьких коконов, а позднее на Юге – о сборе и просушке чайных листьев. Даже на уровне крестьянского производства все эти работы требовали множества непрерывно повторяющихся движений, а значит, тысяч рабочих рук.
Очевидно, что общество, которое одевалось и питалось благодаря сельскому хозяйству, тесно связанному со сложными методиками заливного рисоводства, было еще больше, чем другие, если это возможно, беззащитно перед голодом. Как только отработанный механизм начинал давать сбои, целые деревни вымирали от голода.
При таком типе экономики скотоводство не играло практически никакой роли. В среднем хозяйстве имелось всего лишь нескольких быков, которые были нужны, чтобы тянуть плуг, нескольких баранов, с которых стригли шерсть, свиней или домашнюю птицу, которых разводили на кухонных отбросах.
Необходимость большого количества рабочих рук и их наличие, отсутствие домашних животных объясняет простейший уровень механизации крупных работ в сельском хозяйстве. Конечно, в Китае не было недостатка в бесчисленных изобретениях по подводу к полям воды и подъему тяжелых грузов, однако до недавнего времени работу этих машин все равно выполнял человек – незаменимый элемент производства.
В конце концов для китайских земледельцев и увеличение и уменьшение населения не давали повода для радости. Когда численность населения возрастала, аэто, согласно древним принципам, означало, что у власти хорошее правительство, тогда начинался голод, так как обрабатываемые территории были неспособны всех прокормить. Если же, напротив, количество людей уменьшалось, сельское хозяйство и производство испытывали нехватку рабочих рук, что, в свою очередь, приводило к нищете. В этих двух случаях количество собранных налогов и уровень эффективности общественных работ опасно снижались, делая еще более тяжелым для государства содержание армии, – круг замыкался. Кроме того, необходимо было постоянно бороться с захватом земель крупными земельными собственниками, которым были дарованы льготы или даже освобождение от уплаты налогов. Все это заканчивалось тем, что основная тяжесть налогового бремени ложилась на плечи самого бедного населения, которое ни из страха, ни по доброй воле не могло дать больше, чем имело. В итоге, как ни парадоксально это звучит, китайское государство всегда было очень бедным.
Действительно, иногда, глядя на Китай, мы не видим ничего, кроме блеска этой цивилизации: хрупкая архитектура построенных из дерева или самана зданий исчезла под воздействием людей или природных сил. В лучшем случае остались только основания каменных колонн и участки утрамбованной земли, которые служили для домов террасой. С большим терпением, во многом прибегая к помощи воображения, археологам удалось восстановить орнамент. Им пришлось обратиться к текстам, к тем свидетельствам, которые сохранились в могилах и материалах, использовавшихся при погребении, к живописи, к традициям, которые сохранились и стали известными благодаря Японии. Китайская жизнь, существовавшая до монгольского нашествия и восшествия на престол династии Юань (1280–1368), исчезла. От нее остались только искры – произведения искусства, скромно украшенные будничным орнаментом, или созерцательное настроение, которое мы чувствуем в картинах художников.
* * *
Именно этот скрытый мир, этот забытый человеческий род, который, правда, подчас можно обнаружить даже в современном Китае, мы любим и попытаемся воссоздать на страницах нашей книги, став проводниками в глубь времен. У нас даже не возникало вопроса, могут ли страницы одной книги охватить историю целой страны. Впрочем, каждый знает, что Китай, как и все великие цивилизации, совершал завоевания, терпел поражения, создавал произведения искусства и литературы самых разных жанров, которые по прихоти времени повторялись и видоизменялись. Чтобы не потеряться в этом гигантском клубке, мы предпочли затронуть, эпоха за эпохой, те элементы китайской цивилизации, которые развивались действительно особым образом. Сверх того, мы обратимся к темам, которые все же можно надеяться раскрыть, пользуясь относительно удовлетворительным состоянием источников, архивов, потерявших большую часть своих богатств, а также уже проведенными и опубликованными исследованиями. Вместе с тем слишком широкий и беглый обзор всех тем рискует быть иллюзией знания. Пробелы в наших знаниях по китайской истории еще слишком велики, чтобы стало возможным создание единой логичной ее картины. Мы попытались избежать схематичной истории. Более важной для нас была возможность создать образ человека цивилизации, которая так много дала остальному миру.
Перед тем как начать наш долгий обзор нескольких социальных, художественных, философских или просто бытовых феноменов китайской цивилизации, необходимо вспомнить основные космогонические понятия, которые использовались в Китае с самых древних времен, потому что китайские земледельцы, глядя на звезды, представляли себе совсем другие образы, нежели библейские пастухи.
Для китайца земля была квадратной, а небо – круглым. Вот картина мира земледельца, пропалывающего свое поле. На краях мира находятся четыре колонны, которые держат небесный свод. Каждое стихийное бедствие, наводнение, засуха или землетрясение, является предвестником обрушения мира, поскольку вызвано тем, что колонны начинают шататься. Из всех живых существ самым частым символом мира была черепаха с ее плоским животом, куцыми лапами и круглым панцирем. Поэтому образ черепахи, которая также является символом долголетия, часто присутствует в китайской живописи.
Между двумя элементами, твердым и эфемерным, которые представляют собой Земля и Небо, находится Человек – необходимый стержень для создания прочного единства мира. Для того чтобы лучше исполнить роль связующего звена, Человек должен приложить все усилия: постичь биение окружающего мира, разгадать мистические соответствия между вещами, существами, властью. Вот почему в историческую эпоху правители всегда располагались спиной к северу, откуда дули гибельные ветра, а лицом к югу, где солнце достигало зенита. Справа, на западе, и слева, на востоке, симметрично располагались соответственно двор и слуги. Наконец, нужно отметить, что китайцы всегда насчитывали пять основных точек пространства: четыре направления розы ветров и центр.
Действительно, все народы на ранних стадиях своего развития помещали именно себя в центр известного им мира. Однако в Китае относительная изолированность равнины Желтой реки в тот момент, когда у власти находилась династия Шан-Инь (1500–1200 до н. э.), и совокупность китайских религиозных концепций придала этому «эгоцентричному» понятию особые размеры. Одновременно этот эгоцентризм сопровождался высокой степенью терпимости, впрочем, иногда весьма снисходительной, по отношению к тому, кто был другим и пытался проникнуть в существующее сообщество и ассимилироваться в нем. Заложенное в христианстве миссионерство побуждает нас, европейцев, селиться на самых окраинах мира: ни одно движение в Китае не знало подобной скорости распространения. Дошло до того, что нашим миссионерам удалось обратить в христианство последнего отпрыска династии Мин, чем они заслужили благосклонность великого Канси (1662–1722). В самом же Китае горизонтальных связей с другими народами не существовало: иноземцы всегда были либо вассалами, приносящими дань, либо, как это было в эпоху Сун, «старшими братьями», которым китайцы сами делали подношения. С древности известны имена немногих великих мыслителей, понимавших необходимость вырваться из тесных рамок провинциализма. Без сомнения, жаль, что их почти никто не услышал: «Предположим, что когда-то образованные иноземцы были высланы, им не разрешили служить государству, их не пустили в страну, их просто изгнали. Каков был бы результат для страны? Она сегодня не обладала бы тем богатством и теми преимуществами, которые у нее есть, она не имела бы той известности, которые ей дают ее сила и величина. <…>
Горы не отвергают землю, которая увеличивает их: благодаря ей они так высоки. Крупные реки и моря не пренебрегают ручейками, которые в них впадают: благодаря им они так глубоки. Правитель не отвергает людей, которые пришли к нему: благодаря им его добродетель становится очевидной. Так же как земля не имеет разных сторон, нет стран, которые были бы чужими народу. Все четыре сезона равно хороши, духи распространяют повсюду свое благотворное влияние. Вот почему, следуя этому учению, правители древности не знали себе равных».
Так писал Ли Сы, великий министр Цинь Шихуанди.








