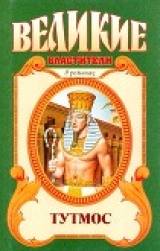
Текст книги "Тутмос"
Автор книги: В. Василевская
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 26 страниц)
* * *
– Спи, мой дорогой, спи… Тебе нужно уснуть.
– Нет, моя дорогая Ка-Мут, нет… Пока могу, хочу наглядеться на тебя.
– Я уже стара, а красивой не была никогда.
– Разве мы любим только красоту в жене и матери своих детей? Я думал, что ты мудра, моя Ка-Мут.
– Я всего лишь бедная женщина, Джосеркара-сенеб, бедная глупая женщина. Я ничего не понимаю в мире, если боги призывают тебя и оставляют меня одну на земле. Зачем жить мне, старой и никчёмной? А твоя жизнь нужна Кемет, нужна его величеству.
– Не говори так. Я оставляю тебе Инени и Раннаи, они добрые и почтительные дети, оставляю тебе внуков, детей Инени, и ещё того маленького дикого зверёныша, чьи зубы и ногти причиняли тебе так много огорчений.
– Рамери?
– Да, его. Он здесь?
– Здесь, вместе с Инени и Раннаи.
– Нелегко ему, наверное, было уйти из дворца в такой день…
– Его величество сам отпустил его, когда узнал о твоём нездоровье.
– Да будет благословен его величество Менхеперра! Когда наговоримся, пусть войдут дети…
– О чём же мне говорить, глядя на тебя, любимый?
– Да, называй меня так. И я скажу тебе: «Любимая…» Это правда, Ка-Мут.
– Я знаю это, любимый…
Он женился на Ка-Мут, тихой и некрасивой, толком не зная её, не успев полюбить. Любовь пришла позже, обвилась вокруг сердца венком из белых лотосов, вырастила саму себя в маленьком гнезде, в потаённых глубинах Ба. Та первоначальная нежность, робкая и светлая, то умиление ею, беззащитной, до сих пор жили в сердце Джосеркара-сенеба, хотя теперь он был слаб и беспомощен и сам нуждался в её заботах. Воспоминания или, вернее, видения прошлого проплывали перед мысленным взором старого жреца, и порой ему казалось, что он стоит, запрокинув голову, и смотрит в раскинувшееся над ним небо, где плывут облака, подсвеченные то розовым, то лиловым, то золотистым огнём, как бывает на закате. Закат… А мысль возвращалась к рассвету, к тем годам, когда он был молод, когда молода была Ка-Мут, дочь Аменемнеса, глубоко почитаемого им учителя. Вот они стоят в саду под гранатовым деревом, покрытым ярко рдеющими в сумерках плодами, – молодой жрец и худенькая некрасивая девушка, в смущении опустившая глаза. Она знает, что некрасива, и страдает от этого, но Джосеркара-сенеб говорит ей о своём желании сделать её госпожой своего дома, говорит тоже смущённо, почти не глядя на Ка-Мут, и щёки её вспыхивают стыдливым и радостным румянцем. Вот они стоят перед жертвенником в храме Амона, свадебное ожерелье на шее Ка-Мут искрится разноцветными огоньками, а рука в руке Джосеркара-сенеба такая тоненькая и хрупкая, что он боится крепче сжать её пальцы, хотя ему очень хочется этого. Вот отшумел свадебный пир, и он вводит её в брачный покой, дрожащими от волнения пальцами развязывает пояс на её платье, шепча: «Гебом и Нут будем мы с тобой, любимая, нагими и чистыми, как в первый день творения…» Она тихо плачет на брачном ложе, закрыв ладонями пылающее от стыда лицо, хотя всё время он был осторожен и нежен, и он утешает её, ощущая и смущение, и жалость к ней, и нежность, волной омывающую сердце. Вот тихий вечер на исходе третьего месяца шему, когда она, смущённая и радостная, сообщила ему о своём близком материнстве, о счастье и страхах. Вот младенец у её груди, черноглазый и бойкий, оглашающий дом громким требовательным криком, первенец Инени, родившийся здоровым и крепким на радость отцу и матери. А вот оба они стоят, поникшие и печальные, среди гробниц Города Мёртвых на западном берегу Хапи – они привезли сюда маленькую мумию девочки Мерит-Нейт, умершей на третьем году жизни. Сколько ещё раз им предстоит побывать здесь! Четверо их детей умерли, не дождавшись дня рождения, ни разу не вздохнув вне материнской утробы, ещё пятеро умерли младенцами, и только двоих оставила злая судьба – старшего, Инени, и одну из младших дочерей, Раннаи. Вот снова лицо Ка-Мут, залитое слезами, – она склонилась над ложем Джосеркара-сенеба в то утро, когда он вернулся из храма Амона с искалеченной рукой и томительным ожиданием смерти в сердце, которое напрасно пытался скрыть, ибо сопровождавшие его люди храма уже обо всём предупредили жену. Вот идут дни, беспощадно разлучая его с Ка-Мут – изготовление лекарств в храме, посещение больных, маленькие пленники из Ханаана, среди которых Араттарна, дикий львёнок… Вот снова печаль на лице жены, когда он возвращается домой поздним вечером, утомлённый и подавленный, стараясь скрыть от её взгляда следы зубов и ногтей на своих руках. Вот военные походы его величества Менхеперра, в которых присутствие божественного отца необходимо, как запас провизии и воды, в которых он порой не знает отдыха по несколько суток, ухаживая за ранеными и больными и отвечая на бесконечные вопросы фараона, утешая его. Да, теперь он понимал это – жизнь царского дома поглотила его собственную, как великая река поглощает вливающийся в неё ручей. Он видел членов царской семьи чаще, чем собственных детей, дни его проходили в заботах о здоровье и благоденствии фараонов и цариц, он пожертвовал ради них всем – своей молодостью, здоровьем, временем, даже счастьем любимой дочери, хотя жертва оказалась печальной и бесполезной. Во дворце к нему привыкли, как привыкают к постоянному безмолвному присутствию статуи, переходящей по наследству, в военном шатре он был и жрецом, и советником, и врачом, и отцом, призванным смирять и утешать печали царственного сына, а собственный сын рос вдали от него, и тёмные бури бушевали в груди покинутого воспитанника. И вот теперь он уходил, успев заглянуть в лицо нового солнца, оставляя в печали многих любивших его, уходил так же тихо, как когда-то появился на свет в маленьком городке Чеку, где его отец был служителем Себека. Сам искусный врачеватель, Джосеркара-сенеб знал, что умирает, и мог даже приблизительно рассчитать час, когда это случится – во всяком случае, ему было ясно, что солнечные лучи, осветившие его ложе сегодня утром, принесли ему последнее в жизни тепло. Он спешил наглядеться на Ка-Мут, хотел ещё увидеть детей и поговорить с ними и потому не желал засыпать, зная, что больше ему не суждено проснуться. А как мучительно порой хотелось спать, особенно в молодости, когда можно было с одинаковым наслаждением растянуться на ложе, на земле и даже просто на каменном полу, как слипались глаза долгими ночами, когда приходилось дежурить у ложа больного или раненого, каким блаженством казался краткий тяжёлый сон в кресле, при горящем светильнике! Но теперь сон был только чёрной птицей, чьи крылья грозили скрыть солнце навсегда, и Джосеркара-сенеб не хотел тратить на него драгоценные минуты уходящей жизни, хотя и знал, что сон может принести облегчение, успокоить тупую боль в груди. Эта боль прочно поселилась в теле, не покидала его с того самого утра, когда чаша с благовонными курениями выпала из внезапно ослабевших пальцев. И ещё одна боль беспокоила Джосеркара-сенеба – странная ноющая боль в пальцах, которых не было. А сердце было спокойно и лишь чуть-чуть печально, сжималось грустью более за других, чем за себя, тревожилось за тех, кто оставался на земле. Порой Джосеркара-сенеб испытывал странное чувство – он словно смотрел уже с неизъяснимой высоты на тех, кого любцл и кого покидал теперь, они казались крошечными, как ушебти[115]115
…они казались крошечными, как ушебти… – Ушебти – ритуальные деревянные фигурки, буквально «ответчики», в египетском погребальном обряде призванные исполнять работы, назначенные каждому человеку в загробном царстве.
[Закрыть], беспомощными, потерянными, их хотелось утешить и согреть, но на это уже не было ни времени, ни сил. Последнюю радостную весть принёс царский слуга, сообщивший о рождении долгожданного царевича. Кроме того, его величество, который сейчас праздновал рождение сына в окружении приближённых военачальников – многим кувшинам вина суждено было опустеть в этот день! – его величество велел слуге справиться о здоровье Джосеркара-сенеба, и это мимолётное внимание тоже порадовало старого жреца. Он велел сказать, что чувствует себя хорошо и приносит тысячу поздравлений его величеству и тысячу тысяч благословений новорождённому царевичу, и слуга ушёл очень довольный, радуясь тому, что и фараону принесёт радостную весть. Между тем солнце начало быстро клониться к западу, и силы начали покидать Джосеркара-сенеба, словно жизнь его была волшебным образом связана с жизнью божественного светила. Несколько раз его дыхание становилось прерывистым и учащённым, но удушье вскоре проходило, и Джосеркара-сенеб снова мог ободряюще улыбаться Ка-Мут, не отходившей от его ложа. Но в последний раз он сделал это уже через силу – даже такое слабое движение, как улыбка, далось ему с трудом.
– Позови детей, – сказал он тихо, – всех троих.
Он сказал «троих», имея в виду и Рамери, и Ка-Мут поняла его. Инени, Рамери и Раннаи ожидали в соседнем покое и сразу вошли, остановились у двери, словно притихшие дети. Беспомощные, растерянные ушебти… Инени приехал позавчера, один, без жены и детей, Раннаи пришла сразу же, как только узнала о нездоровье отца, Рамери пришёл несколько часов назад, и они втроём ожидали зова в соседнем покое, без слов, безмолвно. Теперь пришли, чтобы сказать: «Вот я…» Раннаи прятала лицо, должно быть, не хотела, чтобы умирающий видел её слёзы. А Рамери был бледен, так бледен, словно смуглый цвет его кожи внезапно выцвел, золото солнца сменила холодная бледность луны.
– Подойдите, – прошептал Джосеркара-сенеб.
Они подошли и опустились на колени возле ложа: Инени и Раннаи по одну сторону, Рамери по другую. Ка-Мут отошла и села в кресло немного поодаль, мать уступила место детям, среди которых был и тот, кого Джосеркара-сенеб любил как сына, хотя он и был чужеземцем по крови. Инени предостерегающе сжал плечо Раннаи – она всё ещё не могла поднять глаз.
– Не нужно плакать, дочь, – мягко сказал Джосеркара-сенеб, – смерть приходит вовремя, я ухожу, чтобы уступить своё место на земле, оно нужно новому человеку. Так заведено, ибо путь солнца лежит от восхода до заката, и каждый новорождённый должен дышать воздухом, согреваться солнечным теплом, их и уступит ему умирающий. Я ухожу в Аменти с радостным сердцем, я спокоен – сегодня долгожданный царевич огласил своим криком царский дворец, я успел увидеть восход нового солнца. Заветом оставляю вам верность царскому дому, верность его величеству Менхеперра и будущему фараону, чтобы никто, глядя на вас, не мог сказать: «Дети Джосеркара-сенеба предали то, что было для него свято, чему он отдал всю свою жизнь…»
У Рамери вырвался стон, похожий на рыдание, Инени тяжело вздохнул. Обессиленный долгой речью, Джосеркара-сенеб закрыл глаза и лежал так какое-то время, и только по слабому движению груди можно было понять, что дыхание жизни ещё не оставило его. Инени уже хотел заговорить, но старый жрец вновь открыл глаза, его губы разомкнулись, но шептал он уже так тихо, что окружившим ложе пришлось наклониться к умирающему.
– Дети, я молю богов, чтобы сердца ваши никогда не узнали, что такое пустота без любви и верности, без исполнения долга. Там, в Аменти, я буду ждать вас, и лишь тот приблизится ко мне, кто исполнит свой долг до конца, чьё имя с благодарностью будет произносить благой бог Кемет. Я отдал всю жизнь царскому дому, но я не жалею об этом! Я желал бы увидеться с вами там, на ступенях трона Осириса, встретить правогласных, истинных моих детей. Помните…
– Учитель, – вырвалось у Рамери, – а я? Разве смогу я приблизиться к тебе, разве мне, презренному рабу, не преградят дорогу стражи Аменти? Неужели мне, злосчастному, рождённому на земле Хальпы, не суждено увидеться с тобой?
Джосеркара-сенеб с усилием поднял руку и коснулся головы Рамери, на его светлеющем лице появилось подобие улыбки. Хуррит схватил руку учителя, прижал её к своему сердцу, и Ка-Мут, взглянувшая в лицо Рамери, не смогла удержать слёз.
– Рамери, сын мой, великий Осирис не отринет тебя, если твоё сердце не будет отягощено ни одним из сорока двух грехов, путь в его царство открыт любому праведнику, будь он сыном Черной или Красной земли. Истинный сын Кемет, сын не плоти, но моего сердца, разве не помнишь ты, о чём мы говорили в лагере при Мегиддо? Верь мне, мы увидимся там, и я прижму твою голову к моему сердцу, и когда настанет срок его величества, ты вновь будешь рядом с ним, будешь охранять его от всех опасностей, что подстерегают и в загробном царстве… Дети, дорогие мои, любимые, час мой близок! Прости меня, мой сын Инени, чьих первых шагов я не видел, ибо дни и ночи проводил в храме за изготовлением лекарств, прости меня, Раннаи, моя дочь, ибо по моей вине ты стала женой Хапу-сенеба, не любимого тобой и не заслуживающего твоей любви, прости меня, моя Ка-Мут, чью старость я не смог согреть, ибо всё время был далеко от тебя, в походном шатре его величества… – Джосеркара-сенеб остановился и докончил совсем тихо, так что шёпот казался уже последним вздохом, слетающим с бледных губ: – А теперь отпустите меня, не возносите больше молитв о моём исцелении, дайте мне спокойно уснуть. Да пребудет с вами благословение великого Амона, да не постигнет вас беда ни в вашем доме, ни в дороге, да будут сердца ваши уравновешены пером Маат! Идите с миром. Пусть со мной останется моя возлюбленная Ка-Мут…
Инени обхватил за плечи рыдающую Раннаи и вывел её из покоя, следом вышел Рамери, дверь за ними затворилась. Ка-Мут села на ложе рядом с Джосеркара-сенебом, обхватила его голову руками, прижала её к своей груди, и тогда он улыбнулся и закрыл глаза, а она заговорила – без слёз, тихо и нежно. Она говорила о том, как любила его все эти годы, как была счастлива с ним, как благодарила богов за ниспосланное ей счастье, и голос её был совсем молодым, свежим, сладостным. Вскоре Джосеркара-сенеб уснул с улыбкой на устах, а Ка-Мут продолжала говорить ему, уже мёртвому, о любви и жизни, о счастье встречи с ним, о радости встречи в будущем, где их уже не разлучит ни война, ни дела царского дома, ни священные церемонии. И когда спустя несколько часов Инени отворил дверь, он увидел мать, по-прежнему прижимающей к груди голову отца, по-прежнему произносящей тихие, нежные слова. В покое было уже совсем темно, в пробивающемся сквозь узкое окно лунном свете слабо светилось белое одеяние Ка-Мут. Лица обоих, и отца и матери, показались Инени счастливыми и внезапно помолодевшими, словно умерли они оба и проснулись вдвоём в ином, блаженном мире. И, осторожно выйдя из покоя, затворив за собой дверь, он сказал обернувшимся к нему Рамери и Раннаи: «Отец спит». Неожиданно Раннаи бросилась на грудь Рамери, обняла его и разрыдалась. Инени стоял смущённый, хотя и видел, что сам Рамери едва ли отдаёт себе отчёт в том, что знатная госпожа Раннаи плачет на его груди. Больше они ни о чём не говорили в ту ночь. Дом Джосеркара-сенеба наполнился горестными рыданиями слуг и рабов, и был послан вестник к верховному жрецу Амона Менхеперра-сенебу. Спустя всего несколько часов погребальная ладья отплыла на западный берег Хапи, и многие люди, не только родные и домашние Джосеркара-сенеба, проводили её цветами, брошенными в воды реки, и горестными криками, ибо много было тех, кто вдыхал сладостный аромат северного ветра лишь благодаря искусству благородного жреца. Раннаи онемела от слёз, Ка-Мут всё ещё оставалась одна в покое, где умер Джосеркара-сенеб, Инени и Рамери провожали тело старого жреца к Месту Правды. Им обоим казалось, что сердце исторгнуто у них из груди и брошено в тёмные воды Хапи, несущие на своих волнах печальные ветви и цветы. Но то, что переживал Рамери, не мог понять даже сын Джосеркара-сенеба, ибо дух, связующий людей крепче, чем плоть, при разлуке испытывает боль, превосходящую все страдания плоти и даже кровного родства. Не стало воздуха, не стало неба, оно обернулось чёрным камнем не потому, что наступил вечер, а потому, что угасло что-то в сердце Рамери, непоправимо, навсегда… Он смотрел в лицо учителя, такое спокойное и приветливое, на нём был отпечаток грусти и какого-то сожаления, словно он смотрел уже с высоты на тех, кого оставил на земле, жалел их и хотел утешить. Он, всегда стремившийся облегчить страдания людей, был вынужден причинить жестокую боль тем, кого любил, и кто знает – быть может, сердце, его честный свидетель и ходатай, всё ещё болело за них? Рамери был воином, знавшим смерть, он видел гибель матери, но никогда ещё его не охватывало чувство такой безнадёжности, ощущение сжимающегося холодного кольца. Память со свойственной ей жестокостью возвращала все обиды, которые он вольно или невольно причинил учителю, беспощадно перечисляла места, дни, слова – рабочий покой жреца, лагерь при Мегиддо, ночь в звёздах и отблесках костров, сомнения, попытка самоубийства, биение тёмной ханаанской крови и слова, которыми облекалось оно… Особенно мучительно было воспоминание о том, как однажды в детстве, ещё будучи свирепым врагом пленивших его, Рамери со злобой ударил Джосеркара-сенеба по искалеченной руке, удар пришёлся по обрубкам пальцев, и жрец вздрогнул от боли, но только тихо отвёл руку от маленького пленника и ничего не сказал. Теперь Рамери понимал, что самую страшную боль причиняет человеку не столько уход любимого существа, сколько зло, когда-то причинённое им самим, которое возвращает и удваивает беспощадная память. Если бы не существовало Раннаи, он, наверное, спокойно шагнул бы в эти тёмные, пронизанные отблесками погребальных факелов воды Хапи. Учитель когда-то рассказывал ему, что утопленников, лишённых погребения, извлекают из воды боги и хоронят на берегу подземного Хапи. Но Раннаи ждала его, и измученное сердце невольно тянулось к ней, он мечтал припасть лицом к её ладоням, к её коленям, рассказать о том зле, которое причинял учителю, говорить с ней, бесконечно любившей отца, разделить с нею ношу, одинаково тяжёлую для обоих. С Инени он почему-то говорить не мог, хотя, возвращаясь назад на пустой погребальной ладье, они сидели рядом, обнявшись, как братья. Дома их встретила Раннаи, лицо которой поблекло от слёз, в одежде, приспущенной с левого плеча. Они разделили скромную трапезу, мужчины ели молча, Раннаи ни к чему не притронулась. После трапезы Инени, на плечи которого легли теперь многочисленные заботы о доме и наследстве, удалился, Рамери и Раннаи остались вдвоём. Они сидели рядом, опустив головы, не глядя друг на друга, женщина тихо всхлипывала.
– Раннаи, – тихо сказал Рамери, – я шёл сюда, чтобы узнать о здоровье учителя и сообщить ему и тебе радостную весть. Сделать этого я не успел… Его величество – да будет он жив, цел и здоров! – обещал даровать мне свободу сразу после похода в Митанни, но, когда будет этот поход, я не знаю, может быть, в следующем году, может быть, через три года. Я думал, что обрадую тебя…
– Мы оба стареем, – печально сказала Раннаи, – посмотри на меня – я увядаю, его величество, который хотел взять меня в свой женский дом, больше не смотрит на меня. Моя жизнь уплывает, как тростниковая лодка по водам великой реки, и скоро не останется берега, на который я могла бы смотреть. Посмотри на меня и ты, Араттарна, и ты увидишь, что я отцвела, как лотос к началу времени шему. Вот и отец мой отправился в путешествие к вратам Аменти, лицо моего брата изборождено морщинами, и сама я скоро стану подобна засохшей ветви. Об одном, только об одном молю я великого Амона – чтобы дал мне зацвести в первый и последний раз, чтобы дал мне познать радость, которая одна оправдывает наше существование на земле, и дать мне это можешь только ты… – Она остановилась, подняла голову и взглянула на Рамери своими прекрасными, полными слёз глазами. – Только ты, Араттарна, любимый, и теперь я молю тебя об этом!
– О чём ты говоришь, любимая?
– Женщине нелегко говорить об этом… – Слабая, смущённая улыбка скользнула по её губам, но глаз она не опустила и продолжала смотреть на Рамери, повернувшись к нему. – Ты знаешь сам – у меня не было детей от Хапу-сенеба, хотя когда-то я страстно желала их, чтобы оправдать свой несчастливый брак и погрузиться в заботы о них. Но Исида не вняла моим мольбам… Я хочу, чтобы в последний раз засыхающая ветвь покрылась цветами, мне нужен сын, твой сын, Араттарна. И даже если мы не станем мужем и женой, я хочу носить под сердцем твоего ребёнка, испытать боль деторождения, увидеть сына у своей груди. Подари мне это счастье, Араттарна! Скоро это будет уже невозможно…
Потрясённый, он бросился к её ногам, обхватил руками её колени, прижался к ним лицом. Она положила руки на его плечи и долго молчала, прежде чем вновь разомкнула уста:
– Араттарна, там, в земле Буто, я однажды разговорилась с простой женщиной, женой пастуха. Она родила девятерых детей, похоронила четверых и, когда я говорила с ней, ждала ещё одного. Она сказала мне: «Бедная госпожа, у тебя нет детей!» Я спросила, как рождались её дети, и она принялась подробно рассказывать мне об этом. Первенца, сына, она родила в поле во время жатвы, его положили на снопик пшеницы и обмыли той водой, которую приносят для питья жнецам. Ещё один сын пожелал явиться на свет в храме, ему помог родиться совсем ещё молодой жрец. Одну из дочерей она родила во время великого праздника Ипет-Амон прямо в лодке, которая сопровождала священную ладью бога. Она рассказала мне о том, как дети высасывали у неё из груди всё молоко, и когда казалось, что больше в рот младенца не попадёт ни капли, муж подходил к ней и гладил её грудь, и молоко вновь начинало тоненькой струйкой бить из соска. Я тоже хочу испытать это, Араттарна, неужели ты откажешь мне в этом? Отец мой, которого и ты называл отцом, оставил нас, я хотела рассказать ему всё о нашей любви, но не успела сделать этого. А теперь я думаю, что сам он давно уже знал обо всём и простил нас, ибо сказал тебе перед смертью: «Сын мой…» Наш дом объят горем, а в царском дворце большая радость, и так и должно быть, ибо рождение и смерть идут бок о бок, и я говорю тебе: пусть смешаются воедино дни великой скорби и великой радости, ибо я не могу ждать… Не смотри на меня так, любимый, не удивляйся моему бесстыдству – его породили одиночество и грустные мысли о бесполезно прожитой жизни. Но если ты согласен, уйдём отсюда и соединимся там, где нам никто не помешает. Пусть оборвавшаяся жизнь вновь затрепещет в новой, старое семя оживёт в новом цветке… Любимый мой, господин мой, не отталкивай меня!
Рамери поднялся с колен, встала и Раннаи, и некоторое время они молча смотрели друг на друга. За стеной слышались приглушённые рыдания и жалобные молитвы, слуги оплакивали своего господина, где-то далеко, может быть, в дальнем конце дома, плакал ребёнок. Вот послышался голос Инени, потом хлопнула дверь – должно быть, новый хозяин отдал какие-то распоряжения и потом вошёл в комнату, где всё ещё оставалась в одиночестве его мать. Рамери осторожно притянул к себе Раннаи, обнял её, она прошептала: «Уведи меня…» Он покачал головой, поднял её на руки и на руках вынес из дома, покинутого солнцем, дыхание смерти осталось там, в опустевшем покое Джосеркара-сенеба, рядом с безмолвной, погруженной в своё горе Ка-Мут. У самых дверей встретилась маленькая газель, которую звали Гези, это имя дал ей Джосеркара-сенеб в честь давно умершей любимицы. Она проводила Рамери и Раннаи печальным взглядом и легла возле пустого кресла, освещённого тусклым огоньком догорающего светильника. Вскоре погас и он, и газель осталась в темноте, которую пронизывал лишь слабый отблеск лунного луча, пробившегося сквозь узкое окно, и, как блестящий нож, лунный луч рассёк ложе, на которое легли Рамери и Раннаи.
* * *
В покоях его величества ярко горели огни, освещая весёлые лица, раскрасневшиеся от вина и жары. Военачальники, окружившие фараона, уже раз двадцать поднимали чаши за здоровье его величества и его высочества, новорождённого царевича Аменхотепа, которого Тутмос то и дело приказывал приносить испуганным женщинам, в обязанности которых входило заботиться о новом солнце Кемет. Вино и любимое Тутмосом горькое кушитское пиво давно развязали его язык и превратили обычную суровую сосредоточенность в развязное веселье. Он то приказывал явиться танцовщицам, то изгонял их, и они убегали с криками и визгом, впрочем, принимая гнев фараона за шутку, то бросал чаши на пол, не отхлебнув из них ни разу, то жадно пил прямо из кувшина, гневаясь на тех, кто предлагал ему чашу. Дхаути, Себек-хотеп и особенно Хети, преданные друзья фараона, вели себя так же, пытаясь обойти повелителя в количестве выпитого вина. Отрывистый смех и грубые шутки то и дело раздавались над головой отчаянно кричащего младенца, но когда Тутмос, пошатываясь, вставал из-за своего стола и брал сына на руки, царевич затихал, и в этом все видели доброе предзнаменование и верную примету того, что Аменхотеп будет достойным продолжателем дела своего отца, могучего воителя, сокрушителя Мегиддо. Робкие сердца нянек царевича замирали, когда младенец взлетал высоко над столом в крепких руках фараона, с тревогой переглядывались и слуги – им уже не раз приходилось засыпать песком факелы и светильники, которые разгулявшиеся воины бросали на пол. Иной раз ручная обезьянка, любимица фараона, принималась бешено визжать и прыгать по столам, тогда на пол летела посуда и всё, что попадалось в лапки озорного зверька, избалованная любимица швырялась орехами и финиками, и слугам приходилось следить, чтобы эти непрошеные дары не полетели в самого повелителя. Нередко всё съеденное и выпитое каким-нибудь воином извергалось на пол, несчастным прислужникам приходилось зорко следить и за этим, а то и просто поднимать свалившегося на пол человека и вытаскивать его из пиршественного зала, выслушивая по пути пьяные выкрики и грубую брань. Неумеренно пили и женщины, их визг и хохот раздавались то в одном, то в другом углу – здесь пьяный воин дразнил танцовщицу снятым у неё с руки драгоценным браслетом, там двое других тянули в разные стороны совершенно пьяную чернокожую красавицу, требуя от неё ласк, ещё одна униженно ползала у ног Дхаути, моля его указать ей путь к выходу, а напротив точно так же искал выхода один из младших военачальников, путаясь в складках покрывала, стыдливо наброшенного на колени сидящей женщины. Музыканты, которые играли без перерыва несколько часов подряд, уже не могли сидеть прямо и прислонялись спинами к высоким расписным колоннам, их руки и губы продолжали извлекать звуки из разнообразных инструментов, но глаза почти у всех были закрыты, а один старик уже не мог играть и грудью навалился на свою большую арфу, дыша, как загнанный конь. Два карлика, привезённые Тутмосом из Ханаана, то и дело принимались драться из-за куска лепёшки или крылышка жареной птицы, комочками катались по залу, их со смехом пинали ногами и поливали вином из чаш. Вся жизнь царского дворца сосредоточилась в покоях фараона; то, что оставалось за их пределами, едва ли вообще существовало для собравшихся здесь людей. Разгульные пиры по случаю рождения наследника продолжались уже третий месяц и стоили фараону немало, но он не жалел серебра не только на вино и яства, но и на щедрые подарки военачальникам. Среди них был и молодой Пепи, оказавший фараону столь значительные услуги, хотя командовал он всего лишь сотней воинов и был далеко не такого знатного рода, как Дхаути или Себек-хотеп. Он сидел за дальним столом вместе с Рамери и, хмелея всё больше и больше и не замечая того, что его собеседник печален и молчалив, трещал без умолку, то и дело прерывая свою речь пьяным смехом:
– Послушай, господин Рамери, это правда, что скоро мы двинемся на крепость Уазы и что это будет нашим подарком новорождённому солнцу Кемет? Поистине, радость великая! Что из того, что нас побили под Кидши? Это ничего! Всё, что построено руками человека, человек может и разрушить – так говорят древние мудрецы, а? А зубчатые стены Кидши строили не боги! Вот только мудрые люди говорят, что всему виной Митанни, что это их проклятый царь строит козни против Великого Дома. Что же, нам на это спокойно смотреть? Его величество, да будет он жив, цел и здоров, тысячу раз прав, когда говорит, что нужно раздавить Митанни, как ядовитую змею, вот так, вот так! – В порыве воодушевления Пепи пригвоздил ножом к столу кусок пшеничной лепёшки. – Слышал ты, господин Рамери, что говорят божественные отцы? Опять, видишь ли, недовольны! Жалуются, что мы, воины, ведём слишком роскошную и привольную жизнь, а на то, что мы кровью в боях за это платим, им наплевать! Мало мы, что ли, бедствовали при царице Хатшепсут? Настала и наша пора, так что же, нам продолжать питаться лепёшками из лотоса и гнилыми финиками? Это таким господам, как, к примеру, господин Себек-хотеп, при Хатшепсут жилось хорошо, а нам, простым воинам, приходилось несладко. Если бы не привели боги на престол его величество и не внушили ему, что надобно воевать с врагами Кемет, смог бы я жениться на моей Сит-Амон? Ведь не смог бы! А теперь её отец низко мне кланяется и называет меня «господин Пепи», хотя раньше грозился избить палкой, если увидит в своём саду.
– Под сикоморой? – насмешливо спросил Рамери, которому надоела уже пьяная болтовня выбившегося в люди лучника.
Пепи, однако, не понял насмешки.
– А как ты угадал, господин Рамери? Именно под сикоморой! Как поётся: «Листья словно лазурит, а её плоды краснее яшмы…» Сколько раз я лежал там со своей Сит-Амон, пока отец её брызгал слюной и бегал по всему дому, надрываясь от крика: «Сит-Амон, Сит-Амон, где ты, проклятая девка?» – Пепи захохотал так, что поперхнулся только что выпитым вином. – Теперь, когда у меня самого растут дочери, я начинаю понимать старого глупца, да где там – моим дочерям от меня не ускользнуть, я-то ведь знаю, где растёт та самая сикомора! А вообще, господин Рамери, – зашептал Пепи, фамильярно обнимая Рамери за шею, – со всякой женщиной беда! Хоть я этого никому не говорю, а прав был старик Усеркаф, когда советовал мне последить за новым рабом, которого жена сама купила. Тебе, тебе одному, так как ты человек знатный и благородный, скажу, потому что не желаю иметь от тебя тайн на сердце – что видел, то видел, и пусть я лишусь загробного блаженства, если совру! Она, Сит-Амон, клянётся, что я был пьян, да ведь я-то знаю, что, когда даже и пью, разума не теряю, а тогда уж вовсе и не был пьян. Была она, была с этим рабом, презренным ханаанеем, собакой, которая молится по-собачьи своему Баалу, воя на луну. «Уж ты бы, – сказал я ей, когда отхлестал как следует поясом из буйволовой кожи, – подумала о том, что ханаанеи вылеплены из грязи, да ещё из зловонного птичьего помёта, да ещё смешанного с мышиной мочой – не противно ли об него мараться?» Вот до чего доходит женщина, когда распалится, господин Рамери! В другой раз, боюсь, застану её с чёрным кушитом, а потом, когда лягу с ней, сам окажусь перемаранным в чёрной грязи! И мой тебе совет, господин Рамери: если есть у тебя верный раб, поставь его следить за своей женой, когда отправишься в поход, не то встретит она тебя с младенцем грязно-жёлтого цвета и скажет, что это твой, а то ещё что к ней бог снизошёл в обличье какого-нибудь грязного хуррита! Поход-то ведь будет долгий…








