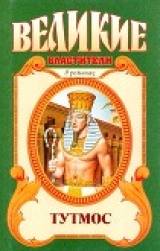
Текст книги "Тутмос"
Автор книги: В. Василевская
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 26 страниц)
«Его величество подал знак, – писал Чанени, – и могучее войско Кемет двинулось, заполонив землю до края её, и воздух дрожал от топота коней его. Пыль взметнулась до самого неба, скрыв сияющий восход божественного светила. И был подобен гласу бога глас величества его, когда издал он боевой клич, покрывший шум начавшейся битвы. И было великим смятением охвачено войско врагов величества его, и бежало оно подобно пугливому стаду животных пустыни. И не истёк ещё блистающий час[91]91
И не истёк ещё блистающий час… – Египтяне делили день на 12 дневных и 12 ночных часов, их продолжительность в зависимости от времени года была неодинаковой, но каждый имел своё название. Таким образом, блистающий час – это первый час дня, возможно, пять-шесть часов утра.
[Закрыть], как был уже решён исход великой битвы при Мегиддо, покрывшей славой деяния его величества Менхеперра Тутмоса…»
Кожаная рукавица для стрельбы намокла от пота, он сдёрнул её, перехватив лук открытой горячей рукой, нетерпеливо выхватил из колчана ещё одну стрелу. Тутмос сожалел о том, что рукоять меча пришлось выпустить, что уже некого было рубить, что оставалось только посылать стрелы вслед убегавшим врагам – одну за другой, одну за другой, без разбора. Взметнувшаяся пыль обожгла лицо и гортань, Тутмос закашлялся, почувствовал острую резь в глазах. Он продолжал стрелять, почти не целясь, зная, что его стрелы всё равно жалят врагов в гуще их беспорядочного бегства. На мгновение ему почудилось, что он один среди пёстрой разноязыкой толпы, что его войско рассеяно и уничтожено, поглощённое численным множеством ханаанеев, но вот мелькнула колесница Дхаути, вот показался стройный ряд копьеносцев, вот обогнал его на своей колеснице грозный Себек-хотеп. Натиск был так стремителен, что смешался с бегством – обезумевшие толпы ханаанеев порой обращались вспять, натыкались на копья, своими телами преграждали путь пешим воинам, но колесницы лишь чуть-чуть замедляли свой бег, минуя густую мягкую тяжесть, хруст переломанных костей обрывался диким предсмертным воплем, запах конского пота и разодранной плоти становился всё тяжелее.
Тутмос чувствовал, что звуки битвы сливаются в единый равномерный гул, из которого лишь изредка вырывается слишком резкий вопль или грохот опрокинувшейся колесницы, ему даже показалось, что он глохнет, потому что не мог уже различать свиста стрел и топота коней, и голос боевых труб казался незнакомым, звучал совсем иначе, чем на торжественных смотрах войска в столице. Правое плечо надсадно ныло, наверное, теперь он уже не мог бы держать меч, но теперь этого и не нужно было – вражеское войско было смято до обидного быстро, Тутмос не успел ощутить ни вкуса битвы, ни вкуса победы, и внутри было странное чувство, похожее на разочарование. Он успел увидеть беспорядочное движение отдельных ханаанских отрядов и понял, что Себек-хотеп был прав – разрозненные отряды выполняли приказания только своих начальников, правитель Кидши оказался бессильным перед лицом многосотенного войска, воины мешали друг другу, в бегстве уничтожали друг друга. Всё было просто, но неужели первая его победа окажется столь лёгкой и неужели все победы будут такими же пресными на вкус? Правда, до стен Мегиддо ещё далеко… Вот временный стан ханаанеев, вот их шатры, их кони, их женщины, разбегающиеся с плачем и криками, рабы с бессмысленными тупыми лицами, беспорядочно толпящиеся у шатров. Но что это, почему вдруг остановились воины Кемет? Они остановились, они…
– Гиены, падаль! Пусть зловонное болото поглотит вас! Пусть тела растерзают птицы! Прочь от шатров, прочь, к Мегиддо!
Царская колесница смяла роскошный шатёр вместе с воинами, оказавшимися внутри него, переломленная деревянная ось больно ударила Тутмоса по плечу, грохот рассыпавшейся посуды показался неожиданно громким, громче, чем дикий вопль воинов – изменников, трусов, обуреваемых жадностью. В висках фараона застучала бешеная кровь, застучала так сильно, что потемнело в глазах. Повсюду – налево, направо, позади – видны панцири его воинов, нет их только впереди, на спинах убегающих врагов. Повсюду треск разрываемых тканей, звон посуды, крики женщин, и ни одного боевого клича, только редкий свист стрел, только замирающий бег колесниц. Себек-хотеп оказался рядом, склонившийся на борт колесницы, с окровавленным лицом, со шлемом, откинутым назад. Он проговорил что-то, с усилием подняв голову и глядя на фараона, стук крови в висках мешал расслышать, да и Себек-хотеп вновь уронил голову. Вот копья, брошенные на землю, щит, наполненный драгоценностями, золотой кувшин, обрызганный кровью, сорванные с борта ханаанской колесницы серебряные украшения – всё это потеряно в панике или в приступе жадности, побудившем воинов броситься к другим, более лакомым кускам добычи. «Трусы, враги солнца!» Ободранное песком и пылью, саднящее горло издавало только хриплые звуки, похожие на приглушённое рычание раненого зверя. Неферти стегнул коней, ещё какая-то колесница сорвалась с места, но Себек-хотеп остался – не для грабежа, Тутмос знал это, опытный военачальник был ранен в голову, может быть, смертельно. Не занялся грабежом и Амоннахт, вот он мелькнул впереди, но в его руке вместо меча плеть, которой он хлещет и хлещет беспощадно, пытаясь заставить обезумевших от жадности воинов бросить своё позорное занятие и преследовать врага. Перед самой колесницей фараона мелькнуло грязное, в крови и пыли лицо пешего воина, выхватившего меч, воин бежал вперёд, к стенам Мегиддо, и это так обрадовало фараона, словно этот неведомый человек был целым войском, победоносным, устремлённым к одной цели, честным и отважным, как прежде. Тутмос выпустил из лука ещё несколько стрел, одна из них вонзилась в спину убегавшего ханаанея, воин нелепо взмахнул руками, в последней боевой пляске выплёскивая остаток сил, и это отчего-то рассмешило фараона, хотя скулы всё ещё сводило от ярости, кровь всё ещё стучала в висках. Неферти гнал коней, едва прикасаясь к их спинам кнутом – казалось, кони слушались не только его слова, но даже его дыхания. Стены Мегиддо были уже близко, близко и распахнутые ворота, которые глотают и глотают толпы беглецов, и в воротах – ни одного воина Кемет, ни одного копья, которое сделает отчаянную, пусть и бесплодную попытку помешать им закрыться… Тутмос застонал от ярости, Неферти наклонился к нему: «Твоё величество, ты ранен?» Он предпочёл бы истечь кровью, чем видеть эту опозоренную полупобеду; глаза его были широко раскрыты и видели, как захлопнулись ворота Мегиддо, как немногие замешкавшиеся были втащены на стены с помощью спущенных кусков ткани, как прочно, неподвижно встал Мегиддо, громадный, пугающий крепостью стен. Теперь спасёт только осада, быть может, изнурительная, многомесячная… Велики ли запасы Мегиддо? Если даже временный стан ханаанеев был так богат…
Тутмос велел Неферти остановиться, обвёл взглядом тех, кто оказался рядом – Дхаути, Амон-нахт, Хети… Они ждали его знака, чтобы повернуть назад, прочь от Мегиддо, он медлил, как будто наслаждаясь опасностью и дразня её. Повернуть вспять на глазах врага невозможно, это понимают военачальники. Что ж, пусть остаются у стен Мегиддо те, кто по своей вине упустил победу, которая могла бы прославить Кемет в один день. Ханаанеи должны видеть, что фараон готовится к осаде, они не должны заметить его растерянности, его ярости. Войско Кемет всё ещё грозно, вот оно собирается у стен Мегиддо, опьянённое добычей, опозоренное, но и раззадоренное ею. Тутмос вдруг почувствовал влагу на верхней губе, солёный привкус – кровь пошла носом, наверно, от усталости, от напряжения. Глупо… Он сделал знак Неферти, царская колесница повернула назад, к лагерю на берегу ручья, за нею – колесницы военачальников. «И было разгромлено войско врагов величества его…»
Он проклинал жадность, бессмысленную и всесильную, одержавшую победу над казавшимся непобедимым войском. Теперь – осада Мегиддо. Даже если ему придётся простоять у его стен срок, равный нынешнему сроку его жизни, он сделает это и в конце концов возьмёт Мегиддо, в котором укрылись три сотни ханаанских правителей, а под их жезлом – тысяча городов. Бывают случаи, когда тысяча равна одному, это ведомо только полководцам, а не искушённым в тайнах математики жрецам. И всё-таки Тутмос не мог удержаться, чтобы не произнести ещё раз хрипло, сквозь зубы: «Трусливая падаль, враги солнца!», «И не знало предела мужество воинов его…»
Смывая с себя грязь, пот и постыдную, выдавшую его слабость кровь, он яростно кусал губы, мечтая, чтобы вместо зубов у него были острые львиные клыки. Хатшепсут опять победила его… Сколько времени пройдёт, прежде чем он отучит воинов кидаться на добычу, не уничтожив врага? Если бы они ходили в походы ежегодно, они не бросились бы так на никчёмные богатства, которыми к этому времени уже были бы полны их сундуки. Хорошо ещё, что военачальники не запятнали себя позором. Себек-хотеп и Хети ранены, первый – тяжело, однако никто из них не убит. Победа ещё не одержана, и впереди – осада Мегиддо. Доводилось ли его отцу осаждать крепости Куша? И что станет вернейшим союзником в этой борьбе – огонь, вода, голод? Сам он не в силах был отказаться от куска жареной дичи, хотя и сдобренной непроходящей горечью во рту. И тёмное, крепкое киликийское пиво было кстати.
За ужином он выслушал рассказы о ходе битвы, сведения о раненых и убитых, справился о состоянии Себек-хотепа, у которого уже побывал Джосеркара-сенеб, улыбнулся, когда узнал, что военачальник пришёл в себя и что его жизни не угрожает опасность. Ему доставляло удовольствие расспрашивать о разных мелочах, вроде того, сколько было захвачено женщин во вражеском стане, были ли пущены в ход копья хатти, сразу ли поняли военачальники, что сопротивление ханаанеев сломлено. Но оставшись наедине с Джосеркара-сенебом, он уронил лоб в ладони, подавленный, пристыженный. Жрец сидел напротив него, прямой и молчаливый, торжественный, как во время жертвоприношения. Сказал тихо, что перед самым началом сражения видел в небе сокола, который долго кружил над лагерем и потом медленно полетел по направлению к Мегиддо. Медленно… Это был добрый знак – и насмешка. Тутмос мог уничтожить весь Ханаан в течение часа, много – полутора часов. А теперь… Он снова ощутил горечь во рту.
– Как ты думаешь, божественный отец, возьму я Мегиддо?
– Возьмёшь, твоё величество.
– Не сразу?
– Не сразу.
Тутмос вздохнул, своим вздохом, едва не погасив пламени стоящего перед ним светильника.
– Даже ты это понимаешь…
Джосеркара-сенеб улыбнулся, снисходя к вечному заблуждению фараонов, что жрецы ничего не смыслят в военных делах. Правая рука жреца лежала на подлокотнике кресла, бросая на колеблющиеся стены шатра уродливую тень – три последних пальца, обрубки двух первых. Говорили, что он сам отсёк себе пальцы, по которым скользнули ядовитые зубы священной змеи.
– Это правда, Джосеркара-сенеб?
– Что правда, твоё величество?
– То, что ты сам отсёк себе пальцы.
– Да.
– Почему же ты никого не позвал к себе на помощь?
– Я был один в тайном святилище храма, твоё величество.
– Ноя слышал, ты всё-таки сохранил яд?
– Сохранил.
– Ты смелый человек, божественный отец.
Снова улыбка осветила лицо жреца, улыбка многоопытного, мудрого человека.
– Разве нужно именовать смелым того, кто спасает свою жизнь? Любовь к жизни заложена в нас богами.
– Ты и сам многих спас, Джосеркара-сенеб. Тех, кому помог исцелиться от тяжких недугов, опасных ран. Сегодня, может быть, спас лучшего из моих военачальников. А ведь когда-то и мне помог появиться на свет.
– Каждый из нас приходит на землю, чтобы исполнить свой долг.
Тутмос смотрел на жреца сквозь пламя светильника, обозначившее резкие тени на лице Джосеркара-сенеба, высветившее неожиданный блеск его немолодых, но по-прежнему зорких глаз.
– Хорошо, когда исполнение твоего долга зависит только от тебя самого, божественный отец.
– Оно всегда зависит только от самого человека, твоё величество.
– А мог ли я сегодня исполнить мой долг, когда моё войско бросилось на шатры ханаанеев?
– Ты сделал всё, что зависело от тебя в тот миг, но возможно, не успел сделать чего-то раньше.
– Как же я мог сделать это раньше, когда царствовала Хатшепсут?
– Ты повёл войско на войну, не приняв во внимание естественных, хотя и постыдных людских слабостей. И у тебя ещё хватило силы, чтобы увлечь войско за собой.
– Что же мне нужно было сделать? Погибнуть, чтобы они бросили грабёж?
Жрец был неумолим.
– Слово истинного повелителя способно остановить в полёте выпущенную из лука стрелу. Твоё слово ещё недостаточно крепко.
Тутмос горько усмехнулся.
– Времени у меня не было, чтобы закалить его крепче бронзы, божественный отец.
– Это придёт, твоё величество. Ты хотел одержать великую победу одной своею рукой, но боги показали тебе, что ты ещё не готов к этому. Сила твоя в том, чтобы сделать войско единым, как один человек.
– По-твоему, это возможно?
– Да.
Тутмос задумался, опустив голову, поигрывая плетью.
– Легко сказать… Но что же мне для этого делать?
– Сегодня тебе нужно прежде всего отдохнуть, твоё величество. Запомни мудрое правило – ни о каких делах, особенно важных, нельзя размышлять перед сном. Хочешь, я зажгу курения анта перед твоим ложем?
– Курения ни к чему, божественный отец. И без того всё расплывается перед глазами… Скажи мне, если фараон восходит на престол так поздно, как я, может ли он свершить великое?
– Бывало, что и восьмидесятилетние старцы становились царями, твоё величество. Ты ещё молод.
– Но лучшие годы отняла у меня она!
По едва заметному движению бровей Джосеркара-сенеба фараон понял, что жрец очень недоволен.
– И ещё одно мудрое правило, твоё величество: не поддавайся бесполезным сожалениям о том, что было и уже прошло.
– Хорошо, подчинюсь! Скажи мне только, Себек-хотеп действительно будет жить?
– Его болезнь – это болезнь, которую я вылечу[92]92
Его болезнь – это болезнь, которую я вылечу. – Одна из общепринятых медицинских формул, означающая, что врачеватель ручается за жизнь больного.
[Закрыть].
– А мне не дашь какой-нибудь травы?
– Зачем?
– Виски сжимает, Джосеркара-сенеб.
– Это твоя горячая кровь, твоё величество. И твоя гордость.
– Так остуди мою кровь!
Жрец улыбнулся.
– Пощадив гордость?
– Её и так топтали слишком долго.
– Я дам тебе целебное средство, твоё величество. Но прежде всего тебе нужен сон.
Сон… Тутмос и сам понимал это, но глаза слипались без сна, просто от переутомления. Он ненавидел бессонницу – самое изнурительное, что только есть на свете. Она терзала его, когда он был фараоном лишь по имени. И продолжала терзать истинного владыку Кемет.
– Ты задумался, твоё величество, а сейчас время сна. Выпей этот отвар, и ты уснёшь.
– Она однажды тоже подносила мне лекарство…
– Кто?
– Хатшепсут. Она пришла ко мне, когда я болел, принесла лекарство. Испытывала, буду ли я пить из её рук, не побоюсь ли отравления! Глаза блестели за краем чаши, а на губах была улыбка. Я выпил до дна, не хотел, чтобы она сочла меня трусом. А ведь она действительно могла отравить меня… Странно, почему она этого не сделала?
– Нельзя безнаказанно убивать фараона, твоё величество. Но ты нарушаешь все мои предписания и советы. Я говорю тебе – изгони эти мысли из своего сердца! Кто враги тебе? Только ханаанеи, митаннийцы, кушиты. А во дворце их больше нет.
– Ты уверен?
Жрец ответил твёрдо:
– Уверен.
– А царица Нефрура? Разве она не помнит, что мать и её приказывала изображать фараоном, сулила ей свою судьбу? Что, если…
– Твоё величество!
Тутмос рассмеялся, увидев умоляющий жест Джосеркара-сенеба.
– Хорошо, хорошо… В конце концов все твои советы оказываются полезными, божественный отец. Я знаю, за моей спиной много раз говорили, что я глупец. Но хотя бы в одном уподоблюсь Птахотепу: буду слушаться мудрых советов. Клянусь тебе, одной ногой я уже вступил в царство сна! И – ни одной мысли о Мегиддо! Сердце спит…
* * *
На исходе седьмого месяца осады ворота Мегиддо распахнулись с тяжёлым звуком, похожим на стон, и воины Кемет вошли в город, за стеной которого таилась тысяча городов. Это был грозный разлив, несущий смерть, а не животворную влагу, он захлестнул город, утопил в огне его стены и башни, в его пучине погибли те, кто был обессилен голодом и жаждой и не мог выбраться из-под развалин домов. Фараон приказал забросать землёй не слишком высоко поднявшееся пламя и пощадить то, что ещё можно было спасти, на этот раз предоставив воинам полную свободу грабить всё, что придётся им по нраву: он и так видел, что богатства Мегиддо очень велики и способны наполнить собою не одну царскую казну. Больше, чем богатство, его занимало иное – победа над спесивым Ханааном, который, несомненно, почувствовал себя сильным лишь благодаря поддержке могущественного Митанни, проклятой змеи… Его величество Тутмос III милостиво принял детей ханаанских правителей, нагруженных серебром и золотом, подобно вьючным животным. Он пожелал, чтобы покаянные дары своих родителей они несли на спине. И они шли покорно, склонив чернокудрые головы с золотыми диадемами, шли, пряча слёзы, в уголках воспалённых от знойного ветра, измученных бессонными ночами глаз. Они склонялись перед фараоном или просто падали от усталости, глотая сухую горячую пыль, которая была всё-таки вкуснее хлеба, дарованного милостью победителя. Кое-кто добавлял к родительской дани собственные золотые и серебряные ожерелья, перстни, браслеты, тоже запылённые, потерявшие свой блеск. Вышитые причудливыми узорами одежды, истрёпанные и потемневшие от пота, не скрывали худобы полудетских мальчишеских тел, жалостно выпирающих рёбер, смешной тонкости вялых рук с острыми локтями, острых ключиц. Семь месяцев осады прошлись и по лицам этих некогда гордых царевичей, как семь лет по лицам стариков, запечатлев на них подобие морщин, тёмные тени под впалыми глазами. Печальный караван шёл безостановочно, тяжело. Казалось, что дети, принуждённые нести к ногам фараона позор своих отцов, несли в себе такую громаду горя, что именно она, а не тяжесть проклятой дани, пригибала их к земле и каждый миг могла взорваться диким воплем животного страдания, бессильной боли могучего льва, лишённого когтей и запертого в царском зверинце. Они хранили безмолвие, но кричали тёмными, словно обугленными зрачками, своей согбенной худобой, тяжёлой стариковской поступью стройных ног. Не нарушал безмолвия и фараон, которому памятен был позор первой битвы, загнавшей ханаанеев за стены Мегиддо, вынудившей его прибегнуть к изнурительной семимесячной осаде. Теперь и город стал его военной добычей, со всем его богатством, с огромным запасом золота и драгоценных камней, которые не могли ни исцелить, ни накормить осаждённых.
Тутмос чувствовал, что долгая осада не послужила к его славе могучего завоевателя, ведь оружием его в этой борьбе стали болезни и голод, всё это время копья и стрелы его воинов оставались без всякого дела. Мелкие стычки с кочевниками не были даже мало-мальски полезным военным упражнением, воины лениво натягивали луки, не заботясь о меткости, ибо никто не собирался сопротивляться, смуглолицые шасу спасались, как могли, беспорядочным бегством. Кому не была понятна участь обречённого Мегиддо? Тутмос высматривал в толпе царевичей наследника Кидши, сына вдохновителя союза ханаанских царств против Кемет. И не мог найти, хотя и напрягал до боли глаза. Ему донесли – почтительным шёпотом, почти с грустью – что наследник Кидши умер от чёрной лихорадки на третьем месяце осады. Тень улыбки скользнула по твёрдым губам Тутмоса, но в ней было больше сожаления, чем торжества, и военачальники, стоявшие рядом с фараоном, поняли это. А нескончаемый поток добровольных пленников всё тёк и тёк, огибая шатры, нёс окроплённое слезами золото к подножию трона Кемет, и лицо фараона выражало уже не торжество, а бесконечную скуку. Тутмос III велел передать правителям Ханаана, что желает видеть их и что они могут рассчитывать на его милость, какую – не сказал, но военачальники знали, что фараон собирается оставить всё как есть, унизив правителей новым поставлением на царство – жезлом Великого Дома. Это было мудро и дальновидно в какой-то степени, хотя фараон и принял решение наспех, облачаясь в церемониальный наряд перед приёмом ханаанской дани. Велик тот, кто принимает великие решения, пока хранитель царских одежд застёгивает пряжку на его поясе! Назавтра предстояла эта печальная церемония, теперь же, насладившись понурым видом ханаанских царевичей, фараон пожелал развлечься в обществе приближённых военачальников и красивых пленниц, одна из которых, гибкая, с чуть раскосыми весёлыми глазами, успела очаровать Тутмоса всего за одну ночь и краткий розовый рассвет. Фараон был настолько щедр, что даже начальнику своих телохранителей предоставил на выбор несколько пленниц, из числа самых лучших. Рамери взял за руку первую, которая взглянула па него с улыбкой, и фараон со смехом одобрил его выбор, заявив, что это – одна из звёзд, упавших прямо на порог его шатра с тёмного, густого ханаанского неба. Девушка была дочерью правителя Хеброна и близка Рамери по крови, она смотрела на него без страха и, как только они остались вдвоём, заговорила с ним на одном из хурритских наречий, слова которого казались Рамери знакомыми, но будто услышанными в давнем сне.
– Скажи, как твоё имя? Лицом ты не похож на всех этих людей, да и волосы у тебя причёсаны так, как это делают в Ханаане. У тебя смуглая кожа, похожая на мою… Скажи, может быть, ты родом из Ханаана?
Он ответил ей на языке Кемет:
– Я плохо понимаю тебя. Если не знаешь моего языка, говори на аккадском.
– Твоего языка? Уж не родился ли ты в самой Нэ? – насмешливо сказала девушка на плохом аккадском языке, который, должно быть, выучила при дворе своего отца – её учителя явно были хуже мудрых учителей Рамери. – И имени своего ты не скажешь?
– Меня зовут Рамери.
– И всегда так звали?
– Всегда.
– Значит, ты раб, – разочарованно сказала девушка, – и действительно родился в Кемет. Но ты победитель, и я должна подчиниться тебе.
Гордость внезапно вспыхнула в сердце Рамери подобно жертвенному пламени, неожиданно и грозно.
– Когда-то я был царевичем Хальпы, и ты не стала бы даже последней из моих жён! А теперь, когда я служу величайшему из богов и его божественному сыну, я выше того царевича, каким был раньше. Ты же – ничтожная женщина, только показавшаяся мне красивой и доброй. Отойди прочь, ты мне не нужна! Пусть тебя отдадут простым воинам, я же, начальник царских телохранителей, отказываюсь от тебя. Как ты смела счесть меня равным тебе по крови?
Девушка побледнела и нервно сжала руки, задыхаясь от обиды.
– Разве я могла подумать, что собака, которую хозяин пинает ногой и бьёт плетью, сочтёт себя превыше царевны? Ты, гордящийся тем, что пресмыкаешься в пыли, питающийся объедками со стола своего хозяина, ты собака, которую посадили на цепь, а после натравили на её же собратьев! Меня хотел взять военачальник Кемет, и жаль, что я не досталась ему, по крайней мере не осквернила бы себя, как сделала это сейчас, говоря с изменником! Ты, собака, забыла свой лай и теперь шипишь по-змеиному? Тебя научили этому жрецы в длинных одеждах, умеющие собак превращать в змей? Ну что же, разорви меня на клочки или ужаль, но я повторю, что ты изменник, ты хуже падали, хуже рыбьих отбросов, гниющих на солнце! Что же ты молчишь, сжимая рукоятку кинжала? Ударь меня им, и тогда, быть может, я замолчу…
– Я сделаю с тобой то, что должен был сделать, – тихо сказал Рамери, – но теперь сделаю это с яростью в сердце. За оскорбление заплатишь унижением, оно тебе будет больнее, чем удар кинжалом. И если я собака, то оставлю на твоём теле следы своих зубов и когтей…
Она лежала, кусая губы, сдерживая слёзы ярости и боли. Он оставил её, оделся, вышел из шатра. Звериная страсть, ярость, боль – всё отхлынуло, и осталось только опустошение, только сухая земля на сердце. С глазами было что-то неладно, казалось, что их царапает злой сухой ветер. Рамери шёл мимо шатров, в которых пировали военачальники, миновал царский шатёр, откуда доносился громкий смех Тутмоса и женский визг; судя по смеху, фараон был пьян. Кое-где у костров сидели воины, они тоже смеялись и пили вино, и мало кто из них обращал внимание на молчаливого начальника царских телохранителей, раба, которому обычно кланялись. Он остановился у одного из костров, где сидели простые воины, из них трое были кехеками[93]93
…из них трое были кехеками… – Кехеки – ливийские наёмники.
[Закрыть], один явно с примесью ханаанской крови – наследство хека-хасут, в изобилии доставшееся Кемет. Эти воины были ещё довольно трезвы и настроены доброжелательно, во всяком случае, не выказали никаких признаков неудовольствия или удивления, когда Рамери подсел к их костру. Они предложили ему выпить вина, и он не отказался, выпил всю чашу до дна. Вино было очень хорошее, тонкое – вероятно, из подвалов правителя Мегиддо.
– Тебе, господин, наскучил царский пир? – спросил один из ливийцев, подмигивая остальным. – Что за вино пьют в шатре его величества и какие там красавицы!
У одной, которая особенно понравилась его величеству, глаза так блестят, словно драгоценные камни, а волосы у неё чернее земли. Хотел бы я быть рабыней, чёрной мойщицей ног, чтобы касаться её кожи!
Воины одобрили шутку товарища громким смехом.
– Вовсе не цвета земли у неё волосы, – заметил другой ливиец, – они совсем как из лазурита, точно у богини. У ваших богинь ведь всегда лазуритовые волосы, верно, господин? Такая как раз под стать его величеству, сама словно рождена небом и солнцем. Но и та, что досталась тебе, господин, совсем не хуже, – угодливо заметил он, заглядывая в лицо Рамери.
– Жалею, что бросился обдирать золото с колесницы, – проворчал третий воин, тот самый, с лицом хека-хасут. – Рядом рыдала красавица в златотканой одежде, а тело у неё под одеждой, верно, тоже было золотое. Пей ещё, господин! Если уж ты оставил такую красавицу и пришёл к нам, верно, сделал уже с нею всё, что мог…
Воины захохотали, и Рамери, сдержавшись, тоже улыбнулся. Чего же было ещё ожидать от подвыпивших воинов, у которых на сердце только женщины, вино и грабёж! Он смутно чувствовал, что слишком много пьёт, но сухая земля терзала невыносимо, а от вина всё-таки становилось легче.
– Его величество, да будет он жив, цел и здоров, сперва очень гневался на тех, кто вернулся в лагерь с кувшинами и ларцами подмышкой, – заговорил ещё один воин, – военачальники велели отдать всё, но тут его величество смягчился, позволил нам взять то, что уже попало в наши руки, сказал, что это только начало и мы довольно жили бедняками при Хатшепсут, и так радовались наши сердца! Ведь при царице богато жили только военачальники, да пошлёт им великий Амон здоровья и процветания, а нам даже корок не доставалось с их стола. Теперь, говорят, всё будет иначе, и каждый воин получит раба или рабыню…
– Ну на что тебе раб, Хори? – вмешался один из ливийцев. – Положим, с рабыней ты кое-что сумеешь сделать, а на что тебе сдался раб? Если дадут тебе землю, справишься и своими руками, да и твоя Та-Бастет сильная и здоровая, как молодой бык.
– А ты откуда знаешь мою Та-Бастет?
Воины захохотали снова, на этот раз Рамери присоединился к ним. От вина у него уже порядком кружилась голова.
– Если после Мегиддо его величество объявит новый поход, пойду с радостным сердцем, – сказал Хори. – Амон был ко мне милостив, сохранил меня, когда полетела прямо на меня эта ханаанская колесница. У меня пятеро детей, им надоело есть лепёшки из лотоса, а теперь будет на что купить медовый пирог и жареного гуся. Хвала богам, что воистину взошёл на престол наш фараон Тутмос! Мой дед ходил в походы с его дедом, но тогда воинам мало что досталось.
– И мне теперь будет на что принести поминальные жертвы Ка моего отца, – сказал ещё один воин, самый молодой из всех сидящих у костра. – А если так пойдёт дело, моя мать пойдёт сватать красавицу Сит-Амон, что живёт по соседству. Правда, нельзя сказать, чтобы мы с нею не встречались в её саду под маленькой сикоморой, – воин многозначительно улыбнулся, – но сикомора вряд ли кому о том рассказала, а мне бы хотелось иметь её при себе постоянно, а не лазать через изгородь по ночам, когда её отец уезжает по делам в Мен-Нофер. Он у неё, видите ли, состоит торговцем при одном верховном жреце, важный человек…
– Да на то, что ты нахватал из рассыпанных сундуков, Пепи, отдадут тебе разве что кошку твоей красавицы!
Пепи нахмурился.
– Я и говорю: «если так пойдёт дело». Не сейчас! Вот пойду в следующий поход, а там ещё и ещё…
– А если, Пепи, следующий поход будет через три года, а? Дождётся тебя твоя красавица?
– Ну уж нет! – решительно возразил Пепи. – Кончились времена Хатшепсут, фараон не будет сидеть во дворце в Нэ, ласкаясь с царицей. Видели, каков он был под Мегиддо? Верно, сам Хор-воитель ему бы позавидовал! Слыхали, когда приказал окружить Мегиддо деревянной изгородью, сам схватил топор, стал рубить смоковницу? Он и на вёслах может пройти десять потоков[94]94
…может пройти десять потоков… – Поток – древнеегипетская мера длины, около двух километров.
[Закрыть], когда все другие гребцы свалятся от усталости. Жаль только, что долго он дожидался своего часа, да и мы вместе с ним. Не было бы женщины на престоле, Сит-Амон была бы уже моя.
– Хватит языком трепать, облезлые гиппопотамы! – оборвал веселье пожилой воин, подозрительно покосившись на Рамери. – Хорошо ли господину слушать вашу болтовню? Видите, его чаша пуста, да и молчит он всё время. Может, у него своя забота…
– У господина-то, который состоит начальником царских телохранителей и находится при его величестве постоянно? – изумился Пепи. – Какая у него может быть забота?
Все посмотрели на Рамери, как будто ожидали от него ответа, но он молчал, опустив голову на грудь.
– И у богатого господина может умереть отец, могут заболеть дети, – тихо сказал старый воин. – Все люди рождаются нагими и все уходят в Страну Заката, и оттого, что у него на руках золотые браслеты, печаль, такая же, как у всех людей, не минует его сердца. У человека, живущего в высоком доме, и забота выше, чем твоя в твоей глинобитной лачуге. Налей ему ещё вина, Хори!
– Он уже пьян, – сказал Пепи.
– Он для того и пьёт, чтобы быть пьяным, а не для того, чтобы слушать про дочку торговца, твою девку, с которой ты валяешься под своей проклятой сикоморой, чтоб она сгнила и свалилась на вас! – разозлился старик. – Дай ему вина и не рассуждай! Господин, – обратился он к Рамери, – ты прости их, они простые, грубые люди. Пей вино во славу богини Хатхор, владычицы радости и веселья, пей и ни о чём не думай, потому что твоя забота, оставшись без корма, улетит от тебя сама. Сегодня пьёт вино и его величество, да будет он жив, цел и здоров, пьём и мы, простые люди, потому что празднуем победу Кемет над тремя сотнями ханаанских правителей…
– Ты поосторожнее, Усеркаф, – шепнул Хори, – он сам из ханаанеев, говорят, пленный царевич…. Может, ему это неприятно слышать!
– Кого воспитывают жрецы, тот уже ничего не помнит, – тоже шёпотом возразил Усеркаф, – это ты его оскорбишь, если назовёшь ханаанеем. Вот погляди, что я сделаю. Выпьем, господин, за победу над Ханааном со всеми его правителями, за разрушенные стены всех городов! – возвысил он голос, подмигивая остальным. – Выпьем во славу великого Амона, величайшего из богов!








