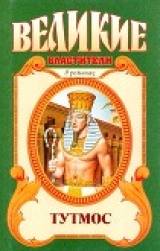
Текст книги "Тутмос"
Автор книги: В. Василевская
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 26 страниц)
Поход, начавшийся столь неудачно, был завершён стремительно и победоносно, с лёгкостью, которая не снилась сокрушителю Мегиддо. Ему не пришлось самому вступать в битву, военачальники начали дело, воины довершили остальное. Болезни, мучительное утомление, жажда – всё было забыто, когда утихло дыхание Сетха, когда выстроились в ряд грозные колесницы, когда лучники попробовали крепость луков и остроту своих стрел. Теперь Тутмос зорко следил за тем, чтобы жадность не погубила плодов его стремительных атак, да и военачальники были научены опытом Мегиддо. Добыча разорённых царств была невелика по сравнению с той, что была захвачена в Мегиддо и окрестных городах, но хороши были резные серебряные кубки, которыми славилось одно из царств, хороши и кони – сильные, великолепно обученные. Среди пленниц не было особенно красивых, но была одна, поражавшая гибкостью и красотой стана, она оказалась искусной танцовщицей, тело её и на ложе было телом танцовщицы, и от этого у Тутмоса слегка покруживалась голова – приятно. Военачальники тоже были довольны, руки их не остались пустыми. Полушутя, как во время военных парадов, были захвачены ещё несколько мелких городов, жители одного из них даже не сопротивлялись, сразу выслали к Тутмосу-воителю царских детей с богатыми дарами. Отправив в Нэ гонца с донесениями и с частью даров Амону, Тутмос захотел поразвлечься, велел устроить охоту в пустыне. Во время охоты был свиреп и удачлив, щедро одарил особенно искусных охотников, среди которых оказался всё тот же Аменемхеб, воин. Рамери смотрел слегка ревниво на простого воина, которому повезло, Джосеркара-сенеб заметил это, но только лёгкой полуулыбкой дал знать, что заметил. Теперь у них было время для разговоров – удачный поход оказался целительным для войска, больных было мало, и только десятка два легкораненых. Тутмос больше не нуждался в беседах со жрецом, после вынужденного бездействия он буйно предавался развлечениям, сердце его было глухо ко всякой премудрости, в том числе и божественной. А Рамери ждал, ждал всем существом заветных часов, когда начальнику царских телохранителей дозволялось предаться блаженному сну, поручив охрану его величества наиболее преданным воинам. Снова, как в детстве, он тянулся к учителю, задавал ему вопросы, но теперь случалось так, что иной раз он переспрашивал, а порой спорил с Джосеркара-сенебом, почтительно, как всегда, но не менее горячо, чем в тот день, когда встретился с Раннаи в доме её отца. Словно заноза жила в сердце, не давая дышать так вольно, как раньше, давала о себе знать всякий раз, когда слуха касалось слово «бак» – раб. И ещё мучили сны, в которых перед очами спящего Ба вставал царский дворец в Хальпе, обугленные стены, языки пламени, окружающие со всех сторон; во сне Рамери слышал вопли женщин, звон оружия, откуда-то издалека доносился отчаянный крик матери на почти забытом, почти незнакомом языке: «Спасите царевича, спасите моего сына!» Он видел ярко-синий осколок неба – единственное, что было у него связано с Хальпой, видел лазурь, пробившуюся сквозь чёрные клубы дыма, и осколок небесной синевы вонзался в глаза, поил взгляд непонятной печалью, смутным ощущением давнего горя. Тот воин, который захватил его в плен, который скрутил ему руки за спиной – может быть, сам он, постаревший, или его сыновья служат в войске Тутмоса? Почти против его воли всплывали в памяти имена, слова на родном языке, и всё чаще назойливо звучало: «Араттарна, Араттарна, Араттарна», словно кто-то, злой и невидимый, постоянно стоял за спиной и звал тихо, но неустанно. В Кемет его называла так только одна женщина, которую он любил, его прекрасная Раннаи, с которой он так и не увиделся во время краткого отдыха в столице – она жила в поместье своего мужа в дельте и даже не приехала повидаться с отцом. Была ли она нездорова или Хапу-сенеб держал её взаперти, не знал никто, даже Инени, который уже стал старшим жрецом Амона и нередко бывал по делам своего храма в дельте. Иногда к Рамери приходила мысль о том, что Раннаи избегает встреч с ним, от этого делалось горько, но другая мысль приходила и уничтожала первую – ничто не могло заставить её разлюбить отца, только разлучить с ним могла людская злая воля. Невыносима была сама мысль, что он может больше не увидеть Раннаи, не говоря уже о том, что даже смерть Хапу-сенеба не могла бы соединить их – он был рабом, она – знатной госпожой; пленников, таких, как он, не отпускали на свободу. Великая победа или любовь могли бы внушить фараону счастливую мысль о даровании свободы начальнику своих телохранителей, но разве он задумывался над участью бывшего царевича, которого можно было легко хлестнуть по лицу веером или плетью? Не только цепи, которые ощущал на себе Рамери, томили его – была ещё тоска, более сильная, чем любовная, тоска без имени, ставшая в последнее время его воздухом и пищей. Он смутно помнил те слова, которые сказала ему пленная ханаанеянка в лагере при Мегиддо, помнил только боль от этих булавочных уколов, со стыдом вспоминал свою ярость и свою грубую страсть, вино, выпитое без меры у костра простых воинов и своё пробуждение наутро в шатре, куда он попал неизвестными путями, которых не мог припомнить. Не с той ли ночи тоска вошла в него и окружила плотным кольцом, сделав своим рабом более, чем сам он был рабом фараона? Он хотел рассказать об этом Джосеркара-сенебу – и не мог. Он видел, что и жреца терзает какая-то печаль, мог догадаться о её причине, но страшно было разомкнуть уста – расскажи он о тоске, непременно всплыло бы имя «Араттарна», а за ним и та, что произносила его, преступная жена верховного жреца, любимая дочь, далёкая возлюбленная. Нет, говорить нельзя было…. И молчать больше не было сил. Рамери подумал однажды, что хорошо было бы пригвоздить себя копьём к стене, чтобы тело не рвалось к учителю, чтобы поселилась в теле боль, тягучая и изматывающая, стирающая с сердца все мысли, такая боль, которая бывает спутницей даже небольших ран. И ещё мелькнула однажды мысль, что спасение сулят воды Хапи – глубокие и тёмные, никогда не выдающие своих тайн. Но мысль о том, что воды лишат его тело погребения, отдадут его на корм слугам Себека, была так страшна, что он почувствовал себя преступником, восстающим против воли богов, вдохнувших в него жизнь. И потом, если Раннаи не может принадлежать ему на земле, кто знает, может быть, она соединится с ним в загробном царстве?..
…Они стояли под звёздным небом, в нескольких шагах от царского шатра, неподалёку догорал костёр. Здесь, в пустынном краю, не было ночных птиц, их голоса заменяли звуки военного лагеря – приглушённые голоса и смех воинов, пофыркивание коней, переклички дозорных. А вверху, в небе, была тишина, манившая к себе, как глубь реки, далёкая и мирная, несокрушимая. И казалось, можно было ощутить всей кожей пространство, отделяющее небо от земли, проникнуть в суть этой беспощадной пустоты, разделившей Геба и Нут, стоило только запрокинуть голову и закрыть глаза на миг. Именно это и сделал Рамери, наслаждаясь мгновениями кажущегося покоя – даже тоска, казалось, разомкнула кольцо, крылья невидимых птиц затрепетали возле самого сердца. Джосеркара-сенеб пристально взглянул на воина, губы его приоткрылись, словно он собирался заговорить, но только лёгкий вздох сорвался с них, камнем запечатав готовое родиться слово. Неожиданно Рамери опустился на колени у ног жреца, порывисто схватил его руку, прижал к своему сердцу. Он сделал это так, словно они были совсем одни, словно их не могли увидеть воины, сидящие у костров, словно тишина звёздного неба окутала учителя и ученика и сделала их бесплотными и невидимыми. Джосеркара-сенеб улыбнулся, как всегда, мягко и серьёзно. Рамери не поднимал головы, и его голос прозвучал приглушённо:
– Учитель, ты позволишь мне сказать всё, что на сердце?
– Разве мы оба так изменились, Рамери?
Невольный упрёк коснулся самой болезненной раны Рамери.
– Ты видишь сам, учитель, что я изменился, ты знаешь это не хуже меня. Я знаю, я должен был заговорить раньше, но не мог и боюсь, что не всё смогу сказать и сейчас… Но ведь ты поможешь мне?
– Да, мальчик. Встань, я хочу видеть твои глаза.
Рамери послушно поднялся, лицо его теперь было освещено бледными звёздными лучами и слабыми отсветами догорающего пламени.
– Мы много говорили с тобой в последнее время, учитель, и всё же я не сказал тебе ни единого слова, которое должен был сказать. Мне нужно было видеть тебя, слышать твой голос, ибо ты – единственное, что есть у меня, сокровище моё и награда, ты словно остров, поднявшийся из пучины вод, и я опять ищу спасения, прибегая к тебе. Однажды, учитель, я решил убить себя… Не спрашивай, как пришла ко мне эта мысль, как завладела моим сердцем, но я уже держал в руке меч, я был готов свершить казнь над собой, чья жизнь так недорого стоит.
Должно быть, великий Амон внушил мне, что я должен хотя бы увидеть тебя перед смертью. Я пошёл к твоему шатру, твой раб Техенну сказал мне, что ты нездоров и рано лёг спать. Я обещал, что не потревожу тебя, и вошёл в шатёр. Ты спал, сквозь щель в завесе шатра пробивался лунный свет, и он упал на твоё лицо в тот миг, когда я опустился на колени у твоего ложа. Не знаю, что со мной случилось, но я не мог отвести взгляда от твоего лица, смотрел и смотрел не отрываясь и просидел так до рассвета. И когда я ушёл, мне уже не захотелось совершать того, о чём я думал. Ты спас мне жизнь, учитель – уже второй раз…
– Когда же это было, Рамери?
– Ещё под Мегиддо.
– Я не знал.
– Я долго скрывал это от тебя, и это у меня получилось, как видишь.
Жрец укоризненно покачал головой.
– Неужели ты забыл все мои слова, забыл, что жизнь – величайший дар, который у нас позволено отнять только давшему её божеству? И что случилось с тобой, если ты готов был пронзить себя мечом? Почему не пришёл ко мне, почему не рассказал? Я видел, как льнул ты ко мне в последнее время, видел, что ты таишься от меня, и мне было больно.
– Больно, учитель? Я причинил тебе боль?
– Да, Рамери. Как ребёнок. Дети всегда больнее всех ранят наши сердца. Но ты искупишь свою вину, если расскажешь мне всё. Клянусь священным именем Амона, я выслушаю тебя до конца, что бы ты ни поведал мне. Ты ещё можешь это сделать? Можешь? – Жрец ласково погладил воина по щеке, и тот вздрогнул, как от боли. – Говори, мальчик! Если хочешь, пойдём в мой шатёр.
– Нет… Я спрошу тебя, учитель, – что со мной происходит? Ба рвётся на части, и так больно внутри, словно четыре раскалённых кинжала вонзились в сердце. Иногда я задыхаюсь от тоски, и мне хочется разбить свою голову о каменную стену, иногда и сам чувствую, как превращаюсь в камень, только этот камень может плакать. Я по-прежнему люблю великого Амона, но теперь всё чаще и чаще ко мне приходит мысль, что владыка богов не может считать меня своим истинным рабом, ибо я чужой крови. Кровь эта была во мне спящей змеёй, теперь открыла глаза и грозит мне постоянно, и терзает мою грудь. Кто я? Я давно не спрашивал себя об этом. Скажи мне теперь ты, кто я – один из тех, кому по праву надлежало бы плестись по пескам вслед за всеми этими несчастными правителями, или тот, кому надлежит подгонять их копьём?
Джосеркара-сенеб долго молчал, прежде чем ответить. Костер уже догорел, вблизи шатра потемнело, но даже в темноте было видно, как блестят взволнованные глаза Рамери – глаза ученика, ждущего ответа.
– Я скажу тебе только одно, мальчик: если твоё сердце приказывает тебе поднять меч на тех, кого ты любишь, сделай то, что хотел сделать ночью в лагере под Мегиддо, или беги в пустыню, чтобы солнце сожгло тебя. Нет ничего хуже предательства, нет ничего страшнее измены, а путь к ней лежит через сомнения. Если любовь к великому богу и его возлюбленному сыну угасает в твоём сердце, мне было бы легче увидеть тебя мёртвым, хотя я и люблю тебя, как сына. Я не верю голосу твоей ханаанской крови, я верил, что ты предан своему долгу и чист сердцем. И если ты обманул моё доверие…
Рамери в отчаянии сжал голову обеими руками.
– Нет, божественный отец, нет, нет, отец мой! Ты знаешь, у меня нет другого отца! Пощади меня, спаси, спаси от меня самого, без тебя я не справлюсь, без тебя не будет легче броситься в воды Хапи или повиснуть на мече, как правитель Кидши; если ты оставишь меня, кончится моя жизнь!
– Двадцать лет его величество жил под скипетром Хатшепсут, ненавидевшей и боявшейся его, и двадцать лет ты стоял у его ложа, готовый отразить предательский удар. Даже в ночь после битвы у Мегиддо фараон спал, доверив свою жизнь хурриту, стоявшему у его ложа, вооружённому мечом. А ведь ты мог бы вонзить этот меч в его горло, как когда-то сделали телохранители Аменемхета I, мог бы избавить от позора и унижения своих соотечественников. Отчего же ты этого не сделал?
Одни прокляли бы тебя и предали страшной казни, другие вознесли бы тебя и считали героем, но и те и другие боги отвернулись бы от тебя, ибо ни одно доброе, ни одно великое дело не может начаться с предательства. Я сказал тебе всё, Рамери. Или ты предпочитаешь, чтобы я назвал тебя твоим ханаанским именем?
– Отец мой!
– Довольно. Бывает, что дети предают и собственных отцов… Я уйду в свой шатёр. И если завтра тебя найдут мёртвым, я буду знать, что ты не захотел совершать предательства и убил в себе сомнения, не в силах справиться с ними. Если же ты будешь жить, не будет у фараона слуги надёжнее тебя.
Жрец высвободил руку из судорожно сжавшей её руки Рамери и пошёл в сторону своего шатра, спокойный, как обычно. Только походка его была походкой очень усталого и как-то враз постаревшего человека, крепившегося, чтобы не выдать своих чувств, жестокого, чтобы не показать своих страданий. Он шёл медленно и ни разу не обернулся, и Рамери тоже ни разу не взглянул ему вслед. Только, отняв ладони от лица, положил руку на меч, висевший у пояса.
* * *
Военачальники стояли плечом к плечу, крепкие, неподвижные, будто выстроенное к битве войско, всё – в панцирях, без умащений и украшений. Казалось, не только взгляд, но даже рука фараона не в состоянии сдвинуть их с места – так грозно стояли они, будто вросли в землю. И всё же, когда Тутмос встал со своего кресла, они невольно, почти неуловимо подались назад, слегка склонили головы. Фараон стоял перед ними – низкорослый, с грубоватым лицом, чёрным от загара, и его слегка прищуренные глаза смотрели спокойно, только чуть-чуть усмехаясь. По своей привычке он скрестил на груди руки и – ждал. Когда военачальники вошли в его шатёр и пали ниц, он нетерпеливо повелел им подняться, и они поднялись, встали стеной, крепостью, которая защищала – он сразу почувствовал это – что-то недоброе. Однако он медлил, не начинал разговора, с лёгкой усмешкой следил за тем, как нервно подрагивают скулы Дхаути, как напряжены мускулы Себек-хотепа, как сдерживает дыхание могучий Хети. Он рассчитывал на то, что выкормыши Хатшепсут, попробовав на вкус настоящей войны и настоящей победы, превратятся в стадо послушных овец, но, видимо, ошибся – овцы всё ещё казались львами, а в глубине его груди всё ещё копошилось неприятное чувство, похожее на тревогу и беспокойство, как было это все двадцать лет его жизни под скипетром Хатшепсут и под угрозой предательского удара в спину. До сих пор его передёргивало, когда кто-нибудь, кроме Рамери, хотя бы на мгновение оказывался у него за спиной, и Тутмос ненавидел себя за это чувство, слишком напоминающее страх. Но вот теперь они стоят перед ним лицом к лицу, а неприятное чувство не проходит, как будто за спиной невидимая рука изготовилась нанести тот самый, двадцать лет грозящий обрушиться удар. Фараон переступил с ноги на ногу, кончиком языка коснулся сухих губ, прикинул, достаточно ли твёрдым будет его голос, если он заговорит. И сказал, глядя прямо в лица военачальников, отмечая про себя каждое движение их бровей, губ и глаз:
– Что привело вас ко мне, Себек-хотеп, Хети, Дхаути?
Себек-хотеп выступил вперёд, как и должно было быть, на мгновение прижал руку к груди, к сердцу, словно бы оно билось слишком сильно и могло помешать говорить.
– Твоё величество, да будешь ты жив, цел и здоров, если тебе угодно склонить свой слух к нашим речам, позволь сказать мне, недостойному…
– Позволяю.
– Твоё величество, вот мы вернулись из-под стен Мегиддо, вот мы опять, по слову твоему, двинулись в Ханаан, вот взяты новые города, новые царства. Но силы воинов твоих не беспредельны, злое дыхание Сетха и так уже погубило многих. Куда двинемся мы дальше, твоё величество? Снова через пустыню, подставляя лица опаляющему ветру, теряя людей сотнями? Добыча наша обильна, наши пленники ждут, когда мы отправим их в Кемет. Но пройдёт время – и некого будет вести, ибо кости их будут засыпаны песками и скрыты от людских глаз.
– Отчего же пленники ещё не отправлены в Кемет? – грозно спросил Тутмос.
– Да будет позволено ответить тебе, твоё величество, сколь бы дерзким ни показался мой ответ, – для того чтобы сопровождать пленников, нужно много сильных и зорких воинов, а отпустив их, мы ослабим войско.
– Неужели для охраны этих тощих кляч нужно так много воинов?
– Ты не знаешь, сколь хитры и коварны ханаанеи, твоё величество. Бывало, что один из них затевал драку со своим соседом, а когда стражники подбегали к ним, чтобы разнять, вся толпа пленников набрасывалась на них и забивала насмерть своими цепями. Бывало и так, что они перегрызали горло воину, поднявшему на них плеть, хотя руки их были скручены за спиной. Заболев чёрной лихорадкой, они пропитывали заражённой слюной обрывки своих одежд и бросали их в лица воинов, которые копьями пытались отогнать больных от остального отряда. У них много хитростей, твоё величество, а воины дороги нам, ибо никто не знает, не окажется ли завтра на нашем пути войско, подобное тому, что ждало нас у стен Мегиддо.
– Ты боишься, Себек-хотеп?
Военачальник снёс оскорбление не дрогнув.
– Да, твоё величество, в груди моей живёт страх за тебя, страх за Кемет.
– И что же ты предлагаешь?
– Если будет позволено мне сказать, я скажу, что нужно возвращаться в Кемет, вести войско назад, к великим пирамидам. На следующий год, отдохнув и набрав новых воинов, мы можем снова отправиться в земли Ханаана. Но теперь…
– На следующий год? Ты так сказал, Себек-хотеп?
– Да, твоё величество, я сказал так. С нашей богатой добычей мы войдём со славой в столицу великого Лиона, мы сможем принести ему щедрые жертвы и испросить удачи для следующего похода. К тому же, твоё величество, наступает время, когда мы уже не сможем кормить лошадей тем, что растёт у них под ногами. И тогда…
– И тогда ханаанеи превратят нас в измочаленные стебли папируса, так, Себек-хотеп?
– Твоё величество, я этого не сказал…
– Не сказал? – Глаза фараона были совсем близко от лица военачальника, и они были страшны, хотя владыка мира смотрел на Себек-хотепа снизу-вверх. – Что же говорил ты мне всё это время? Ты думаешь, что великому Амону будет достаточно тех жалких отбросов, которые ты называешь богатой добычей? Ты думаешь, что царь богов удовлетворится тощими девками с болтающимися грудями, древними стариками с глазами, залитыми гноем? А тот скот, который ты собираешься пригнать в Нэ, – это стада белоснежных коров, обещанных Амону? Скажи только одно, Себек-хотеп: ты трусишь, ты соскучился по мягкому ложу, по благовонному маслу, по своим наложницам, и я поверю тебе. Вы привыкли прохлаждаться в своих домах, слушая сладкие речи женщины, не ведающей, что такое мощь и величие Кемет. Она пела вам об отдыхе, а вам не от чего было отдыхать! Теперь вы уговариваете меня уподобиться вам, трусливым женщинам! За меньшую дерзость, чем эта, я мог бы казнить всех вас, и того, кто говорит, и тех, кто молчит! Не ваши ли воины, вверенные вам, покрыли себя позором под Мегиддо? Вы хотели, чтобы ваш позор стал моим, но я скорее отрублю уши и носы всем вам, чем допущу это! Земной отец мой Тутмос, в котором пребывал Амон, велел мне идти не оглядываясь, и я исполню волю его, а не вашу, трусливые рабы! – Тутмос в ярости схватил плеть, её концы со свистом рассекли воздух. – Хотите, чтобы я погнал вас палками в пустыню, как простых воинов? И после этого вы осмелитесь ещё уговаривать меня вернуться в Нэ?
Плеть рассекла воздух совсем близко от лица молодого Дхаути, и военачальник не выдержал – бросился наземь, ткнулся лицом в землю. И тотчас же пали ниц Себек-хотеп и Хети и лежали неподвижно, будто сметённые вихрем, так же неподвижно, как стояли незадолго до этого. Фараон бросил плеть; не глядя, она коснулась, будто умышленно, согнутой спины Себек-хотепа, осмелившегося произнести дерзкие речи. Военачальник вздрогнул, пальцы его рук заскребли по земле, Тутмос усмехнулся, чувствуя, как постепенно откатывает от сердца внезапно налетевший гнев. И сказал почти спокойно, обращаясь к поверженным рабам его воли:
– Поднимитесь!
Они поднялись, жалкие, уничтоженные. Не ожидали столь быстрого и позорного поражения, не знали, что грубая брань фараона, его гневная вспышка так подействуют на них, так быстро отнимут у них силы. Поистине, он был богом, этот низкорослый человек, богом со своей несокрушимой волей, которую изъявлял не словами, а взглядом, тугим перекатом напрягшихся мышц, резким охлестом плети. И если военачальники и могли сейчас припомнить молчаливого и казавшегося покорным Тутмоса-полуфараона, властителя без прав, то только так, как припоминают болезненное видение, полуявь, полубред. Неужели могучий лев мог столько лет спать, вобрав когти в мягкие подушечки грозных лап? И в каком страхе должна была жить Хатшепсут рядом с этим запертым в клетке, но живым и свирепым зверем!
– Однажды вы уже посоветовали мне быть осторожным и трусливо последовать указанной вами тропой. Тогда я не послушался вас, ибо слышал голос моего отца, приказывающий мне идти вперёд. И после, в моём шатре, вы пытались оправдаться, зная мою победу. Я думал, что Мегиддо научил вас многому… – Тутмос нахмурился, упоминание о Мегиддо и у него вызывало неприятные воспоминания. – Запомните только одно: моё величество будет неуклонно следовать по пути, предначертанному великим Амоном, и ничто на свете не заставит его свернуть с избранного пути. Когда вы поймёте это, вы научитесь повиноваться не плети моей, но единому взгляду, приказывающему вам сдвинуть с места горы, перейти вброд Тростниковое море. А теперь… – Фараон сделал знак, слуга мгновенно поднёс ему шкатулку из слоновой кости, украшенную золотом. – Этим ожерельем, Себек-хотеп, я хотел украсить твою грудь. Видишь, какое оно тяжёлое, как много в нём золота? Оно и теперь будет принадлежать тебе, только не из моих рук ты примешь его, а из рук моего раба. Возьми его, Рамери, и передай военачальнику Себек-хотепу, опытному в боях и храброму, как лев. Что же ты медлишь, отважный? Бери!
Склонив голову, Себек-хотеп принял ожерелье из рук Рамери, раба, стараясь не коснуться их. На широкой ладони хуррита ожерелье не выглядело таким уж тяжёлым. Рамери не смотрел на военачальника – они были братьями в унижении, его тоже хлестнули по лицу коротким словом «бак» – раб. Он вспомнил, как впервые услышал это слово, его произнесли уста Джосеркара-сенеба, когда жрец привёл пятнадцатилетнего Араттарну во дворец и велел пасть ниц перед низкорослым, некрасивым юношей в царских одеждах. Тогда кровь тоже бросилась в лицо ханаанского царевича, но тогда не было ещё Раннаи, которую это слово отделяло от него навсегда несокрушимой, непроглядной стеной. Он был рабом по имени, но не по крови, и кровь возмутилась, грозя сокрушить своим биением голубую хрупкость вен. Что же произошло с ним, если стало так обжигать привычное слово «раб»? Ища помощи, Рамери оглянулся на учителя, но Джосеркара-сенеб сидел, опустив голову, словно и сквозь него прошла грозная стрела, пригвоздившая пленного ханаанского царевича к безнадёжности. Себек-хотеп надел ожерелье, но было видно, что оно обжигает его грудь, как раскалённое дыхание Сетха, что блеск красноватого золота подобен для него блеску и ярости действительного огня, способного уничтожить его тело или по крайней мере причинить жгучую боль. Счастливы были Дхаути и Хети, не получившие подобного дара! Но они стояли, опустив глаза.
– Теперь идите! Через три дня моё величество двинется дальше, в глубь Ханаана, и горе тому воину, чьи ноги ослабеют в этом походе, чьё тело запросит отдыха и сладкой пищи. Пусть эти три дня пешие воины учатся стрелять в цель, а колесничие – разворачивать колесницы на полном ходу. О больных и раненых доложите божественному отцу Джосеркара-сенебу и его помощникам, о запасах еды и питья справьтесь у хранителя походной казны Хеви. Довольно. Я всё сказал!
Военачальники снова пали ниц и ползком, пятясь, покинули царский шатёр. Тутмос проводил их насмешливым взглядом, но, когда Себек-хотеп, Дхаути и Хети исчезли, с облегчением сжал и снова расправил слегка вздрагивающие пальцы. Эта быстрая победа стоила ему немалых сил, и он мгновенно почувствовал, как остатки их покидают его. Скользнув утомлённым взглядом по лицу Рамери, Тутмос заметил, что хуррит смертельно бледен, но не придал значения такой мелочи и лишь сделал рукой знак, что отпускает Рамери, что место у его ложа могут занять другие, тоже верные и надёжные, но не такие божественно, непреклонно всесильные, как начальник царских телохранителей. Сердце у Тутмоса билось слишком сильно, он с досадой подумал, что придётся снова глотать неприятное на вкус питьё, приготовленное Джосеркара-сенебом. До сих пор он не научился успокаивать своё буйное сердце, а ведь это необходимо, если он собирается править много лет. Сколько уже времени потеряно даром! Сколько времени похитила у него Хатшепсут – за него не расплатиться и вечностью! Как всегда, при мысли о Хатшепсут, невольно сжались зубы.
– Божественный отец, скажи, что делать, когда один человек не даёт покоя?
– Живой или мёртвый, твоё величество?
– Мёртвый!
– Забудь о нём.
– Хотел бы – и не могу.
– Постоянно вспоминая его, ты сам даруешь ему жизнь, и не только в твоём сердце. Зачем же вспоминать мёртвого врага?
Неожиданная мысль, да к тому же ещё такая простая, поразила Тутмоса.
– А ведь ты прав, Джосеркара-сенеб! Кажется, теперь я знаю, как отогнать от себя воспоминания. Если ненавижу врага, то для чего же буду дарить ему жизнь каждый день? Она была права – я глупец, что до сих пор не подумал об этом.
Жрец устало улыбнулся.
– Твоё величество, прошлое не даёт тебе покоя, а ведь оно способно похитить у нас и настоящее и будущее. Постарайся изгладить его из своей памяти, как сделал ты с именами своих врагов. Это не так уж трудно, если ты будешь помнить то, что я тебе сказал.
– А так можно поступить с любым прошлым?
– Да, твоё величество. Можно забыть собственное имя, язык, на котором произнёс первые слова. Что же говорить о врагах!
Рамери поднял голову и встретился взглядом с Джосеркара-сенебом. Он был бледен, но глаза снова приобрели спокойную ясность. Чувствуя, что слова жреца обращены к нему, сердцем отзываясь на них, он был подобен туго натянутой тетиве большого лука, дереву, чьи израненные корни снова крепко вросли в землю.
– Что ж, последую твоему совету, тем более что прошлое уходит с людьми, ведь так? Те, кто окружали Хатшепсут, уходят, и даже моё величество своей волей не может их удержать. Я должен сказать тебе, божественный отец, нечто печальное для тебя, хотя моего сердца эта печаль не тронет. Ты слышал уже о смерти твоего родственника, мужа твоей дочери? Утром прибыл гонец из Нэ. Теперь я могу взять её в свой женский дом…
Ещё один томительный переход, и на пути снова крепость, с первого взгляда кажущаяся неприступной, сложенной из огромных обтёсанных глыб руками богов. Тутмос хмурился, стараясь не показать вида, как ему это неприятно. Осада Мегиддо стоила слишком дорого, да и то успех пришёл к нему только после того, как союзниками стали мор и голод. Что же на этот раз? Он снова собрал военачальников.
– Твоё величество, – сказал Себек-хотеп, – необходимо построить осадную стену, можно также засыпать песком канал, снабжающий город водой, но на всё это понадобится много времени.
Тутмос был нетерпелив.
– А если сделать это побыстрее?
– Твоё величество, это очень трудно….
– Может быть, ты ещё скажешь «невозможно»?
Себек-хотеп помнил гнев фараона и не желал раздражать его.
– Прости меня, твоё величество, но иного способа я не знаю.
– Вы вообще разучились воевать за время правления женщины и сами стали женщинами! На что нужны вы, если не знаете таких простых вещей? Почему хека-хасут умели брать крепости уже в то время, когда воины Кемет ещё не умели защищать их?
Вопрос был справедлив, и Себек-хотеп не мог не признать этого.
– Твоё величество, для осады нужно время и терпение, но скоро нам трудно будет добывать корм для лошадей.
– Опять ты за своё!
– Прости недостойного, твоё величество, больше я ничего не могу сказать.
Фараон сел, поигрывая плетью, хмуря брови. Допустить, что боги отвернулись от него на этот раз, что даже время года гонит его назад, в Кемет? Он не мог смириться с этой мыслью, даже если бы ему об этом сказали все верховные жрецы.
– Ты тоже ничего не можешь сказать, Хети? И ты, Дхаути?
– Нет, твоё величество.
– А если поджечь крепость?
– Вокруг много открытого места, к ней трудно будет подойти. А даже если удастся зажечь огонь, защитникам крепости будет легко погасить его.
– А если попробовать горящие стрелы?
– Лучники подвергнутся смертельной опасности, твоё величество.
– Воины на то и созданы, чтобы подвергаться смертельной опасности!
– Стрелы не смогут перелететь через высокие стены, для этого и нужна осадная стена. Если же попытаться выломать ворота…
– Что мешает это сделать?
– Открытая местность, твоё величество. Нет больших камней, нет даже больших деревьев. И враги всё равно не дадут нам подойти слишком близко.
– Значит, крепость неприступна?
Боясь вспышки гнева фараона, Себек-хотеп ответил осторожно:
– Нужно некоторое время, чтобы подготовиться к осаде, твоё величество.
– Ты же сам говоришь, что времени нет!
– Если мы задержимся, войску грозит голод.
– Но в окрестностях Мегиддо вы об этом не думали!
– Там были поля и плодовые деревья. Здесь же ничего нет.
Тутмос нетерпеливо топнул ногой.
– Вы только для того и созданы, чтобы воздвигать преграды на моём пути! Что же, Себек-хотеп, ты предлагаешь мне отступить?
– Мы ещё не начинали осады, твоё величество. Ты можешь послать гонцов…
– С мирными приветствиями правителю города? А может быть, ещё и с дарами?








