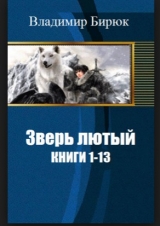
Текст книги "8. Догонялки"
Автор книги: В. Бирюк
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 22 страниц)
Парнишка угрюмо смотрел, как мы с Николаем быстренько пропустили сквозь пальцы собранную им его собственную котомку, но мне предпочтительнее упрёки в грабеже сироты, чем в убийстве священнослужителя. С последующими оргвыводами.
Всё, что поп награбил своими требами… Отдать его осиротевшему семейству? Дать потенциально очень опасному противнику дополнительные материальные ресурсы? – Нет уж, лучше бы они как-нибудь померли, тихонько, сами собой. С голоду, например. И вообще – как бы сделать так, чтобы всё это затихло-заглохло? Вся эта история…
К рассвету сыскалась и лодочка, не сильно протекающая. Спихнули на воду, погрузили в неё гроб заколоченный, сами вскочили. Сначала речное течение потихоньку поволокло лодку от берега, потом дружно взяли вёсла, побежали…
Кроме поповича и покойника – трое. Кто самые бездельные бездельники на усадьбе? Я, Сухан и Чарджи. Вот они вёслами и машут, а я – рулю. «Ванька – великий кормчий». Ага. На труповозке. Лысый сопляк – в роли Харона, речка Угра – в роли Стикса. Опять неправильно: не поперёк гребём, а вдоль. Так ведь – «Святая Русь», а не Древняя Греция – у нас завсегда перпендикуляр.
Заскочили в Рябиновку. Надо уважение соблюсть – Акиму доложиться. И – его послушать. Как-то я себя несколько неуверенно чувствую – дела-то серьёзные, чисто «аля-улю, гони гусей»… можно нарваться.
Раньше и мыслей таких не было, всё по-простому: вот враг – режь его. Такое… «ковбойничание» с «джигитованием», «геройничание» с «авантюрничанием». А тут же, блин, люди живут, системы у них. В том числе – и правоохранительные имеются. От которых после всяких «подвигов» могут начаться последствия. «Догонялки» разные. Очень болезненные. А я их предусмотреть не могу – опыта нет, знаний не хватает.
Мда… Кажется, поумнел малость. Хоть задумываться начал. Хотя бы – «после того как…».
Изложил Акиму чисто официальную версию… И кого я тут обмануть решил? Нет, Аким всё чин-чинарём – поохал, «ай-яй-яй, как же так, мы ж с ним ещё третьего дня… а он-то уже вон как…». Ритуал соболезнования отработал в полном объёме. «Упокой господи душу раба твоего» – раз десять сказал, сиротку по головке погладил, повздыхал, «все мы под богом ходим»…
Только Яков, тихонько, над ухом, на эти манипуляции глядючи, произнёс:
– Волхвы – погорели, у ведьмы – спина треснула, посадник – мозгой двинулся, а теперь и поп – утоп. Далеко пойдёшь.
Ну я же не виноват! Они же сами ко мне пристают! А так-то я за свободу совести во всех её мирных проявлениях. Всеми фибрами и рёбрами… Блин, как же они болят…
Ничего умного я не услышал, зато сам сказал:
– А не пора ли, Аким Янович, в Рябиновке собственную церковку поставить? Как-никак – боярская вотчина намечается. Где ж и дому-то божьему быть, как не возле дома господского?
Аким хмыкнул, «подумать надо, есть у меня возле епископа знакомцы…».
Заглянули «на минуточку» в «Паучью весь». Естественно, бабий плач по покойничку во всём его многоголосии. Ахи да расспросы:
– Ой беда-то какая! Да как же ж оно приключилося?… Да как же ж теперь сироте-сиротинушке жить-горевать?…
Но, кроме обязательной ритуальной программы, и реализм с практицизмом тоже работают:
– А майно, покойником собранное, где? А, боярич?
На последний вопрос – ответ очевидный, вариация русской народной мудрости: «что с воза упало – то пропало». Здесь не «воз», но тоже слово из трёх букв. Я знаю, что вы подумали, но вы неправы: нужное слово – «поп».
Наивность пейзан меня поражает: сами ж отдали! Добровольно и с песней. В смысле: с молитвой. Так что – фиг вам, прихожане.
На остальные вопросы – по мудрости христианской: «и даже волос не упадёт с головы без соизволения господа». Тысячи утопленников в моей России каждый год не – «сдуру» или «спьяну», а исключительно «с соизволения». Господи, сколько ж ты народу на Руси потопил! А в мировом масштабе?
Версия моя обкатывается, на прочность проверяется, становится общепризнанной истиной. Но среди всего этого словоблудия чувствую я, по хмыканью Хрыся, что Яков в здешних землях – не один такой умный. Закономерности… они же того – просматриваются.
Чуток интенсивной гребли, и мы выскочили к устью Невестинки. Есть в этих краях речка с таким милым названием. А напротив устья речки – одноимённое село.
Селище с церковью называется село. Довольно большое – под полсотни дворов, тыном обнесено, а выше, вне села, на самом гребне речной долины, стоит церковка. Луковка не золотая – чёрная, дёгтем мазаная. Церковка невелика, к ней снизу дорожка вьётся. По верху гребня, по сторонам от церковки – берёзы стоят. Вот там где-то его и закопают. Отца, мать его, Геннадия.
Хорошее место для упокойничка – издалека видать будет.
«В этой могиле под скромной березою
Спит он, зарытый землей,
С мерзкой душой, со смертельной угрозою,
Подлый, жестокий и злой».
Мда, с одного этого четверостишия видно: я и Есенин – две большие разницы.
Пока дошли, к берегу пристали, мужиков местных позвали – погода испортилась. Гроб на поповское подворье уже под дождём втаскивали. Может, поэтому и вой не такой задушевный – мокнуть-то никому неохота. Вдова то – покричит над покойником маленько, то – командовать начинает:
– Это – туда, то – сюда, а поросёнку давали? лавки принеси, у соседки курицу выпроси…
«Пришла беда – открывай ворота» – русская народная мудрость. А зачем ворота открывать? А соседи идут-собираются. Помочь, да погрустить, да бражки попить.
Мы в сторонке устроились, в сарае с открытыми воротами. На двор глядим, дождь пережидаем. Пока бабы суетятся – мужики местные подошли. Кто дверной косяк подпёр, кто у стенки на корточках пристроился. Пошёл такой, для «время убить», спокойный разговор: что да как, и как же-то покойный… дык пьяный-то у воды… а он-то завсегда выпить любил… а вот помню я… да и то сказать – крут бывал батюшка…. да чего крут – сволота голимая, прости господи на дурном слове…
Меня селяне не замечают – молод ещё, Сухан вообще молчит. Зомби, они же такие… неразговорчивые. Разговоры, вопросы – к Чарджи. А ему с селянами толковать… цедит через губу. Но так даже лучше – ощущение простоты, обыденности, скучности… «Говорить-то не о чем». Всё, им сказанное – тут же находит подтверждение. В моём лице. Точнее, в затылке – киваю я. Точно, так и было, истинную правду ханыч молвит… Все детали излагаемой версии получают визуальное поддакивание. Вроде, вопросов никаких неудобных не возникает.
Вдова подошла. Ханыч шестой раз крутит тот же рассказ. Видно, что ему это всё – «в зубах навязло». Но вдове-то пересказать надо. Как-то у неё… с интонациями странно пошло. Чегой-то она? Бархатность в голосе зазвучала, платочек так это перекинула, плечиком повела…
Тю! Ну не фига себе! У неё муж покойный только что в гроб положился, а она уже глазки строит! Несильно, неосознанно, чисто инстинктивно. Но я-то улавливаю. Одно дело чистый вой:
– Ой да кого ж ты нас покинул! Ой да как же мы теперя-то сиротами-сиротинушками бу-у-у-дем!..
Другое дело – команды деловые:
– Лавки две ещё принеси. Народу-то сколько собирается. Да яблок там собери. С дерева-то не рви – набери падалицы.
Но тут третья тональность звучит. Мурчально-интересовальная. Быстро как-то… А чего мне удивляться? Чарджи у нас – самый мачастый мачо на всю округу. Бабы от одного его вида – «кипятком писают». Да и, как я понял, отец Геннадий и в семье… не сильно ласков был. Человек един во всех своих проявлениях… Так что, мордобой в канун светлых праздничков – вполне может быть здесь нормой. А баба – ничего. Не мой типаж – тяжеловата. Следы былой красоты на лице. В сочетании со следами регулярного пьянства. Там же. Но чёрный цвет ей идёт – молодит. А у Чарджи, да и вообще – у местных, преставления об идеале женской красоты – с моим не совпадает.
– Чарджи, я смотрю – вдовушка на тебя запала. Не «некай», она и сама ещё этого не подумала, а уже видно. Ты с ней давай поласковее. Дело сделаешь: коль мы с Акимом задумали в Рябиновке церковь ставить, то надобна куча разного. Иконы, сосуды, покрова, светильники, книги… Книги – особенно. Потолкуй с ней – может, продаст задёшево что от покойника осталось?
Продаст. Как же там, у Даля, русская народная пословица по этой ситуации? «Попадья помрёт – поп – игумен. Поп помрёт – попадья по гумнам». А куда ей ещё?
И церковь, и народ отрицательно относятся к повторному браку. Отчим, мачеха – явно не положительные персонажи.
Из показаний очевидцев в эту эпоху:
«Вторый брак бывает начало рати и крамоле. Муж бо, за трапезою седя, первую жену, вспомняув, прослезится, вторая же взъярится!».
Бедные средневековые русичи. Им, вдовцам – и поплакать-то в волюшку не дают!
Но светские, «миряне» понимая, что ни вдове, ни вдовцу – нормально жить невозможно, и воспринимая реальность мира, со вторым браком – мирятся. Церковники же, стремясь к идеальному на земле, превращают вдовство в необратимую катастрофу.
«Одна – у попа жёнка» – русская приговорка о единственности чего-либо. «Другой не будет никогда».
Маразм обета безбрачия, противоестественный для человека, пригодный лишь для крайне немногочисленной группки фанатически верующих, изнуряющих себя бесконечными постами, голодовками, молитвами, всевозможными самоистязаниями, самоизнурениями и самоуничижениями, был юридически установлен в конце 6 века и де-факто распространён на живущих в миру клириков папой Григорием Седьмым. От моего нынешнего времени – недавно, менее ста лет назад. Здесь ещё помнят, как множество почтенных семейств в Северной Европе оставили церковь Христову, ибо главы этих семейств отказались священнослужительствовать на таких условиях. Как широко распространилась языческая реакция, и в целых провинциях нельзя было найти и одного действующего христианского храма.
Неразумность, извращённость, несоответствие этого правила реальной жизни продолжает вызывать неприятие в Западной Европе и в этом, в 12 веке. Звучит довольно обоснованная аргументация «во благо церкви»: в церковники идут вторые сыновья аристократических семейств и лучшие мальчишки из простонародья. Их учат грамоте, языкам, тренируют память, заставляя запоминать огромные тексты, развивают выносливость бесконечными богослужениями и испытаниями. В церковь втягивается отнюдь не худшая часть населения. Но ни генетические свойства, ни приобретённые навыки в наиболее эффективной форме воспитания – домашнего, в следующие поколения не передаются. Каждое поколение – с «чистого листа».
Восточные церкви в этой части более разумны. В эту эпоху ещё и архиереи могут быть женатыми. Ограничение – церковная карьера только для монахов – в русском православии ещё отсутствует.
Но действует более древнее правило: жениться нужно до принятия сана. По установлениям Шестого Вселенского Собора, брак, заключённый до принятия сана, препятствием для рукоположения не является и не расторгается.
«…кто явится достойным рукоположения во иподиакона, или во диакона, или во пресвитера, таковому отнюдь да не будет препятствием к возведению на таковую степень сожитие с законною супругою; и от него во время поставления да не требуется обязательства в том, что он удержится от законнаго сообщения с женою своею; дабы мы не были принуждены сим образом оскорбить Богом установленный, и Им в Его пришествии благословенный брак. Ибо глас Евангелия вопиет: что Бог сочетал, человек да не разлучает».
Но принявший сан – жениться уже не может. Церковь «не разлучает», но и «не случает» – холостой или вдовствующий священник-иеромонах таким и остаётся пожизненно. Не может повторно выйти замуж и вдова-попадья. Причём Церковь, закрывая эту возможность, отнюдь не обеспечивает нормальной социальной защиты. Сыновей-сирот ещё могут из милости взять куда-то в прислужники, в «мальчики-на-побегушках». Вдова и дочери… хорошо, если в «церковный дом», в здешний эквивалент «женского исправительного заведения».
Особый оттенок этой семейной катастрофе – «потеря кормильца» – придаёт «служилость» священничества – поп живёт не в своём доме, не на своей земле, не в своём «мире». Он присланный, поставленный. Приход, храм, дом – даны ему на время исполнения служебных обязанностей. Соответственно, по смерти попа, его семейство – должно всё освободить.
Если у вдовы-крестьянки остаётся дом и подворье, часто – кусок земли, всегда – помощь соседей-общинников, то у вдовы-попадьи – только то, что она может унести-увезти.
Удивительно ли, что при такой системе попы тянут всё себе в карман? Стяжательство как попытка застраховать свою семью, создать запас на «чёрный день». Отсюда, вероятно, и попытки коневодства – «жеребячье сословие», вообще – особое внимание к движимому имуществу. Вкладываться в недвижимость невыгодно – она не его, не собственная – церковная.
На Руси порядок назначения священников по приходам был всегда сходен с советским распределением выпускников вузов: лучшим ученикам, доказавшим в ходе обучения наличие «ума» – способность запоминать, уместно воспроизводить и правильно применять церковные тексты, доставались лучшие места.
Понятно, что во все времена были обходные пути. Протекционизм, родственные связи или благосклонность начальствующих, особенная личная преданность или склонность к работе в особых органах… Смазливое личико или мякенькая попка открывали, временами, такие высоты карьеры, которых и непрерывной зубрёжкой обоих Заветов не достичь. Однако у вступившего на стезю русского православного священника, в отличие от священника католического, был и ещё один путь успешного трудоустройства: «невеста с местом».
«Хуже нет, чем невеста без места и жених без ума» – русская священническая мудрость. Сложилась эта поговорка в более позднее время, когда на Руси уже существовали собственные духовные училища. «Очерки бурсы» Помяловского или бурсаки в «Вие» – дают представление об этих учебных заведениях.
По смерти обычного приходского священника оставались приход без пастыря и семья без кормильца. Взять семью умершего на содержание архиереи не могли и не хотели. Но и бросить умирать в нищете… идеологически неправильно. Священство просто взбунтуется против такого предводителя. Выходов два.
Либо ставить попами сыновей попов. Тогда, после смерти отца семейства, вдова с младшими детьми переезжает к старшему сыну, и, если не благоденствует, то хотя бы не мозолит глаза своим попрошайничеством.
Здесь, в «Святой Руси», дети постоянно наследуют профессиональные занятия своих родителей. Это нормально, общепринято. Их собственные склонности, способности – малоинтересны. Хотя бывают и исключения – Алёша Попович, например.
Либо отдать приход зятю. Если он женат на дочери покойного и пригоден к рукоположению в сан. Или уже рукоположён в диаконы, так что возможен следующий шаг в его карьере – рукоположение в пресвитеры.
Стремление к браку в такой ситуации – возникает обоюдное. И – весьма острое. Помяловский описывает некоторые хитрости, которые случались в этом процессе. Например, потенциальному жениху на смотринах показывали миленькую и молоденькую родственницу, и уже только в церкви под венцом он видел – с каким «крокодилом» ему век вековать.
Итак, или сын «с умом», или такой же зять. Тогда их ставят на приходы, и вдова сохраняет в их домах статус старшей хозяйки, а её дети получают нормальное кормление и воспитание. Иначе – нищета и попрошайничество до конца жизни.
А как у них тут, в Невестино? После моего «яйца гранитного страуса»…
Христодул – старший сын покойного. Слишком мал летами для рукоположения. Может, зять какой имеется? С «умом»?
Кроме хозяйки по двору мечется ещё одна бабёнка в чёрном. Явно моложе попадьи. От безделья интересуюсь у местных – это кто? И нарываюсь на очередной сочувственно-злорадный рассказ «о тяжёлой женской доле». Трое местных мужичков, перебивая друг друга и, дополняя явно придуманными подробностями, взахлёб излагают нам местную сплетню.
Никогда не любил сплетников. Агата Кристи как-то сказала: «Любой разговор – это способ помешать думать». Сплетня – особенно. Но здесь именно сплетни дают мне «информацию для размышления».
– Это-та? Дык это ж дщерь! Ну! Старшенькая. Покойничек-то, того, Трифеной её нарёк. По святомученице. А тут же ж… как назвал дитё, так оно, значиться, и жить будет.
Насколько я помню, святая мученица Трифена происходила из города Кизика. Она добровольно предала себя на страдания за Христа. Её бросали в раскалённую печь, вешали на высоком дереве, бросали с высоты на острые камни, отдавали на съедение зверям, но Господь хранил её невредимой. Наконец, когда все эти чудеса с несгораемостью-неразбиваемостью-ненадкусываемостью всем надоели, она была растерзана разъярённым быком.
До быка дело ещё не дошло, да и все остальные… запланированные приключения с этой мученицей ещё не случились. Правда, случились «незапланированные».
Бегает баба по двору шустро. Да какая она баба! Девчонке лет 13. Но уже «баба» поскольку была замужем. Но не вдовица – разведёнка, что по здешним местам-временам – редкость.
Мне-то в моё время попалась как-то на глаза история о турчанке, которую в 7 лет выдали замуж, а в 11 уже развели. В моей России распадается половина брачных союзов. «Не сходить ли, девки, замуж?» – стало уже довольно распространённой женской народной мудростью. Вот тут мы «впереди планеты всей»! Всякие американцы с европейцами… да ну, отстой! Только белорусы и украинцы нас обгоняют. В процентном отношении. А тут, на «Святой Руси», с этим делом как?
Отношение к «пущенницам» (разведённым женщинам) в святорусском обществе – осуждающе-сострадательное, как к «порченным». Русские князья, начиная войны со своими тестями, неоднократно начинали их с развода. Что и самой женщиной, и её отцом воспринималось как тяжкое личное оскорбление.
Из наполненных вздохами, «твоюматями» и намёками наших рассказчиков вырисовывается такая картинка.
Год назад, когда этой Трифене исполнилось 12 лет, её батюшка, ныне покойный отец Геннадий, выдал дочь за сына другого приходского попа вёрст сотни за две вниз по реке. То ли предвидя свою скорую смерть, озаботился наличием «жениха с умом», то ли просто спешил избавиться от лишнего рта. Но не тут-то было.
Вскоре после возвращения родителей со свадьбы – дочь им вернули. Мотив: «невеста – нечестная». В смысле – не девственница. Сваты требовали возвращения подарков, уплаты неустойки, компенсации расходов и публичного извинения.
Вплоть до 18 века отношение к добрачным связям девушек в крестьянской среде оставалось терпимым. Но здесь – не русский народ, а русское духовенство. Отдельное сословие со своими правилами и представлениями о допустимом. И – набором «уместных наказаний» за нарушения границ этого «допустимого».
Сцены похищения девушек очень красиво изображались древними греками на их древнегреческих блюдах, вазах, кубках и прочей посуде. Да и позднее есть масса великолепных картин разных эпох и стилей. А вот сцена возвращения – как-то в искусстве не освещена. «Возвращение блудного сына»… несколько не в тему, а «Возвращение блудной дочери», хоть и присутствует в массе телесериалов, но на стенке в Эрмитаже не висит – Рембрандтов у нас маловато.
А зря: зрелище было красочное. Громкие публичные оскорбления, эмоциональные цитирования «Евангелий» и «Апостолов», попытки рукопашного боя между батюшками с прореживанием бород, «женский бокс» – между матушками, с разрыванием одежд и выдиранием волосьев, дуэль на пастырских посохах, три попытки метания девушки с лодки на берег и обратно – кто дальше метнёт…
Всё село развлекалось два дня, на третий сваты ушли «не солоно хлебавши» – Геннадий подарков не вернул и дочь назад не принял. Но дело не закончилось – через полгода Трифену всё-таки вернули в родительский дом. Уже разведённую по епископскому суду по основанию: «супружеская измена».
«Церковный Устав Ярослава Мудрого» даёт 5 статей-причин для развода.
Самое первое и важное:
«Аще услышите жона от иных людей, что думають на царя или князя, а она мужу своему не скажете, а опосле объяснится, – разлучити».
Русская Православная Церковь всегда была более всего озабочена доносами по политическим мотивам. Больше, чем нормами собственно христианскими. Сначала – «государственная измена», потом – «супружеская»:
«Аще застанете мужь свою жону с прелюбодеем или како учинить на нее исправу с добрыми послухы, – разлучити».
Понятно, что «Церковный Устав» несимметричен: преступницей является только женщина. «Аще застанете мужь свою жону…», но не наоборот. А иначе и быть не может: «Евины дочки», «сосуд с мерзостью».
Апостолу Павлу, проповедовавшему в среде язычников-эллинов в огромном, семисоттысячном в ту эпоху, процветающем экономически и культурно, Коринфе, приходилось использовать несколько иные формулировки. Но – с близким смыслом. В Первом послании к корифнянам им установлено:
«А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь: жене не разводиться с мужем, – если же разведется, то должна оставаться безбрачною…».
Это апостольское правило в отношении женщин вполне действует на «Святой Руси». Но – не для мужчин: в Московской Руси и Императорской России почти все прошения к церковным иерархам «обманутых» мужей о разводе сопровождаются прошениями о разрешении вступить в новый брак с очередной «суженной». Что заставляет усомниться в истинности «обмана».
Вокруг этого строится, уже в последней четверти 19 века, сюжет пьесы «Красавец-мужчина» А.Н. Островского:
– Нужно, Зоя, чтоб ты была виновата.
– Как виновата, в чем?
– Чтоб я мог уличить тебя в неверности несомненно, со свидетелями.
Цена вопроса – полмиллиона от следующей потенциальной жены:
– Она старуха и безобразна до крайности. Мы часто встречались с ней у моих знакомых; она думала, что я холостой, и на старости лет влюбилась в меня до безумия… обещала мне полмиллиона, если я разведусь с тобой.
У Островского в пьесе – хэппиэнд. Зло – наказано, добродетель – торжествует, все – смеются. Это же комедия!
На «Святой Руси» – не смешно: Трифену – «застали», наказали, осудили и выгнали. Рассказчики с восторгом обмусоливали подробности, старательно изображая из себя «подсвечники» – те, кто «свечку держал», перемежая придуманные, похоже, подробности, старательными сожалениями о неудачном жизненном жребии юной поповны:
– Уж она-то и умница такая, и по русским и греческим книгам читает, и весь «Часослов» назубок знает, и слова от неё никто худого не слышал, и ходит тишком, глаз на парней не пялит, задницей не крутит, а вот же – cбляднула до свадебки… потом-то никто бы и не заметил…
Ну, положим, дело не в факте, а в желании сделать его общеизвестным. Один из германских аристократических домов имел странную семейную традицию – простыни после первой брачной ночи старательно сохранялись для потомства. В 21 веке этот шкаф с постельным бельём за несколько веков – попал в руки медиков. Проведённый анализ показал, что, за исключением двух случаев, пятна на простынях не содержат человеческой крови. Куриная, свиная, баранья…, вишнёвое варенье, рябиновый сок… Безусловно – вино, позже – встречаются томаты. И никаких проблем – вполне благопристойная благородная династия из высшей европейской аристократии. Технология введения новобрачного в заблуждение по этому поводу описана, например, в китайских «Речных заводях» – первом в истории романе в жанре «уся», ещё в 14 веке. У девчушки просто не было толковой учительницы.
Пейзане начали бурно дебатировать персону предполагаемого «ходока», который «испортил девку». Один из рассказчиков, оказавшийся, по мнению туземцев, вероятным кандидатом, возмутился до чрезвычайности:
– Да вы шо! Она ж чернавка! Да ты ж глянь-то на неё – у её же морда чёрная! Как у эфиопья. Будто со свиньёй целоваться!
Я уже говорил, что присутствие меланина в коже воспринимается на «Святой Руси» как большой недостаток. «Смуглянка-молдаванка» здесь – уродица, «второй сорт». Впрочем, это представление о женской красоте действовало не только в «Святой Руси», но и большую часть российской истории вообще. Чернышевский в «Что делать?» пишет:
«Когда Верочке подошел шестнадцатый год, мать стала кричать на нее так: „отмывай рожу-то, что она у тебя, как у цыганки! Да не отмоешь, такая чучела уродилась, не знаю в кого“. Много доставалось Верочке за смуглый цвет лица, и она привыкла считать себя дурнушкой».
Пейзане серьёзно переругались между собой этой по теме:
– Да какой же дурак на это бревно горелое залезет! Разве что – сослепу.
Дело шло к драке, но тут они дружно переключились на «разведёнку» и её нынешний целомудренный образ жизни:
– Вот же сучка! И – не даёт. Дорожится – даже и со двора не выходит. А чего теперь-то беречь-то? Раньше-то надо было. Дура немытая.
Мне было скучно. Дождик то усиливался, то ослабевал. Обложной дождь. Серость затянутого тучами неба не оставляла никакой надежды на скорый наш уход отсюда. Думать, что-то делать – было «в лом». Вчерашние… приключения продолжали отзываться болезненными напоминаниями в разных местах моего маленького, но такого многострадального тела. Вставать не хотелось. Сейчас бы овчину потеплее и с головой… После бессонной ночи, под шум дождя, придавить подушку ухом… Если бы ещё и эти… «любители поговорить о бабах» куда-нибудь убрались… Чарджи, тоже не выспавшийся, уже дремал сидя, привалившись к стене.
В голове медленно ползали остатки мыслей о переменчивости человеческих представлений о красоте, о том, какая же именно «красота спасёт мир» – с меланином или без? об извечном американском вопросе: «а что если бог – негр?», о странных отношениях французского короля Генриха Второго с его женой, о воздействии пресловутой женской плёночки на мировую историю, и о передаваемом по наследству по женской линии врождённом отсутствии этого атрибута, о необходимости завести в хозяйстве «карманного» попа, и поставить для него церковь в Рябиновке, а я в здешних церквях ещё не бывал, и «понимаю в них – как свинья в апельсинах», и надо бы попросить у вдовы ключ и сходить глянуть – какие здесь церкви бывают, о дожде, которым, похоже, закончилось лето, а у меня нет печника и остаётся, если бог даст, всего пара недель тёплого времени – «бабье лето»… а там уже настоящие дожди пойдут, а я ничего ещё толком не сделал, из-за чего долг мой – «смерть курной избе» откладывается на полгода, а это десятки тысяч русских детишек, которые помрут просто по моей ленности, неумелости, неразворотливости…
Стоп. Последняя мысль пробила пелену сонливости и выдернула меня из сладкой полудрёмы в мокрый и холодный реал.
У меня есть много недостатков. Один из самых для меня неприятных – я помню свои долги. Как говаривал Жванецкий: «Из личных недостатков – обязателен». Я потряс головой, вытряхивая остатки сонливости.
«Что ты сделал для фронта?» – был такой советский плакат. А я? У меня тут везде – «фронт». Возьми дрючок свой и обведи вокруг ног – вот линия моего фронта. Войны с этой жизнью. С-с-святорусской…
У Чарджи, сидевшего напротив, от моего движения распахнулись глаза – чутко спит. Он прокашлялся со сна:
– Надо на ночлег устраиваться. И лодку перевернуть – зальёт дождём.
Ничего иного, более «конкретно-фронтового» мне в голову не пришло.
– Лады. Дождик, вроде, стих пока. Пошли.
Поднялись да потопали. Пейзане сочувственно покивали и начали перебираться к поварне – там уже кутья доходит. А мы спустились к реке, вытащили немногое барахло, что там было – шли-то налегке, думали одним днём обернуться, перевернули лодочку кверху днищем. Уже на обратном пути я увидел в серости очередной накатывающей дождевой тучи чёрную фигурку в женском платье, поднимавшуюся от селения к церкви.
– Чарджи, отволоки узлы, устройся с ночлегом. А я хочу церковку поглядеть. Как она там сделана да раскрашена. Поповна туда, видать, с ключами пошла. И не забудь с хозяйкой насчёт церковной утвари да книг потолковать. Только не спеши. Может, как народ разойдётся – она посговорчивее будет.
Чарджи, закинув за спину второй узел, отправился в село, а мы с Суханом двинулись в обход селища прямиком к церкви.








