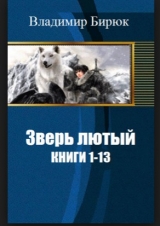
Текст книги "8. Догонялки"
Автор книги: В. Бирюк
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 22 страниц)
Глава 169
Возможно, и Трифена найдёт с этими похитителями своё счастье. И станет как та Дуня у Пушкина: вполне счастливая «прекрасная барыня». А может, она даже и сговаривалась…
Я, явно, «обсвяторуссился», меня тянуло сказать: «на всё воля божья» и не загружать мозги внезапно возникшей проблемой. Да что я им – 01, 02 и 03 в одном лице?! Ванька с Пердуновки – спаситель-спасатель-глупых девок возвращатель?
Но под всем этим академически-элегическим трёпом, сквозь желание поскорее вернуться к прерванным занятиям, к полезным, насущным, разумным и актуальным… к растягиванию сети, к засолке рыбы, к изготовлению кирпичей… всё чётче нарастало бешенство.
Я не ГГ, и мне плевать – будет она счастлива с кем-то из этих гребунов или последующих приобретателей, мне глубоко плевать на изысканно-этнографические обычаи и исконно-посконные нравы. Мне даже плевать, что спёрли единственную нормально грамотную девчонку. Единственного человека на сотню вёрст, который владеет греческим языком. Мне вообще плевать на полезность и разумность! Я – не ГГ, я – ДД! У меня другие приоритеты: они украли МОЮ рабыню! Они взяли МОЁ! Право собственности – священно. Моей – точно.
Я перевёл глаза на прилипшего к косяку двери мелкого голядину:
– Скажи Ивашке: Филькину лодку немедленно вычистить, на воду с вёслами. Стоять! Ещё: Чарджи и Сухану – на выход по боевому. Бегом. Домна, тормозок на дорогу, эту… – переодеть в чистое и сухое. В мужское. Хоть в моё – по размеру подойдёт. Делай.
Мужская одежда в походе удобнее женской. Да и не хочу я светить девкин подол, когда по реке «людоловы» ходят.
Ничего мгновенно не делается. Но у нас был недавний опыт похода в Невестино с телом отца Геннадия. Филька на команду: «отдай лодку» – даже не бурчал. Сухан, кроме своей рогатины запасся ещё и пуком сулиц – мы ж их кидали, тренировались. Может пригодиться. Дольше всех пришлось ждать… ну, естественно – даму. Елица явилась в моей рубахе, штанах, армяке, сапогах и шапке. А вот так, когда коса под шапку убрана и затылок открыт, она… даже очень.
Елица была крайне смущена своей мужской одеждой и всё порывалась как-то ото всех спрятаться. Это её настолько взволновало, что когда мне пришлось поддержать её за руку при посадке в лодку, она даже внимания не обратила. Зато стразу же перебралась в лодке на носовую банку, где старательно, мучительно краснея, начала закрывать свои ноги полами армяка. От нескромных мужских взглядов.
«Отец Федор с удивлением и стыдом посматривал на свои открытые взорам всех мирян полосатые брюки». Вот же ж дура! И – не священник, и штаны – без полосок, и не на охоту за «Двенадцатью стульями» собралась, а эмоций как у какого-нибудь… пресвитера. Мне-то, после эпохи мини и микро… Разве что – «нано» какое-нибудь интересное сделают. Блин, детка, я же тебя и так – всю видел и даже щупал. Нашла время…
Чарджи с Суханом взяли весла, рванули, Елица чуть не слетала со скамейки, и мы пошли вверх по реке.
Есть тут одна проблема… Точнее – проблем-то много, но, для начала, одна меня гнетёт. «Проблема опознания» – называется. Мы же живём на реке Угре. Фактически – на большой дороге. Едва в начале сентября пошли сплошные дожди, как начала подниматься вода в реке. Соответственно, снизу и сверху начали появляться лодейки. Не так уж и много, что бы подземный переход под рекой строить или, хотя бы, светофор ставить. Но – есть. Идут они днём, когда у нас сети из реки уже вытянуты, к берегу не пристают, на ночлег не останавливаются. Хотя, при моей привычке ожидать гадости от всего наблюдаемого – нервируют. Но у нас сейчас все три поселения достаточно многочисленные. Почти все мужики – на реке или возле. Так что, гости лодейные – не шкодничают. Пока…
Торговля всегда была сопряжена с разбоем. Всякий торговый караван – боеспособен.
«Али-баба и сорок разбойников» – разбойники попадают в город в форме груза и собираются резать горожан. Средневековье даёт массу аналогичных случаев. Выбор типа операции зависит исключительно от оценки ожидаемого соотношения потери/убытки. Можешь пограбить – грабь, не можешь – торгуй. В русской истории вершиной такого подхода были новгородские ушкуйники. Они настолько хорошо совмещали грабёж и торг, что довели дело до основания новых городов вроде Хлынова-Вятки. Чтобы было удобнее и торговать, и грабить.
В крестьянских общинах воровства нет. Всё на распашку – бери что хочешь. А дальше? Украл у соседа курицу, ощипал, сварил и съел? Уже на стадии варки у тебя спросят:
– А что это у тебя в котле булькает? Курочка? А откуда? Твои-то все по двору бегают.
Все – всё знают, видят и оценивают. Такой образ жизни совершенно естественно воспитывает кристальную честность. Просто отсутствием успешных негативных примеров и наличием позитивных – неотвратимостью наказания.
На дороге ситуация прямо противоположная. Спёр курицу в деревне, отошёл на десяток вёрст и жуй её спокойно – никто за тобой не побежит. Главное – не возвращаться, не попасться раздражённым хозяевам.
Фольк формулирует эту мысль так: «Если ты гулял где попало – не гуляй там больше – опять попадёт».
Купцы идут маршрутами, которые они знают, и где их знают. И, при этом, ведут себя достаточно прилично: «не воруй где живёшь, не живи где воруешь» – общероссийская криминальная мудрость. Однако кто-то постоянно срывается.
В документах этой эпохи достаточно часто встречаются эпизоды, когда группы купцов попадают в застенок за грехи своих земляков. Новгородских купцов сажают в Смоленске, смоленских – в Суздале. Тут речь не о бурсаке, спёршим мимоходом, проходя через село, вывешенную на плетне для просушки нижнюю женскую юбку. Тут дела куда серьёзнее. После которых запускается механизм «коллективной ответственности».
Ограничители – есть. Правда, не – «честное купеческое слово». Но ведь купец никогда и не обещает – не тянуть по дороге в карман всё, что «плохо лежит». А вот честь гильдии, цеха, землячества, с которых князья могут силой взыскать убытки – помогает. Такая… выстраданная и непрерывно поддерживаемая казнями и тюремными заключениями «честь».
«Честность – лучший рэкет», говорит герой Сэленджера. «Честный бизнес – прибыльнее» – говаривал мой приятель в 21 веке. Посидев в «Крестах» и в «Кащенке», погуляв по «Бандитскому Петербургу» Веллера, но в реале, он любил поделиться своей выкристаллизовавшийся честностью.
Здесь – аналогично. Особенно, когда альтернативой является тотальное кнутобитие с конфискацией. Не тебя лично – ты-то убежал и спрятался, а твоих партнёров, соседей, родственников, земляков вообще.
Это работает, если гости – настоящие, гильдийные. Если есть власть, которая может взыскать. Лесные племена Урала и Сибири при появлении русских лодок на реке просто убегали в лес. Бросая свои чумы и прочее. Так же вели себя и древние славяне при появлении варяжских или греческих караванов. Но землепашцам бегать неудобно, и славяне ставили мощные заборы вокруг своих приречных селений. Селища вдоль рек стали превращаться в крепостицы. А проплывавшие по рекам викинги дурели от такой застройки – ну не пограбить же свободно! И назвали Русь – Гардарик, Страна городов.
Не было взыскивающей власти. Взыскивающей не с преступников-«гостей» – их-то не догнать, а с их земляков или единоверцев. С тех, про кого можно сказать:
– Да они все такие! Да они все одним миром мазаны!
Но вот пришли князья. Они могут взыскать, если попадёшься. У них достаточно бойцов, у них есть общее соглашение – «Русская Правда», они гоняют гонцов друг к другу. Даже тот, кто не собирается возвращаться туда «где гулял», может быть пойман и наказан в княжеских землях.
Это – в теории. А в реале – раннефеодальная восточно-славянская империя – разваливается, «Святая Русь» сейчас въезжает в очередную фазу феодальной раздробленности.
Слова-то какие… будто книжной пылью припорошены, скулы от скуки сводит. Но это – в теории. А в реале – скулы от скуки не сводит, скулы от этой «скуки» – ломают да на сторону сворачивают.
Тут, у меня конкретно, срабатывает специфика «здесь и сейчас» геополитических обстоятельств. Во Владимире-на-Клязьме сидит сын Юрия Долгорукого – Андрей Боголюбский. Выше по Оке – Рязань. Боголюбский как-то, ещё по приказу своего отца, выбивал из Рязани тамошнего князя. Отношения между Рязанью и Суздалем-Владимиром – постоянно на грани войны. До такой степени, что рязанские князья в ближайшие годы уйдут от присяги Суздальским князьям под власть Великого князя Киевского, под Ростика. Позже, лет через тридцать уже наследник Андрея Боголюбского заморит голодом в темнице четверых рязанских князей.
«Как хлеб грызет голодный, стервенея,
Так верхний зубы нижнему вонзал
Туда, где мозг смыкаются и шея».
Это не фантазии Данте, это эпизод из реальной политики в доме Рюриковичей.
Эта вражда, трансформируясь со временем, станет на века основой Московско-Рязанских отношений. К Куликову полю на подмогу Мамаю шли ещё две, союзных Золотой Орде армии – рязанская и литовская. Шли, но не поспели. Долго будет длиться это соперничество, пока в 1517 году последнюю правительницу Рязани не постригут насильно в монахини.
У меня в Пердуновке – власть смоленского князя Романа. Который Киевскому Великому Князю – Ростику – сын и верный союзник. И, естественно, явный, но пока не воюющий, враг Андрею Боголюбскому. Ниже смоленского Елно на Десне сидят три князя из Черниговской ветви. Все – близкие родственники. И каждый – враг соседу. Половецкий набег хана Боняка и князя Изи Давайдовича на Чернигов, тот самый набег, под который и я сам попал, из-за чего я и жив-то остался, двое из этих князей – поддерживали.
Понятно, что такие игры в тайне не сохранишь – Черниговский Свояк, прогнав половцев, пошёл на племянников, взыскивать… по-отечески. Остановили его только угрозы Ростика из Киева, присланная на Десну для защиты союзника суздальская дружина, да увещевания грека – митрополита Фёдора, как раз прибывшего этим летом из самого Константинополя. Это погасило войну. Но не взаимную злобу. Которая, естественно, очень хорошо выражается в местных повседневных правоприменительных практиках.
То есть: «Святая Русь» – есть, Великий Князь и всякие прочие – есть, «Русская Правда» – есть. Но нормальной, человеческой правды, даже по здешним законам – не сыскать. И на кой чёрт здешние люди налоги платят? Толку-то всё равно нет. Ну, это – не ново, это я и по своей России помню.
Если купец не собирается возвращаться назад тем же путём, если он собирается уйти в соседний удел, если под здешними властями нет заложников – таких же купцов-земляков, то он может грабить не опасаясь. Разве уж совсем сдуру нарвётся на сопротивление…
Путь Угра-Усия-Голубой Мох, на котором сидит моя Пердуновка – верхний путь из Окской речной системы в Деснянскую. Другой, основной, путь ниже – по Болве. Выводит с Оки на Десну к Брянску, а это уже не смоленские земли. Если эти умники, которые Трифену украли, планируют назад возвращаться по тамошнему волоку – они вообще под смоленский суд не попадают. А что тамошние княжии люди потребуют с меня за «свершение справедливого суда»… Как гласит русский фольк, неоднократно проверенный на множестве русских шкур: «с сильным – не дерись, с богатым – не судись».
Не буду драться-судиться – буду бить на своей земле. И бить буду сразу, без разговоров.
Так это, по ГГешному. Подошёл, спросил типа:
– Закурить не найдётся?
и сходу в морду. И чтоб – наповал. Хорошее слово – «наповал». Выражает мои чувства. А ещё – «кусочничать». В смысле: порвать в куски. Как я их всех по-кусочничаю! Ух, какой я злой! Как увижу – сразу, без здрасьте, в мелкую капусту! Чтобы – и мявкнуть не успели! Так это, эффектно-благородно. Как настоящий ГГ. Потому что, при предполагаемом соотношении численности… остаётся только на внезапность надеяться.
А может у них сурово так поинтересоваться:
– Как пройти в библиотеку?
Они тогда точно одуреют, задумаются, и мы их как стоячих затопчем. Или – задавим. Как «лежачих полицейских». Медленно, с удовольствием… Потому что без этого – вряд ли…
Елица описывает лодейку как приблизительный аналог «поповской кошёлки». Тоже – плоскодонная, значительно шире обычной «рязаночки», раза в полтора длиннее, десяток гребцов. Но народу больше: купцы-пассажиры в середине сидят. Всего человек 15–16. Ещё и девку мою туда сунули… гады.
Я же – «гумнонист», мне же невинных людей резать… неприлично-c, уголовно-наказуемо-c. А то как кинемся на какую-нибудь лодочку, как там всех посечём-порежем… Без «здрасьте», внезапно, наповал… А они – не те… Нехорошо как-то получится… И время потерям. Поэтому и тащу с собой девку для опознания.
Мои гребцы рвали вёсла, лодочка, следуя движению кормового весла, летела, прижимаясь к берегу, по тихой, спокойной, местами почти стоячей воде. Погода, с утра солнечная, постепенно портилась, с запада снова потихоньку натягивало дождь. Я упорно пытался понять – с кем мне предстоит столкнуться на этот раз. Какие-то отморозки вроде недавних пруссов? Тогда я получаюсь полным дураком: взял только двоих. Да и вообще – полный пролёт, второй раз мне таких – не осилить. Не надо иллюзий: успех того боя – случайность, совпадение кучи редких условий, просто везения. Бить серьёзных местных воинов десятками… да это просто мне не по зубам! Я вспомнил свой изматывающий, обессиливающий страх во время тогдашнего боестолкновения… «Отделался лёгким испугом. От средней степени – просто помру».
Как оценить боеспособность вероятного противника? Конкретный вопрос успокаивал конкретно. Постепенно уходило истеричное бешенство: «Моё!? Воровать?!». Всовывающийся в сознание местечковый оппортунизм: «А может – ну его? Как бы хуже не было. И дома дел – выше крыши. Не велика потеря – новых найдём…» – запинывался ногами и затихал. Есть конкретная задача. Почему она возникла, насколько важна – не суть. Суть – сделать дело. Сделать хорошо. Холопку – вернуть, ворьё – наказать.
По моей команде Елица поднатужилась, напряглась памятью, закрыла глаза и вспомнила картинку погрузки захваченной девки в лодку. Вот по такой, мысленной картинке, она выдала нам и количество людей, и как одеты были, и, что её поразило при разглядывании картинки – все черноволосые. Ну, кого разглядела-вспомнила: под шапками не очень-то высмотришь. А ещё – большинство маленькие и безбородые. Дети, что ли? Гребцами?! Да ну, фигня…
– А ещё, господине, у них вот тут в уголке глаза, такая, ну, будто ячмень вскочил… но в обоих глазах сразу…
Офигеть! Эпикантус? Складка у внутреннего уголка глаза, прикрывает слёзный бугорок. Монголоиды? Вот только монгол мне здесь не хватало! Да ну, не может быть, рано же ещё. Не в смысле: мало выпили, а в смысле: по эпохе рановато. Наверное, какой-то другой народ. И вообще: Чарджи – торк, тоже из этих, тюркоязычных, а у него такого признака нет. Или он – не монголоид? Что не негр – сомнений нет, а вот…
Я внимательно посмотрел на Чарджи. Тот понял мой взгляд как вопрос и пожал плечами. Ответ ясен: этнос девко-ворователей по описанию не идентифицируются.
– А ты, красавица, не путаешь? Ты ж на них издалека смотрела. Как же ты такие мелочи углядеть могла?
– Они… ну когда я со сна подскочила… а он на меня навалился… прям – нос к носу… Ну я и углядела… И это…
Елица густо покраснела, замялась, но, движимая осознанием важности всякой информации о нападавших, глубоко вздохнула и, глядя мне в глаза, выпалила:
– И уд у него твёрдый! Колется сильно. Вот…
Чарджи от неожиданности промахнулся веслом по речке. Лодку немедленно развернуло влево. Мы оба высказались. Выровняли лодку. И я посоветовал девке не пугать бедного торкского принца и несомненного секс-символа всех трёх наших деревень такими словами. Елица покраснела ещё пуще и принялась оправдываться:
– Ну… он же на мне лежал… ну, за руки держал… а тут у него… а я как почувствовала-то через рубаху… как испугалась… ногой-то его ка-ак подцепила. И через голову-то и перекинула. Вот…
Мда… определить национальную принадлежность индивидуума, обученность, вооружённость и боеспособность подразделения… по степени эрекции… не, не умею. Пулемётов у них точно нет, но не поэтому – просто эпоха не пулемётная. А вот остальное… Догоним – посмотрим.
Да уж – «догоним»… Нас-то трое, а их-то десятка полтора. Я не про греблю – у них лодочка тяжёлая, гружёная. Хоть они и в десяток вёсел идут, но мы-то вообще налегке. Догоним. А вот что дальше? Подойти да крикнуть:
– Эй, дяденьки, отдайте мне мою девку?
Тут они мне и… ответят. Пришибут на месте. Ну, может, поговорим? А я не понимаю – кто они. Как с ними разговаривать? И на каком языке? Со слов Елицы – между собой они говорили не по-русски, и не по-голядски. Она уже понимает маленько – за битыми «кучами» ухаживая, немного язык выучила.
Может как-нибудь хитростью? Забежать вперёд и как тот кот в сапогах… Чего-то он такое убедительное толкал… Ага. Речка одна – забеги-ка незаметно вперёд. Может, когда они ночлег встанут? Типа, мы тоже, лягушки-путешественники, мимо проходили, на огонёк заглянули… То-то и оно: «лягушки». С пустой лодкой на купцов мы не тянем.
Как я не крутил в голове ситуацию, пытаясь придумать хоть какую-то разумную стратегию – ничего не получалось. Персональная свалка подкидывала картинки из «Крепкого орешка» или тренировок спецназа на полигоне в Дзержинске. Потом, естественно, пошли кадры из Будёновска, «Норд-Оста», Беслана… Как-то… малооптимистично.
Я не умею освобождать заложников! А ещё – пленников, рабынь, захваченных и удерживаемых силой людей. Меня этому не учили! Собственного опыта – никакого. Ноль полный! Вообще-то – радоваться этому надо. Прыгать от восторга. Что ни мне самому, ни кому из моих знакомых и близких… «Слава тебе, господи, что пронёс мимо меня чашу сию». Искренне и от всей души.
Но вот сейчас… Ну не готовят у нас нормальных попадунов с навыками освобождения людей при захвате средневековыми людоловами! А читанное или много раз в разных боевиках виденное…. «Спускаясь по тросу с бесшумно подлетевшего вертолёта… забросав территорию свето-шумовыми гранатами… короткими очередями подавляя последние очаги сопротивления…». Да я «за»! Руками и ногами! Но здесь… такой опыт только мешает.
И ещё. Я не сомалийский пират и не гринписовец. Мне никогда в жизни не приходилось вести бой на воде. Брать кого-то на абордаж, захватывать плавающие объекты. Пару раз видел в исторических фильмах. Ну там, всякие пираты, всех времён и народов. Но даже в киношном варианте… не радостно.
«Вова с Петей не пираты,
Не берут на абордаж,
А наводят на квадраты
Дальнобойный карандаш!».
У Бориса Заходера – хорошо. Вот это я знаю и умею. Только это – про «морской бой». А у меня тут в реале… даже карандашей нет…
Ух как хреново. Повёл себя по ГГешному, вскочил-побежал… «Я – не ГГ, я – ДД…». А сам-то… Дур-рак. Куча вопросов и все без ответов. А есть, наверняка, масса вещей, о которых я не задумываюсь, потому что просто не знаю, что о них нужно задумываться. Возможен ли абордаж с гребного судна на гребное же при нагонянии? Относительная-то скорость маленькая. При Саламине греки атаковали персов на встречных курсах, и при сближении ломали носами своих трирем вёсла вражеским кораблям. А здесь? Подойти с кормы и попросить:
– Эй, дяденьки, вёсла внутрь уберите. А то нам к вам запрыгивать неудобно.
Сплошной туман, болото и некомпетентность. Давненько я себя такой бестолочью не чувствовал. Уже с неделю. Единственное, что я полезного здесь умею – командовать гребцам на основе музыкального отсчёта по-даосистски. «Делай что можешь…». Делаю.
– Раз-и, два-и. Навались, ребята.
У наших соперников по этой не-академической гребле была существенная фора во времени. Где-то часа два. Но их лодия была сильно гружёная и шла медленно. Я как-то не рассчитал. Мои уже и разогрелись, и пропотели, и устали. Темп начал снижаться. Я начал, было, подгонять Чарджи. Сухану-то – пофиг – «живой мертвец». У него выносливость… почти как у меня, «предводителя белых мышей». Тут мы выскочили из-за очередного поворота на длинный плёс. И увидели далеко впереди, на верхнем конце прямого отрезка реки, большую тяжёлую лодку. Елица среагировала первой. Вскочила на передней банке во весь рост и заорала, как и положено деревенской дуре – во весь голос:
– Вона! Вона те гады!
Глупость – заразительна. Это к тому, что я сразу скомандовал:
– Стоп!
Уставшие, намахавшиеся за эти часы непрерывной работы, гребцы среагировали мгновенно – упёрлись в вёсла. Вода вокруг лопастей – забурлила, лодка – встала, Елица – ойкнула и вылетела за борт. Ныряльщица, прости господи. Дайвинистка безмозглая. Или правильнее – драйвердристка? А, всё равно: хорошая у меня была шапка. Когда девка вынырнула с выпученными глазами, шапки уже не стало.
Чтобы всем было понятно: на «Святой Руси» плавать не умеют. За исключением прибрежных жителей больших рек и озёр – славяне не пловцы. Основная масса населения живёт-то возле маленьких рек, речушек, озерков, болот, а там не научишься.
Тысячи ног русских моряков, болтающихся над гладью Японского моря после Цусимского боя – тому подтверждение. Спасательные пробковые пояса они затянули на поясе, а не на груди. Где у человека центр тяжести… Для плавающего человека – это азбука.
Или можно вспомнить стоистический ужас персонажа Буркова в «Они сражались за Родину» перед переправой через Дон «на подручных средствах».
Но ещё хуже положение с женским плаванием. Его здесь нет вообще. Во всём «развитом мире», что – христианском, что – мусульманском, – нет ни пловчих, ни ныряльщиц, ни синхронисток. Даже просто купальщицы – экзотика. Чтобы войти в воду – нужно раздеться, обнажиться. Обнажённое женское тело – табу. И плавает такой табуированный визжаще-вопящий субъект соответственно – как топор. Но на этом топоре – моя одежда.
«Они зацепят меня за одежду, -
Значит, падать одетому – плюс».
Вот за этот «плюс» мы и ухватили, вывернули наглотавшееся воды чудо в лодку. Её – рвёт, в перерывах – орёт. Ногами машет. А лодочка у нас – невелика. Как бы нам всем тут не… искупаться.
Надавал пощёчин и стал раздеваться. Ну, положим, штаны свои я такой дуре второй раз не отдам. Рубахой обойдётся. На команду «раздевайся» у «утопленницы» реакция стандартная, негативная. Ещё разок по мордасам. С выражениями и обещаниями.
Факеншит! Сплошной детский сад. «Тут буду – тут не буду. А вы не смотрите…». Перебралась на нос, переоделась. Сухан – армяк отдал. Чарджи, пижон, он даже на такие дела кушак широкий одевает – отдал волосы замотать. А мою рубаху так, на обтирку пустила. Хорошо хоть уговорили косу расплести – мокрая же, аж течёт. Распустить косу девке при посторонних мужчинах – стыд и позор.
Только когда я со зверским выражением лица полез на нос, предлагая на выбор «… или за борт», с воем и плачем начала ленточку из косицы выдёргивать. Как-то мне все эти предковые заморочки… А тут ещё и кольчужка моя снова на голое тело… А куда деваться? В любой момент возможен огневой контакт. Ну, не огневой. Ножевой, сабельный, стрельный, копейный… Один чёрт – полная боевая готовность. Ходу, ребята, ходу.
Пока мы вытаскивали «утопленницу» и преодолевали туземные традиции и обычаи по теме: что кому носить не стыдно и как причёсываться не зазорно, интересующее нас судно удалилось из поля зрения. В смысле – завернуло за изгиб берега. Уже сереть начинает, видимость падает, надо догонять.
Мы снова наддали и… повторили прежнюю ошибку – вылетели из-за мыса на полном ходу. А лодейки-то и нет! Я несколько мгновений ошалело крутил головой и панически вглядывался в серую полосу реки, пока не понял: нет на реке лодейки. Потому что она – у берега стоит. У речки – берег левый, от меня справа. И народ из неё какие-то тюки таскает.
Я их вижу, они меня… аналогично. Оглядываются. Назад сдавать – сразу будет понятно, что мы именно за ними охотимся. «Собрался мышонок лиса затравить»… Вона их сколько. И чего она говорила, что они мелкие? Отсюда, с воды, вполне нормального роста. А, может, она на них сверху, с берега смотрела? Или мне со страху кажется? Ходу ребята, ходу. Пройдём-ка мимо. Типа: мы тут не по вашу душу, а чисто случайно, в одном направлении…
Жванецкий в одной из своих миниатюр чётко показывает, что с незнакомым человеком можно долго сидеть вместе. Например, на парковой скамейке или в поезде метро. Можно долго стоять вместе. Например, в очереди или в том же метро. Можно даже долго лежать вместе. Например, на пляже. Но вот идти вместе с незнакомым человеком… Он сразу инстинктивно нервничать начинает. «Вам чего надо? Вы почему меня преследуете?». Как это относится к «Идущим вместе»? Не знаю, вопрос не ко мне, а к Мих. Миху. А пока не будем будоражить инстинкты, «с глаз долой – из сердца вон».
И мы, и они внимательно по-рассматривали друг друга. Жаль, девка – не соврала. Я-то надеялся, что приврала с перепугу. «Не приврёшь – не расскажешь» – наше ж, народное. А эту… хоть в разведку посылай. Это я к тому, что их и вправду много. И оружие есть – саблю я углядел. Правда, в ножнах, в руках у одного. И пару длинных кинжалов на поясах. А что там у них ещё… Проверять не хочется.








