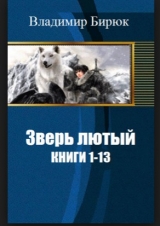
Текст книги "8. Догонялки"
Автор книги: В. Бирюк
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 22 страниц)
Глава 168
Кто из моих прежних соотечественников слышал термин: «осенняя поколка»?
Для многих охотничьих племён это – самое важное событие в году. С наступлением холодов масса разных копытных начинает откочёвывать. С летних пастбищ на зимние. В тундре Америки и Евразии собираются огромные стада диких оленей и двигаются к северной границе лесов. Южнее лесной полосы – массы бизонов по ту сторону Атлантики заполняют прерии, уходя к югу. Самое большое стадо парнокопытных – 200 миллионов голов.
В Великой степи косяки, прежде всего – лошадей-тарпанов, собираются вместе и тоже уходят. Одни – на север, прижимаясь к границе леса, другие – к югу. Есть ещё варианты, смотря по местной географии.
«Летит, летит степная кобылица
И мнёт ковыль».
– А почему – «летит»?
– Так осень же пришла! Вот все и полетели.
Идёт миграция огромных масс съедобного мяса. И на их пути всегда возникают маленькие сообщества всеядных обезьян-хомосапиенсов, старательно превращающих «мясо мигрирующее» в «мясо съеденное». Во всех узостях – на речных переправах, в речных долинах и оврагах, в горных проходах – охотники ждут дичь. Только это не охота в представлении моих современников – это промышленная заготовка мяса. На неё выходят не одиночные охотники-мужчины, а всем племенем. Пока мужчины режут этот «посланный богом» скот, женщины разделывают туши, снимают шкуры, рубят мясо, оттаскивают к кострам, на которых оно коптится… Удачная поколка позволяет племени сыто прожить зиму. Очень удачная – несколько веков.
Вот так прожило непрерывно четыре века на одном месте какое-то охотничье племя на территории нынешней Праги, над обрывистым берегом Влтавы. Уж очень удобный был здесь рельеф местности для организации загонной охоты. Раз за разом массы копытных приходили сами или сгонялись охотниками к этому обрыву. А внизу их уже ждали женщины с инструментом для добивания «прыгунов с трамплина» и разделки их тушек.
В лесной полосе таких массовых кочёвок копытных нет. Но есть аналог мигрирующего мяса степей и прерий – перелётные птицы. И снова – это не охота в понимании того же Тургенева:
«За четверть часа до захождения солнца, весной, вы входите в рощу, с ружьем, без собаки. Вы отыскиваете себе место где-нибудь подле опушки, оглядываетесь, осматриваете пистон, перемигиваетесь с товарищем. Четверть часа прошло. Солнце село, но в лесу еще светло; воздух чист и прозрачен; птицы болтливо лепечут; молодая трава блестит веселым блеском изумруда… Вы ждете. Внутренность леса постепенно темнеет; алый свет вечерней зари медленно скользит по корням и стволам деревьев, поднимается всё выше и выше, переходит от нижних, почти еще голых, веток к неподвижным, засыпающим верхушкам… Вот и самые верхушки потускнели; румяное небо синеет. Лесной запах усиливается, слегка повеяло теплой сыростью; влетевший ветер около вас замирает. Птицы засыпают – не все вдруг – по породам: вот затихли зяблики, через несколько мгновений малиновки, за ними овсянки. В лесу всё темней да темней. Деревья сливаются в большие чернеющие массы; на синем небе робко выступают первые звездочки. Все птицы спят. Горихвостки, маленькие дятли одни еще сонливо посвистывают… Вот и они умолкли. Еще раз прозвенел над вами звонкий голос пеночки; где-то печально прокричала иволга, соловей щелкнул в первый раз».
Тургенева – забыть напрочь. Вот совсем другое описание:
«При пролёте стаи над фортом непрерывно палили из пушек и ружей, фермеры сбивали птиц жердями, а рыбаки – вёслами. Стригальщики овец тыкали в пролетавших низко птиц ножницами, и даже собаки выбегали на возвышения, откуда прыгали в воздух и хватали птиц зубами».
Даже пулемёт был впервые изобретён для стрельбы по этим стаям.
Речь идёт об американском странствующем голубе. Численность популяции оценивается до начала 19 века – от 3 до 10 миллиардов птиц. Пролетающие стаи закрывали свет солнца, растягивались, при перелёте на новое место, на полтысячи километров. При посадке стаи в лесу на ночёвку под грузом птиц ломались деревья. Сила их крыльев была такова, что они пролетали за 6 часов 300–400 английских миль, по миле в минуту, вес одной стаи оценивался в полмиллиона тонн, а слой помёта, остававшийся на земле и строениях от пролетавших птиц, измерялся футами.
Это и имел в виду Аким, сказав: «Вот-вот гуси-лебеди полетят». Понятно, что птичьих стай такой численности, как у американцев, у нас тут нет. Но северные пернатые, прежде всего – серые гуси, собираются в стаи в несколько сотен, иногда – до тысячи, голов. Взять такую стаю, при весе отдельного экземпляра 3–5 кг… Какое там «побродить с ружьишком»! Массовые заготовки на зиму. Поколка.
К стыду своему, я, как и широкие массы моих современников, не имею опыта проведения подобных мероприятий. Самое важное дело в истории человечества, событие, под которое развивалась и вторая сигнальная система хомосапиенса, и социализация, и технологии… А мы-то… Утратили мы нормальный, естественный, человеческий образ жизни, позабыли о своих исконно-посконных корнях, о загонной охоте, о массовом забое, о поколке…
Мне как-то, чисто случайно, попадалась на глаза инструкция по использованию картечи четвёртого калибра при стрельбе по стаям диких гусей в низовьях Оби:
«Ружьё устанавливается посередине лодки в станке на подвесе. Ствол направляется в сторону стаи, желательно в вертикальном положении». Потом – бздынь… и пошли собирать чего упало. Такой… дробовик-зенитка.
Но ружья у меня тут нет, ничего подходящего у попаданцев я вспомнить не могу, остаётся слушаться туземцев.
А туземцы используют рыбацкие сети. Прошу заметить – для охоты на птиц. Идея простая: водоплавающие птицы ночуют на воде. Находят заводи со слабым течением, прячут головы под крылом и дрыхнут. Правда, «часовые – не спят». По тревоге вся эта плавающая птицефабрика начинает орать, бить крыльями, разгоняется, перебирая лапами по водной глади, и взлетает. Здешние луки… не ружьё, поднялись твоя еда выше 20–30 метров…
«Летит, летит по небу клин усталый,
Летит в тумане на исходе дня…».
Да хоть в какое время суток! Но летит мимо твоего котла, мимо желудков твоих людей…
Самый эффективный способ – уложить сети на дно водоёма в месте предстоящей ночёвки птичек до их прилёта. Потом ночью аккуратненько поднять сеть к поверхности воды и вспугнуть стаю. Как они спросонок начнут взлетать и по воде лапками хлопать, так сетку и дёрнуть. Они и запутаются. Ага. Ещё бы знать, где они в эту ночь отдыхать будут…
Я уже говорил, что Русь нигде с нивы не живёт. Русь живёт с реки. А самое «хлебное» время, это, как раз – сентябрь-октябрь. Сначала – жатва. Потом – грибы-ягоды.
«Гриб и огурец – в брюхе не жилец» – ещё одна сомнительная народная мудрость. Не в смысле – «жилец», ну зачем мне в животе – живой гриб? А в смысле питательности, усвояемости и ощущению сытости. «Грибы варят, осторожно помешивая веслом». Ну что тут непонятного? Это из той же инструкции для потребкооперации, что и про стрельбу из зенитного дробовика.
Ещё – ягоды. Важнейшая из которых клюква – главный источник витамина «це» в наших краях. Не нравиться – не ешь. Потом вообще жевать перестанешь – цинга.
Одновременно – рыбалка. Тоже – не для развлечения удочками, а сетями, бреднями, мордами, вершами… Рыбка жирок нагуляла – самое время её брать. Одновременно – добирается позднее на полях. Лён надо дёргать, а для нашей вотчинки это – важнейшая культура. Одновременно – молотьба, одновременно – вот, птицу надо бить, одновременно – подготовка к зиме: дрова, крыши, сани, тара под заготовки, тёплая одежда… Куча срочных крестьянских дел в эти два месяца. И тут я со своей печкой… Несколько не ко времени.
Так что, пришлось мне свой пыл несколько по-уменьшить и людей распустить по домам. Ну что сказать – сам дурак. Затянул время, не подумал, не предусмотрел… Грустно.
Но не смертельно, при ближайшем рассмотрении. Аким меня послушал, головой покрутил и согласился. Оставляю здесь на хозяйстве Жиляту. Даю ему в подмогу четверых стариков. Из «лесовиков» и из «пауков». Старуху-голядину оставляю для обихода. Пусть кирпичи лепят да обустраиваются. А что б не спали – «урок». В смысле – норму в штуках. Пока не сделает – «на Большую землю» не выпущу.
Когда печка остынет, и кирпич можно будет взять – нагоню мужиков, чтобы готовое на руках вынесли через болото. Много мужиков, но – на один день. Заново печку загрузим-запалим, кого-то из дедков старшим поставлю, а Жилята будет уже в Пердуновке домовые печи складывать.
Честно говоря, я расстроился: так хотелось побыстрее у себя тёплое жильё сделать. А так… холодает же! Пришлось самых малых голядин «паукам» в семьи раздать. Не то – по-заболеют дети, помрут. Думал, тяжело пойдёт – кому охота лишние рты кормить, да ещё – «поганых нерусских». Наутро ко мне Хрысь в Пердуновку пришёл, я ему так это осторожненько, типа: а что вы по этому поводу думаете?
– Это воля твоя боярская?
– Да нет, посоветоваться хочу. Возьмут «пауки» малолеток или нет?
– Ну… за всех не скажу… спросить надо, поразговаривать. А вон тех двоих малят я к себе в дом заберу.
– Хрысь, я ведь не про тебя именно…
– Чего? Стар? Не боись. У меня-то в доме теперь бабья полно. А с этими-то… хоть поговорить с кем будет по-мужски. Разным разностям научить. Опять же, Шарка, баба моя… Ну… Я ж её столько лет бил… сама-то она уже… а тут у ей перед глазами – матка с дочками… а так… вроде свои будут…
Дальше всю малышню разобрали в два дня. Причины… Разные. И просто человеческие:
– Замучишь ты их, боярич, приморозишь.
И экономические:
– Дык, с него ж, бог даст, годика через два работник будет. Чем от титьки до таких лет выкармливать… ну… дешевше же…
И вовсе непонятные:
– Хрысь-то… он-то… не дурень какой… видит, стал быть, каку выгоду… ну… боярич-то, мабуть, какое послабление даст… или там хлеба на прокорм подкинет,
Хотя я предупреждал, что детей отдаю не навсегда, а только на время, что никаких поблажек крестьянам от этого не будет, что за всякое упущение в части принятых детей, взыщу сурово… Я только троих самых старших, лет по 11–12, при себе оставил – надо же мне из кого-то себе дружину строить. Сверстников-то у меня тут мало.
Тут пошли гуси. И стало вообще ни до чего. Пух, перья летят, вонь, потроха кучами, от коптильни несёт… Но первую стаю – мы взяли! По сказкам Андерсона или Сельмы Лагерлеф. Ну, «Удивительное путешествие Нильса Хольгерсона с дикими гусями по Швеции». Там такая классная групповуха описана! Ну это ж все знают! «Когда одна палочка и семь дырочек спасут город…».
Среди дня в версте от селища расстелили на голой полянке на берегу сеть, замаскировали травкой, из разных мест выдранной. И посыпали густо мусором с пердуновского тока. Всякая полова, что после молотьбы да провеевания остаётся.
Дальше – вполне по детскому стишку:
«Гуси-лебеди летели,
На лужайку тихо сели.
Походили, покивали,
Потом быстро побежали».
Прилетели на закате гуси-лебеди, начали по полянке по нашей – похаживати, зёрнышко за зёрнышком – поклёвывати. Тут-то мы сетку и дёрнули. «Потом быстро побежали». Кто улетел – тот улетел. Но штук 70 осталось. Такой здоровенный вопящий рулон – гуси в сетке. Птиц не режут – разбивают головы дубьём, сворачивают шеи. Они шипят, кричат, крыльями друг по другу бьют, клювами кидаются ущипнуть… Дубьём по голове. Или куда попало, но без крови – запах будет, зверьё да вороньё соберётся. Всё равно – эту площадку в другой раз использовать можно только после сильного дождя. Клин журавлиный-гусиный-лебединый туда, где кровью или сильно помётом пахнет – не сядет.
Всю ночь птиц из сетки выворачивали, били, ощипывали, потрошили, пластовали для копчения-соления. На утренней зорьке пошли другие сети снимать – рыбацкие. Голавль хорошо идёт. Не такой уж и крупный, но густо. С рыбкой – аналогично. Она тоже ждать не будет – завоняется. Опять – чистить, потрошить, сушить, солить. Опять – вонь, грязь. Половина селища смесью засыпана – перья с чешуёй. В природе чешуйчатых пернатых не бывает. Но мы же – хомосапиенсы! Мы ж и не такое можем… уелбантурить…
Шутки-шутками, но «сейчас не потопаешь – зимой не полопаешь». Сейчас эти птички улетят – будешь зимой перепёлок из-под снега выковыривать. Река льдом станет – сети не кинешь. Будут мужички по домам сидеть, ремёсла всякие ремесленничать. Разве что, по первому снегу, по пороше, пойдёт охота на лесного зверя. По чернотропью его брать тяжко. А вот по глубокому снегу да на лыжах… Когда от охотника даже и лось уйти не может: проваливается, устаёт.
Вот в таком режиме, изо дня в день, птицо-рыбо-комбинат. Как-то я раньше не встречал у попаданцев и авантюрников описания Чикагских боен как обязательного элемента их авантюризма-попадизма. Везёт, наверное. Им уже на стол готовое подают. А я как не любил рыбу чистить в своём 21, так и не люблю. Но выбор невелик: ещё можно подучиться малость и садиться сети чинить. Сети, естественно, либо в рыбьей чешуе и слизи, либо в перьях, крови и помёте. Самое ГГешное занятие.
Я уже говорил, что между литературой и реалом есть принципиальная разница в мере связности? Довлеет нам, знаете ли, Аристотель с его «Поэтикой». В изложении одного небезызвестного Николо Буало из 17 века:
«Одно событие, вместившееся в сутки,
В едином месте пусть на сцене протечет».
А как за нарушение этих принципов ругали Шекспира! Во Франции Шекспир считался «диким» и «необразованным» гением, не соблюдавшим классических норм, и его пьесы при переводе на французский одновременно переделывались с учётом «трёх единств».
Пушкин, в своём рассуждении «О трагедии», советует оказаться от единства времени и места. Но: «Поскольку занимательность – первый закон драматического искусства, единство действия должно быть соблюдаемо».
Жизнь, по моему мнению, всегда – штука очень занимательная. В отличии от литературы. Самая большая занимательность обеспечивается не «единством действия», а единством личности – меня, любимого. И занимает она меня аж 24 часа в сутки без выходных, праздничных и отпускных. Посему у меня «любовные истории» прерываются «печными», благородный мордобой – забоем дикой птицы, а юридические изыскания – сбором клюквы.
Кстати о клюкве. Ну, про то, как мы с Прокуем «хапалку» для клюквы сделали – рассказывать особо не буду. Просто в очередной раз удивляюсь человечеству. Ягоды собирают… давно. Ну, не знаю, ещё с обезьяньих времён. Что клюкву с кочек болотных проще растопыренными пальцами собирать, будто причёсываешь эти кочки, а не выклёвывать поштучно щепотью – любому понятно. А вот простейшая приспособа, которая ту же человеческую ладонь с пальцами имитирует… Ну ладно, неандертальцы с кроманьонцами – предположим, тупые они. Но предки-то… «человеки как бы разумные». Тысячи лет… десятки миллионов людей, и никто не додумался, что «пальцы» можно сделать чуть длиннее, числом – чуть больше… «Душа не принимает»?
И не надо мне рассказывать как эти «хапалки» разрушают плодородный слой и экологию вообще. Это не вопрос приспособления – это вопрос человеческой дурости и жадности. А клюква здесь… Можете тыкать в меня пальчиками и хихикать:
– Вот, де, дурень, ягодками озаботился. «Хапалками» всякими. Прогресс надо делать, ход мировой истории менять!
Кто ж спорит? Надо. Поменяем. Только – «дела людьми делаются». Больными людьми, как лопатой деревянной – многого не наделаешь. А для здоровья люди должны получать аскорбиновую кислоту с пищей. Поскольку у нас, так же как у высших приматов – всяких «сухоносых обезьян», ген, отвечающий за образование одного из ферментов синтеза аскорбиновой кислоты, не функционален. Понятно, что витамина С в клюкве раз в тридцать меньше, чем барбадосской вишне, но где я здесь Барбадос найду?
Поэтому мы, здешние «сухоносые обезьяны», очень заинтересованы в клюкве мочёной. Даже больше, чем в «клюкве развесистой». А уж как заинтересованы некоторые из нас, которые от холода и сырости уже совсем «мокроносые обезьяны»!
Местные тоже сперва хихикали:
– А боярич-то того… Заленился… Сбёг от рыбки потрошения… По ягодки собрался, быдто дитё мало…
– Да не… Это не с лености, это – с блудливости. Девок выглядает. Ну… эта… с которыми побаловаться… хи-хи-хи…
На «Святой Руси» практически каждое занятие предназначено для конкретной поло-возрастной группы. Взрослые мужчины и женщины почти никогда не собирают грибы и ягоды – другие дела есть, несерьёзно это. Девчонки не ходят на речку с удочками. А мальчишки – с лукошками по лесу. Как всегда – бывают исключения. Не с кем пятилетнего малыша дома оставить и старшая сестра тянет братишку в лес с подружками на ягодник. Дети ещё не выросли, а малина в хозяйстве нужна – и хозяйка сама в малинник побежала. С медведями конкурировать.
Из-за неприятия туземцами нового инструмента, я раздал сделанные два экземпляра своим рабыням. Им-то – не отвертеться. «Хозяин – барин» – русская народная мудрость. Но возможность девкинского саботажа – предполагал. Поэтому, когда к месту, где мы снова растягивали сеть на гусей, прибежал младшенький голядина с криком:
– Йусу Елитса атейо невейкиа!
я решил, что девки, Елица с Трифеной, поломали или потеряли инструменты.
Щёлкнул малька по лбу, чтоб не забывал добавлять «Господин», вытер ему сопли рукавом его же рубахи, накрутил ухо, чтобы говорил по-русски, и пошёл себе не спеша на подворье.
Елица, раскрасневшаяся, без платка, растрёпанная и битая – синяк под глазом и губа уже опухла, сидела в поварне в окружении Домны. Именно, что в окружении. Припав к обширной груди моей поварихи, она рыдала в её объятиях. Мрачный взгляд Домны мгновенно избавил меня от иллюзий мелочности пришествия. Ну что, блин, у них опять?!
– Соку клюквенного налить, боярич?
Ежели так издалека, то… совсем скверно. При упоминании о клюквенном соке, Елица зарыдала ещё пуще. Чисто автоматически погладил девку по головке, по плечику. Вспомнив о её специфической реакции на мужское прикосновение, я, было, отдёрнул руку. Но девка ухватила её, воткнулась в ладонь лицом, прижала к столу и принялась бурно поливать слезами, сопровождая процесс соответствующими бессвязными жалобными звуками. Пришлось сесть за стол, принять другой рукой кружку от Домны, и ждать. Женщины… они такие. Пока не справятся с эмоциями – никакой информации. Даже если они ещё не вполне женщины. Зато уж потом…
Мои переживания от всего этого… от ощущения неизвестной, но, безусловно, глобальной катастрофы… Ну кому это интересно? Потерпи, Ванёк, ты же у нас мужик, тебе же положено терпеть. Женщин. Вот сейчас сопли все вытекут, запас слёз закончится, и мы узнаем… «что день грядущий нам готовит». Какую именно подлянку, приготовленную окружающим миром, мне предстоит «вкушать» сегодня на ужин.
Наконец, девка начала просто икать. Домна подступила к ней со здоровенной кружкой холодной воды и заставила пить крест-накрест, то поднося ко рту, то отодвигая и поворачивая кружку, с приговором:
«Икота, икота
Иди на Акима,
С Акима на Якова,
С Якова на всякого»
Приговор этот мне знаком ещё по 20 веку: жена так у дочки икоту останавливала. Только здесь местный, явно адаптированный под наши Рябиновские реалии, вариант. В оригинале должно быть «иди на Федота». И в рифму – точнее получается. Но цель приговора – концентрация внимания икателя на посторонних предметах. А местный владетель со своим верным слугой… ну что ещё может быть более посторонним при безудержной икоте?
Наконец, рефлекторные содрогания затихли, и я получил содержательную информацию. Катастрофа выглядела не настолько глобальной. Как всегда: ожидание неизвестной неприятности рисует нам картину более страшную, чем на самом деле. А так-то… Всего-то делов: Трифену украли. Ё! Мда…
Эка невидаль: здесь постоянно воруют детей, девок и молодых баб. Нехорошо, конечно, но что поделаешь – «Святая Русь», дикое средневековье, предки – одним словом.
О повседневности, рутинности покражи рабынь и рабов свидетельствует тщательность, с которой в «Русской Правде» прописана такая ситуация. Тщательнее чем, например, кража скота. Глубокая и всесторонняя проработанность вопроса говорит о частоте и распространённости данного преступления. И о некоторых странностях «борьбы с преступностью»: порядок поиска украденного «до третьей руки» – третий владелец краденного, даже если он был «добросовестным приобретателем», считается виноватым и обязанным компенсировать убытки из своего имущества. О виро-обложении, при котором потерпевшему просто возвращается краденное двуногое имущество, а штраф идёт в княжескую казну. О возможной замене и условии эквивалентности. Эквивалентность устанавливается на уровне половой принадлежности: украли робу – отдай робу, украли холопа – отдай холопа. А как звать, сколько лет, есть ли семья-дети… О том, что украденная рабыня стоит в два раза дороже мёртвой. Поэтому, при возникновении предчувствия провала, преступникам дешевле убить женщину, чем живой вернуть её правообладателю.
Между тем, Елица, запинаясь на каждом слове, изложила суть проблемы.
С утра Мара послал обеих девочек за клюквой. Те полазили по луговой «тарелке» – там есть несколько мест, где достаточно сыро для ягоды. Но «хапалки» позволяют быстрее очищать территорию. Возвращаться раньше времени не хотелось – Мара бездельничать не даёт, выдаст новый урок. Девушки нагрузили всё собранное на приданного им в качестве носильщика и защитника «мусорного куча», которому я мозги сотряхнул. Но не вышиб же совсем! Мозги его уже разложились по своим полочкам, ходить уже может. Парня отправили на заимку, а сами ягодо-сборщицы решили пройтись ещё по ягодникам вдоль реки. Должна же там тоже быть ягода. Или грибы…
В приречном осиннике они набрали кучу подосиновиков, спустились к воде, чтобы перебрать грибы да напиться – время уже дошло до полудня, и малость вздремнули на последнем тёплом осеннем солнышке.
Пробуждение было резким: им заткнули рты и схватили за руки. То ли – Елица спала более чутко, то ли – её реакция при пробуждении была более резкой, а, вернее всего, её похитители были более бестолковыми, но она ухитрилась вырваться. Вопя, в истерике от хватающих её мужиков, она подхватила с земли ножик, ибо ни один грибник в лес без ножика не ходит, и, достаточно успешно размахивая им во все стороны, судя по следам крови на лезвии, убежала вглубь леса. Её пытались догнать, но не сумели.
А вот дальше сработали её гадский характер и личный рефрен – «хорьки вонючие». Вместо того, чтобы, как и положено нормальной девке в такой ситуации, продолжать вопить и, не помня себя от страха, лететь стрелой под защиту отеческого дома, или его эквивалента в форме заимки с «богиней смерти», Елица проскочила вдоль берега вперёд, чуть вверх по реке за ближайший мысок, и увидела, как куль с замотанной с ног до головы Трифеной, гребцы положили в лодию. После чего лодка отчалила от берега и пошла вверх. Непрерывно повторяя себе под нос свой «хорьковый» слоган, девка бросилась к «отвечальщику за всё» – то есть, к господину своему, ко мне.
А что я? Какие-то гребуны… где-то в лесу… в какую-то лодку… Ну и какие у меня варианты? Да куча! При моём-то опыте из 21 века… Сходу вижу аж три.
В третьем тысячелетии мне следовало бы выждать три дня и подать в полицию заявление о пропаже человека. Здесь сходная ситуация: выйти на ближайший торг – это в Елно, и три дня выкликать пропавшую рабу. Если за три дня никто не отзовётся, то считать беглой или краденной, и кланяться вирнику или самому посаднику, чтобы сыск начали.
По ГГешному… Возбудиться, воодушевиться… Побежать, поубивать… Неизвестно кого, неизвестно где… Как-то это… глупо. Не моё.
Ну, нормальный ГГ не трахает сироту, дочку только что убитого им священника, прямо в церкви перед ликом древнейшей чудотворной иконы, используя собственные смутные представления о садо-мазо из третьего тысячелетия и средневековый артефакт древесно-лесного происхождения типа «дрючок берёзовый», в качестве замены всех тамошних, из эпохи торжества прогресса, демократии и феминизма, прибамбасов. Не, не ГГ я.
Есть третья, общепринятая здесь, исконно-посконная линия поведения. Состоит она в многократном повторении христианских аналогов «иншалла» и «аллах акбар». Естественно, с добавлением кучи крика, плача, мощных вдохов-выдохов, сначала яростных, а позже – печальных, сжимаемых кулаков и прочих эмоций. Обычно сопровождается избиением домашних:
– Ты…! Дура старая! Куда смотрела! Почему девку со двора отпустила!.. А! Псина облезлая! Почему не гавкала….!
Иногда уровень раздражения пейзан доходит до набивания морд друг другу. Иногда бьют местного «козла отпущения» – какого-то деревенского дурачка или маргинала. Повод можно найти всегда: спал, не спал, спал, но не там… Потом, выпустив пар и излив свою грусть-тоску, такими, всегда доступными, способами, пейзане снова возвращаются к своим обычным делам. К главному своему делу: кормить себя и, заодно, «Святую Русь».
Всё бросить и пойти искать украденную девку или бабёнку… А куда? А как? А с кем? А кто тут останется? А работы деревенские не ждут, каждая должна быть исполнена в свой срок. Пропустил, например, перелёт этих гусей-лебедей – зимой остальным детишкам голодновато будет. Давай подождём, запас семье на зиму оставим да и пойдём. А через неделю-другую уже и след остыл. А и был ли он, след этот? Крестьяне – не охотники, в следах разбираются слабо. Да и то – в лесных. А какой след может быть на воде? Если девку, как тут у меня, в лодейку кинули. А пойдёт та лодейка в городки. А в городках да на торгах следы человека искать по-другому надо. А пейзане этого и вовсе не умеют. А риск? Ведь чужие-то люди и самого «искателя» похолопить могут. Или за медяшку пристукнуть в тёмном углу – чужак же, искать никто не будут. А расходы? А будет ли толк? А время-то идёт, может, девка твоя уже в Царьграде, в Суде тамошней, задком своим своему хозяину серебро под пристанью шлёпает? Да и жива ли? О-хо-хо, грехи наши тяжкие… А может оно и к лучшему? Пойдём-ка, стара, новую себе девку изделаем…
Практика воровства людей в массе разных технологий будет распространена в России всегда. Можно вспомнить «сексуальных рабынь» из числа россиянок начала 21. Иногда для принуждения достаточно просто изъятия паспорта. «Без бумажки ты букашка, а с бумажкой – человек» – народная советская мудрость. Остаётся мудростью и при демократиях.
Можно вспомнит русскую классику – «Станционного смотрителя» Пушкина:
«При сих словах вышла из-за перегородки девочка лет четырнадцати и побежала в сени. Красота ее меня поразила…
…
– Прекрасная барыня, – отвечал мальчишка; – ехала она в карете в шесть лошадей, с тремя маленькими барчатами и с кормилицей, и с черной моською; и как ей сказали, что старый смотритель умер, так она заплакала и сказала детям: 'Сидите смирно, а я схожу на кладбище'».
Там милая сентиментальная история. Об украденной, для сексуальных услуг, проезжим российским офицером – девочке. Закончилась счастливо для всех, кроме отца девушки. Который сам, будучи введённым в заблуждение, и велел девочке ехать с похитителем.
Можно вспомнить, как российские офицеры в 18 веке воровали мальчишек на почтовых трактах, продавая их в крепостные в соседнем уезде.
Вообще, история похищений людей в России старше самой России. Ещё в «Повести временных лет» отмечается обычай большинства славянских племён воровать себе женщин.
Причём, как и в законах франков, различается умыкание с уговором и без. Традиция давняя и очень живучая: всех трёх братьев Карамазовых, например, сделали уже и в 19 веке «умыканием со сговором», то есть – похищение невест с их согласия. Невест, которым больше деваться было некуда. Вторую вообще из петли вынимали.
Сходная форма продолжает и в 21 веке функционировать на Северном Кавказе. Ну, как известно: «… и передать невесту кунакам влюблённого джигита». Или – ещё кому. Или – не очень влюблённому. Тогда девушке, которая считается обесчещенной, остаётся только кидаться с высокой скалы. Впрочем, в самом конце 20 века у таких горянок появился ещё один выход – пойти в смертницы. Именно этот, восходящий к глубокой древности и такой же человеческой глупости, «красивый обычай» является одним из способов формирования шахидов женского рода.
Уже и в начале третьего тысячелетия с трибуны ООН озвучиваются числовые оценки количества людей, живущих в рабских условиях. На уровне 20 миллионов. «Каждый год сотни тысяч мужчин, женщин и детей похищаются и продаются в рабство». Около 60 % из них – «сексуальные рабы», около 80 % из этих «рабов» – женщины.
Молотилка послушно вытаскивала со свалки разные этно-историко-литературные пассажи разных времён и народов по интересующей теме. Типа: как хорошо получилось украсться у Анны Ярославны – королевы Франции. Хотя её, вдовствующую королеву, похитил женатый мужчина, и она несколько лет провела на положении наложницы, отказываясь вернуться к положению королевы, что приводило в бешенство её сына – уже действующего короля, а папа римский упорно не давал похитителю разрешения на развод, но законная жена похитителя успешно умерла, все помирились, и Анна снова подписывала государственные документы вместе со своим сыном.








