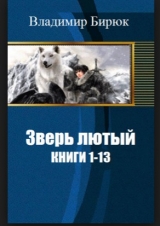
Текст книги "8. Догонялки"
Автор книги: В. Бирюк
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 22 страниц)
Глава 171
Размышляя над различиями жизни реальной и придуманной, литературной ли, сказочной ли, обнаруживаю я странное свойство, вполне проявляющееся в этой истории с похищением Трифены.
Во множестве сказаний и эпосов описывается похищение женщины и её вызволение. История Елены Прекрасной – лишь один из примеров. Возможны варианты с носительницей страшных тайн, или сокрытых знаний, или удивительных артефактов, или с принадлежностью к древнему и великому роду. Какие-то династические, или дипломатические, или матримониальные задачи. История Шрека – одна из разновидностей.
Мотив всегда – любовный. Или – изначально, или – страсть вспыхивает уже в процессе. Но отнюдь не нормальное, по моему мнению, стремление к свободе и справедливости, желание просто освободить человека, пусть бы и женщину, из рук похитителей.
Удивительно, что и иная, очевидная причина для «операции по освобождению», не рассматривается ни в эпосе или фольклоре, ни в литературе.
Ни один чабан не позволит спокойно воровать своих овец. Ни один пастух не позволит уводить коров из своего стада или лошадей из своего табуна. Скот воруют всегда. И если пастух не хочет защищать свою животинку, то он скоро потеряет всё.
Аналогия между воровством скота и воровством людей звучит и в 20 веке в песне Яшки-цыгана из «Неуловимых мстителей»:
«На пять замков запирай вороного —
Выкраду вместе с замками!»
и
«Спрячь за высоким забором девчонку,
Выкраду вместе с забором!».
Хорошо видно: различие чисто технологическое, состоящее лишь в способе ограничения свободы доступа.
Как говорил Наполеон: «Народ, не желающий кормить свою армию, вскоре будет вынужден кормить чужую». Но очевидно и обратное: «пастух, не сохраняющий своё стадо, вскоре будет вынужден сам пастись в чужом». В здешних реалиях: с ошейником на шее.
Мотив сохранения своей собственности, своего скота, своих рабов и рабынь, типичный, постоянный, составляющий обязательный элемент повседневной деятельности великого множества людей, племён, государств в продолжение тысячелетий, практически отсутствует в художественной литературе. И наоборот: мотив весьма редкий, встречающийся в жизни человека единственный раз, да и то весьма не у каждого, мотив спасения возлюбленной – наполняет собой огромное количество страниц, песен, кинолент…
Для меня, выросшего при социализме с его «общенародной» собственностью, и пережившего становление российского «дикого» капитализма, ощущение: «Это – моё. Моё – надо защищать» – очень острое. Жизнь научила. Там ещё, на рубеже второго и третьего тысячелетия.
За «просто женщиной» в той жизни я бы в такую авантюру не полез: равноправие, демократия, эмансипация… «Кто тебе дал право её освобождать? Как ты посмел принять решение без предварительного согласования со всеми заинтересованными дееспособными лицами и компетентными органами?». Правовое поле, цивилизованное государство, уровень достаточной самообороны… Позвоните в полицию, вызовите пожарников… Да ну их, сами разберутся… А вот здесь свою личную овечку, пусть и двуногую… кроме меня – выручать некому.
По обычаю своему, немало обдумывал я это дело и кое-какие пользы в нём
углядел. Не единожды применял я и «ловлю дураков на голую бабу», и лодейку
особую изделал, дабы по рекам быстро бегать да с татей речных взыскивать.
Примечал – как своё сохранить, как чужое забрать. Да и просто скажу: когда
в Бряхимовском бое повалил на нас супостат, когда закричали все: «Мордва!
Мордва!» да назад подалися, то я, сдуру конечно, вспомянув об этом деле, о
победе своей лёгкой да о после того ласках жарких, со всеми-то назад не
успел, впереди строя оказался. А уж потом – только и оставалося голову
свою – уберечь да в других делах умения полученные – употребить.
Дальше пошла рутина обычной сельской жизни. Один из «печных дедков» помер, а двое слегли по болезни – на НКЗ требуется пополнение личного состава.
Светана не дала Фангу: «чудище лесное, а туда же лезет!». Тот, следуя своим велесо-голядским нормативам «приличного поведения в отношениях с дамой», отделал её так, что она три дня лежала – на кухне «минус один».
Домна мне всё про это высказала – «по-натащил с лесу нехристей!» – и сгоряча разругалась со своим Хохряковичем. Естественно – «вся на нервах» – обварила себе ногу. Ничего принципиально нового – смотри «Законы миссис Паркинсон». На кухне – «минус два».
С утра я обнаружил перед крыльцом стоящего на коленях «горниста»: выгнанный Домной из общей постели Хохрякович собрал молодёжь, включая уже и старшего из «мусорных кучев», и устроил «бордельеро» с бывшей Кудряшковой жёнкой в качестве главного инструмента. «Инструмент» несколько пострадал, исполнять основные производственный обязанности по кухне – временно не может. «Минус три».
Прав был Наполеон: «Проститутки – это необходимость. Иначе мужчины набрасывались бы на порядочных женщин на улицах».
Надо вводить специализацию. А то мы тут постоянно голодными ходить будем. Община – растёт, отношения между людьми ещё не устоявшиеся, проблемы будут продолжаться. А пока… удваиваем норму выработки. С учётом улучшения качества питания. Сами понимаете: гусино-лебединые потрошка три раза в день уже неделю. Меньшак возмущается:
– Мясо – есть, мёду – дают. А девки где? Хоть за двенадцать вёрст к своей законной беги.
Я его понимаю, но пока нечем помочь не могу. Терпи дядя, накапливай… «семенной фонд». Во встроенных ёмкостях.
Жердяй с хлебом пришёл. Порадовал. И что – пришёл, и что – вовремя. И новостью: его общество в старосты «на постоянно» выбрало. Так что, «отрубаться» и «хуториться» он пока погодит. И он порадовался: дебил его, вроде, нормальнее становится. В чем причина – не знаю. То ли – на него так травки от Мараны подействовали, то ли – размеренный образ жизни с монотонным однообразным трудом на одном месте – в кузне. Некоторых это успокаивает. А может – большие дозы общения с Любавой.
Любава опять на меня обижается:
– Вот, за своей черномазой гречанкой ты по всей реке бегал, головой рисковал, а ко мне и зайти-глянуть времени нет.
И в слёзы. Плаксивая она чего-то стало. Рановато вроде. Или опять братец подучил? Тоже чудо… лесное-поселковое. То – хнычет, то – щерится. И прозвище у него вполне подходящее – Плаксень. Ну и имена у наших предков!
Возьми-ка, красавица, чистый лист, да напиши-ка вот что:
О погибели земли Русской, об от той погибели избавлении и о глупости Воеводы Всеволжского.
– Вот так вот и пиши: о глупости…
Ныне пришло время, и уже можно рассказать о самой главной моей ошибке и о самой главной для всей Святой Руси радости. О самой большой от дел моих «догонялке».
Едва уяснил я – куда попал да какое время на дворе, то тут же вспомнилось мне и самое главное несчастие вскорости грядущее на народ сей. Бедствие называемое «Погибелью Земли Русской» или «Великим Несчастием», подобно чуме, «Чёрной Смерти», что уничтожит треть людей в странах христианских. Ибо и от сего несчастия каждый третий человек из людей русских убит будет, или от голода да холода сгинет, или в полон в страны незнаемые угнан. Однако же беда сия многократно хуже чумы. Да хоть одно сказать: после чумы пусть и пусты города, а – стоят. После же сего бедствия из каждых трёх русских городов – два пепелищами стали. Половину сих пепелищ заново и отстроить не смогли. Это на Руси-то, где всякое селение через год горит да заново строится!
Несчастие сиё состоит в нашествии новых народов степных. Сколько их разных на Русской Земле бывало… Авары и угры, торки и хазары, печенеги и половцы… Однако же новые народы – татаре и мунгалы – против всех злее. Хуже даже и гуннов с их Аттилой, которому прозвание – «Бич божий». Народы дикие, лютые, в воинском деле – искусные, в бою – хитрые да яростные… «Погибель».
Предожидая сиё бедствие, тщился я поначалу об нём и не заботиться. Ибо быть ему нескоро, лет через восемьдесят от моего здешнего появления. А по делам моим выходило, что и до завтра дожить – иной день удача немалая. Да и силы мои малы были. Размышлять же о бедах, от которых защититься не по силам, полагаю занятием вредным и бессмысленным.
Однако же, когда силы мои возросли, когда основан был городок мой Всеволжск, когда голос мой стал по Руси звучать, вспомнил я и об этой «Погибели». Неверно сказал: не – вспомнил. Ибо и не забывал никогда. Но начал о сей заботе думать, и дела свои так делать, чтобы Святую Русь от «Погибели» уберечь.
Предвидя беду величайшую, предпринимал я и меры, сему несчастию соответствующие. Великие, скорые, жестокие. Следуя часто не исконным стремлениям да нуждам народа русского да князей славных да церкви христовой, но заботам об избежании сего грядущего бедствия. В спорах с новогородцами ли, волынцами ли, в раздорах с государями ли, народами ли сопредельными почитал я уместными деяния особливо жестокие, ибо сравнивал лютость свою не с обычаем, для мест здешних привычным, но с лютостью грядущей, с несчастиями будущими, с «Погибелью».
Да и то сказать: коли идёт человек к смерти, то всякое деяние его от смерти отвращающее – уже благо. Поломай такому руки-ноги – хоть он и криком кричит, а живой. Покуда кости срастутся – глядишь, и ума-разума набраться успел. Вот и я так Русь ломал. Ломал ныне, чтобы наперёд целее осталась. Казнил казнями злыми. Но меньшими, нежели предожидаемыми. Мучил муками тяжкими, да не в пример легче мук грядущих. Противу особой беды и предосторожности особливые уместны.
А зря. Попусту людей рвал да и сам рвался. Не придёт на Русь эта погибель. Иные будут и не мало. Но вот от этой – господь боронил. Не разумом моим, не трудами – божьим промыслом.
А уж кого господь выбрал, чтобы силу свою явить… – ну, пути-то его неисповедимы. А моей заслуги в том, в спасении Святой Руси от «Погибели» – и не видать, «на горчишное зёрнышко».
У Потани со Светаной были дочка – Любава, да сын – Плаксень. Прозвание вполне по характеру его. Родился он от блуда владетеля Рябиновкого Акима Яновича Рябины и рабыни его Светаны. О чём вся усадьба знала. Светана, сойдясь с владетелем-вдовцом при живом-то муже, искала себе в том выгоды, чуть ли не в хозяйки вотчины метила. И брюхом своим, а после и народившимся сынком – хвастала. Владетеля, сынов не имеющего, то отпрыском этим приманивала, то – попрекала. Аким же, оставшись вдовцом, по естеству своему мужскому то подпускал её к себе, то дочерью своей Марьяной и другими пристыжаемый – прогонял. Тако же – и сынка своего Плаксеня.
Ложное положение сего дитяти во всю меру проявлялось и в отношениях дворни, а особливо – сверстников. То все были добры к сему ублюдку и даже и заискивали, то, безо всякой с его стороны причины, начинали дразнить да унижать и даже и бивали жестоко. От того образовался у сего младенца характер вздорный, слабый, но и злобный.
Не имея часто сил дать отпор обидчикам своим, кои собирались в немалом количестве, привык он хитрить да прятаться, откупаться да обманывать. Так, в первое же наше знакомство, погнал он свою сестру Любаву мне для забав постельных. Хоть и была Любава ему едва ли не единственной защитой, превосходя сверстников его и других детишек дворовых силой и ростом, но тщился сей Плаксень сестрицей своей меня подкупить.
С годами сей мерзкий характер отнюдь не изменился к лучшему, но лишь многими хитростями приукрасился, новыми гадостями преумножился. Я же, к стыду своему, до души его достучаться не сумел, не имея на то довольно сил и времени. Может, кто и скажет: на то воля божья была. Да только я-то про себя знаю – не сумел. От чего и случилась для всей Святой Руси великая радость несказанная. И – несказанная, и – несведомая. Окромя меня да ещё одного человека на Святой Руси никто не знал, не ведал – какова «чаша кровавая» нам предназначена была.
Плаксень сей, как и большинство людей моих из Рябиновкой вотчины, перебрался со временем ко мне во Всеволжск. Но в кругу новых сотоварищей своих проявил он в полной мере и злобность, и лживость, и иные таковые же душевные качества. Наконец, учинив особливую шкоду противу воспитателей отроков, устремился он более всего избежать положенного наказания. Для того спрятался на судах проходившего купеческого каравана. А будучи корабельщиками обнаружен, слёзно просил их не выдавать и увезти в края дальние.
Как стало мне позднее ведомо, с караваном купцов кызылбашских прошёл он по Волге. В низовьях же был продан другим купцам – самаркандским. Так и ушёл он в Самарканд и след его на многие годы затерялся.
А ныне вот сошлись вести из разных мест, и могу про дела его далее рассказать.
Переменив пару раз господ своих, Плаксень попал рабом в один из караванов, что ходят ещё далее на восток, в страну Сун. Дорогою новый владелец его уступил мальчишку местному князьку. Плаксень волосом рус был, что в местностях тех есть редкость немалая. Вот и купил местный князёк уродца для забавы. Забава же состояла в подарке сего отрока другому местному князю из народа монгол, из племени тайчиутов – Тартугаю-Кирилтуху. Подарок же сей был с издёвкой.
По преданию, Алан-гоа, проматерь сего народа, родила пятерых сыновей, причём троих младших, которые и числятся родоначальниками собственно монголов («нирун») она родила в блуде, уже после смерти мужа. Когда же двое старших её сыновей стали стыдить свою вечно беременную матушку-вдовицу, то она им отвечала:
– Вы, двое сыновей моих, Бельгунотай да Бугунотай, осуждали меня и говорили между собой: «Родила мол, вот этих троих сыновей, а от кого эти дети?». Подозрения-то ваши основательны. Но каждую ночь, через дымник юрты, в час, когда светило внутри погасло, входит ко мне светло-русый человек; он поглаживает мне чрево, и свет его проникает мне в лоно. А уходит так: в час, когда солнце с луной сходится, процарапываясь, уходит, словно желтый пес. Что ж болтаете всякий вздор? Ведь если уразуметь все это, то выйдет, что эти сыновья отмечены печатью небесного происхождения. Как же вы могли болтать о них как о таких, которые под пару простым смертным? Когда станут они царями царей, ханами над всеми, вот тогда только и уразумеют все это простые люди!
От пятого, самого младшего сына Алан-гоа, Бодончара, по прозвищу Простак, ведёт своё происхождение славный в тех краях род Борджигинов.
Подаренный русоголовый рабёныш был живым намёком: корми сопляка сего и он, когда ты сам, хан, помрёшь, будет брюхатить, подобно вашей проматери, твоих жён. И станут те ублюдки – «царями царей, ханами над всеми». И над детьми самого Тартугая – тоже.
Отказаться от подарка Тартугай не мог, но, уязвлённый в гордости своей, искал повод извести Плаксеня до смерти. Отрок же, видя такую к себе от хозяина неприязнь безо всякой его вины, пребывал в страхе великом и всякими способами старался не допустить ошибки какой-нибудь.
Среди прочих колодников был в том становище и родственник Тартугая по имени Темуджин из рода Борджигинов. 16-го числа Первого летнего месяца в год 1166 от Рождества Христова племя это праздновало Полнолуние веселым пиршеством на крутом берегу реки Онон. Расходились люди с праздника, когда уже заходило солнце. На это празднество Темучжина привёл, по приказу хана, Плаксень. Выждав время, когда все праздновавшие разошлись, Темучжин бежал от слабосильного сопроводителя своего, вырвавшись у него из рук и ударив его по голове своей шейной колодкой. Ибо были они почти ровесниками, а ни силы, ни сноровки в драке – у Плаксеня, привыкшего исподтишка гадости делать, не было.
Темуджин, опасаясь, как бы его не заметили, скрылся в воду. Он лежал в заводи лицом вверх, а шейную колодку свою пустил плыть вниз по течению. Между тем, Плаксень, в страхе от неизбежного наказания, громко возопил:
– Упустил я колодника!
На его крики со всех сторон стали собираться люди. Они тотчас же принялись обыскивать рощу Ононскую: светил месяц, и было светло, как днем. Работник хана Тортугая, сулдусский Сорган-Шира проходил как раз мимо того места, где Темуджин лежал в заводи. Он заметил беглеца и сказал:
– Вот это дело! За то, видно, ты и не мил своим братцам, что так хитер; что:
Во взгляде – огонь,
А лицо – что заря.
Но не робей, так и лежи, а я не выдам!
и проехал дальше. Плаксень же, не имея навыка поиска сокрытого в местностях диких, смотрел более не на кусты и деревья, но на людей. Не увидев Темуджина в водах речных, он, однако, углядел заминку Сорган-Шира, и, подойдя к заводи, где скрывался беглец, в досаде от непонимания причины сей заминки, топнул босой ногой по воде. Разбежавшаяся от сего топанья волна плеснула во все стороны, и залила Темуджину выставленные над поверхностью заводи ноздри. Он захлебнулся, закашлялся и выскочил из своего тайного убежища. Однако колодка его от рывка запуталась в прибрежной траве, так что кашляющий, задыхающийся и беспорядочно мечущийся беглец вновь упал в воду. Когда сбежавшиеся люди хана вынули Темуджина из вод реки, то откачать его уже не смогли.
Утопление почитается у народа сего смертью злой, позорной. Особым проявлением немилости духов. Посему, Темуджин, сын Есугея-баатура, внук Бартан-баатура, правнук великого Хабул-хана, впервые собравшего эти племена воедино, был закопан без почестей в пустом месте на окраине той рощи, где пытался безуспешно спрятаться.
Вот так, одним топаньем ножкой по едва текучей воде одного ни на что не гожего рабёныша был изведён самый корень великой «Погибели» всей Святой Руси. Да и не только её одной. Ибо тот утопленник Темуджин выросши, должен был бы собрать все народа тамошней степи и основать величайшее государство. Истребив для того великие и богатые царства, многие народы, несметное количество людей разных. Цинь и Сун, Тангут и Катай, Бухара и Хорезм, Синд и Иран… А ещё – аланы, яссы, мадьяры, ляхи, немцы, чехи, кипчаки, буртасы, булгары, мордва… были бы унижены или уничтожены, порабощены и разорены. Самим ли Темуджином или отпрысками его.
Не будет этого! Самый корень «Великого Несчастия» – изведён есть!
Похоронив же утопленника, тамошние жители повели обычное своё существование далее. Плаксень по осени был хозяином своим пойман на воровстве мелком, бит нещадно и в холода помер.
Племена тамошние, даже и не ведая сколь велика была бы их слава, стань Темуджин их предводителем, и поныне воюют в степях своих, то объединяясь в союзы и нападая на соседей, то схватываясь между собой. Люди мои называют имена вождей тамошних: Джамуха-сечен из племени джадаран, Тоорил-хан из племени кереит, Чильгир-хан из племени меркит. Первый из них избран тамошними народами предводителем с титулом «гурхан» – «хан ханов». Во многих походах он преуспел, однако собрать всю степь в кулак ошмётком, как родился с кровавым мясом в кулаке Темуджин – не сумел. Нету там, за восточными горами, никакого «чингисхана».
Имя Чингис, данное Темуджину народом его по славе великой и кровавой, означает «сильный» как в части качеств телесных, так и в одарённости редким умом, твёрдой волей, военным и организаторским талантами, красноречием.
Вот, девочка, говорят иные: Воевода – мудр, Воевода – пророк, Воевода – всякое грядущее прозревает… А самого-то главного я предвидеть-то и не сумел! Хороший мне урок от гордыни да зазнайства. Вон, дитё худое, бестолковое ножкой топнуло, и десяток стран да царств не завалился. Уготовано им было пасть, а не упали. Вон оно какое – дело из великих величайшее. А моей доли в том – и не разглядеть. Что дал Плаксеню этому живым быть? Так сотни мальчишек на моём хлебе выращены. Что в новое место жить перевёл да чуток, краешек мира увидать позволил? Так тысячи от меня нового повидали. А вот в то место на той реке да в тот день привести да надоумить по воде топнуть… – промысел божий. От меня-то мелочь мелкая – бы было кому «прийти» да «топнуть».
Говорят ныне: сильна Русь славными героями, храбрыми воинами, мудрыми правителями. Верно говорят. Только крепко запомнить надо: ни один человек во всём мире, ни я сам, ни ещё хоть кто – столь великой пользы для Руси не сделал, как тот плаксивый, слабый, лживый мальчонка, который за тридевять земель с досады водой плеснул. В нужное время да в нужном месте. А мы-то, «витязи русские», все так, «за горой стояли да в носу ковыряли».
Вот и выходит, что моя забота – народ русский беречь да приумножить. А уж добрые дела люди и сами сделают. «Была бы шея – хомут найдётся». «Шеи» – и есть забота моя. Чтоб было господу – кому «хомуты» свои надевать.
Да ты, никак, деточка, меня утешать собралася?! На милосердие божье уповать?! Это Ему передо мною каяться пристало! Что мне дадено было – я всё использовал. Я таланты свои в землю не зарывал, на печи-то не отлёживался. Не берёг ни тела своего, ни души, ни разума. Сколь сил да умений было – ничего не таил, не прятал. Чем Господь наградил – то и в дело пустил. Это Он всевидящий да всезнающий – не я! Это Он мне не сказал, не просветил! И уж коли я ныне в крови людской – по плечи, в дерьме человеческом – по ноздри, так это – по дарам Его! Это Ему у меня прощения просить надобно!
Не утешай, деточка. Да и не сможешь – ты-то в нынешнем выросла, тебе такая вот Русь, как солнца восход – от веку данной кажется. А я-то и иные пути вижу. Где крови да муки по-менее. Альтернативные… истории.
Кстати о детях. Повтора истории с Трифеной мне не надо. Пришлось устроить совещание с Акимом, Потаней, Хрысем и другими «матёрыми» по этой теме.
Свободная дискуссия показала: вокруг меня живут нормальные русские люди. В смысле: «Пока гром не грянет – мужик не перекрестится» – общепринятая русская мудрость.
– Да, конечно… ай-яй-яй как не хорошо… вот же ж каки нехристи бывают…
– А делать-то чего?
– А зачем «делать»? Ты же вернул же…
Мать вашу, не ругавшись! Как исключить такие ситуации в будущем?! Отвечайте, вы, факеншит, мужи добрые!
– Дык… Оно ж… Ну, не пускать девок с селища…
– А хто ягоды собирать будет? А другие дела делать? Не…
– Слышь… Эта… Cказать чтоб опаску имели…
– Во! Точно – как чужих углядели – бегом домой…
– Ну ты сказал – это ж детва, они ж и под носом чего – не видят. У меня давеча во дворе, слышь-ка, идёт меньшая к хлеву да и…
– У тя по двору завсегда хрень всякая разбросана, любой ноги поломает. Я вот третьего дня зашёл…
– А чё те по моему двору ходить? К кому это?
Можно долго рассуждать об особенностях селянского образа жизни, о его прелестности, элегичности, народности, гармоничности… Но жить так нельзя. Крестьяне не в состоянии себя защитить. Они не обладают предусмотрительностью в отношении потенциальных опасностей, выходящих за рамки повседневной, с отцов-прадедов заведённой, жизни. Не потому, что тупые, а потому, что не имеют опыта планирования долговременных периодов. Нет накопления и анализа информации, связанной с низкочастотными событиями.
Крестьянский цикл – год. Зиму они предусматривают. Это уже прогресс: в 21 веке на Земле найдены человеческие племена, которые вообще не имеют концепции времени. Живут сегодняшним днём, понятия «вчера» и «завтра» у них нет. Соответственно, запасов пищи – не делают.
«Но каждую пятницу,
Лишь солнце закатится,
Кого-то жуют под бананом».
Понятно, что такая «вневременная» популяция может выжить только в тропиках. Где постоянно есть бананы и – что под ними пожевать.
У здешних хлебопашцев – воспринимаемый временной период больше. Но уже двух-трёх-летний севооборот – предел интеллектуального напряжения. Одиннадцатилетний солнечный цикл и связанная с этим периодичность неурожаев – запредельно.
Другая крайность в части накопления опыта редких событий – евреи. Ещё не развеялся дым над пожарищем Второго Храма, как на улицах Иерусалима зазвучал псалом, составленный по случаю разрушения Первого. Через шесть с половиной веков.
«Дочь Вавилона, опустошительница!
Блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам!
Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень!».
Но это не фольк, не сказки и былины. Это религиозные, сакральные тексты. Записанная, стабилизированная информация. Другой способ хранения. Память церковников, но не память народа.
Мда… Как-то не по-христиански. «Разобьёт младенцев о камень»… Хотя исполняется в каждую пятничную заутреню во всех православных храмах. Но тут хоть есть долговременная цель. А в системах без памяти или с кратковременной памятью – и цели такие же. Излил собственную обиду кулаком на морду соседа – цель достигнута, переходим к следующей серии.
Если бы у здешних пейзан девок воровали еженедельно – они бы запомнили. Нашли бы средства защиты и приняли бы меры. А так…
– У боярича робу покрали.
– И чего? На всё воля божья… Да он же и вообще не из наших… Не наше это дело – наша хата с краю, нам-то чего корячиться…
Я как-то от этой русско-общинной непроходимой глупости растерялся.
«Не спрашивай – по ком звонит колокол. Он звонит и по тебе» – это же азбука! Ведь понятно же: прохожим татям да шишам без разницы – чья девка под руку попалась.
Селяне к таким вещам относятся… сдержанно. При здешней детской смертности… одним больше – одним меньше… «Доброжелательное равнодушие».
Похоже на особенности поведения медведицы: очень резкая реакция при попытке украсть медвежат во время прогулок по лесу. И почти нулевая – при воровстве из берлоги: «а и был ли медвежонок»? Смутно как-то помниться…
На «Святой Руси» – к медвежьей амнезии от зимней спячки добавляется ещё и проповедь от Иисуса. Достоевский в «Братьях Карамазовых» приводит пример:
«Или не знаешь ты, – сказал ей святой, – сколь сии младенцы пред престолом божиим дерзновенны? Даже и нет никого дерзновеннее их в царствии небесном: ты, господи, даровал нам жизнь, говорят они богу, и только лишь мы узрели ее, как ты ее у нас и взял назад. И столь дерзновенно просят и спрашивают, что господь даёт им немедленно ангельский чин. А посему, – молвил святой, – и ты радуйся, жено, а не плачь, и твой младенец теперь у господа в сонме ангелов его пребывает».
При таком подходе, первое, что должен сделать искренне верующий человек для своего искренне любимого ребёнка – помочь ему умереть. Или, как минимум, не прилагать усилий для сохранения его живым.
– Ты помыла руки после нужника?
– Не-а. А зачем?
– Притащишь заразу, ребёнок заболеет и умрёт.
– Так слава богу – ангелом станет! А руки мыть… да ну его, только возни больше.
«Радуйся, жено, а не плачь, и твой младенец теперь у господа»…
Приведённое выше утешение от Фёдора Михайловича обращено к женщине, которая последовательно спокойно похоронила всех своих четверых детей, но переживает исключительно по четвёртому. При такой смертности… может быть что-то в доме не в порядке? Может, просто помыть надо? Продезинфицировать? Щели в рамах законопатить? Выгребную яму вычистить?
В Москве в 80-е годы 19 века – ну это когда:
«Москва златоглавая,
Звон колоколов,
Царь-Пушка державная,
Аромат пирогов.
Конфетки-бараночки,
Словно лебеди, саночки.
„Эй вы, кони залетные!“ —
Слышен звон с облучка.
Гимназистки румяные,
От мороза чуть пьяные,
Грациозно сбивают
Рыхлый снег с каблучка»
треть младенцев умирает, не дожив до года, половина – не дожив до пяти. Причина – отсутствие обустроенных отхожих мест и достаточного числа ассенизаторских обозов. Проще: свежее дерьмо по дворам и улицам. Поэтому «Гимназистки румяные… Грациозно сбивают» всякое… прилипшее к каблучкам.
Как-то странно у нас получается: или Царь-пушка – или нужники. А чтоб вместе – не сходится. То-то городские санитарные врачи той эпохи, даже будучи государственными чиновниками, состояли во всевозможных противу правительственных оппозициях. Нормальному человеку видеть постоянно дохнущих детей и верить в систему…








