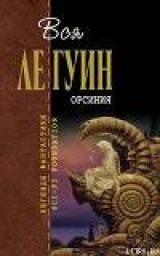
Текст книги "Орсиния (сборник)"
Автор книги: Урсула Кребер Ле Гуин
Жанр:
Альтернативная история
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 45 страниц)
Неделя за городом
В Кливленде, штат Огайо, было солнечное утро 1962 года, а в Красное шел дождь, и улицы, зажатые между серыми стенами домов, были полны народа.
– Черт, прямо за воротник льет, – пожаловался Казимир, но его приятель в соседней кабинке уличного ватерклозета не расслышал – был увлечен собственным монологом:
– Историческая необходимость – это солецизм чистейшей воды! Ведь история не что иное, как то, чему необходимо было случиться. Однако и расширять значение этого понятия тоже нельзя. Кто его знает, что, собственно, случится дальше…
Оба вышли на улицу; Казимир, на ходу застегивая брюки, заметил мальчика, который не сводил глаз с огромного, метра два с половиной длиной черного футляра, похожего на гроб и прислоненного к стене ватерклозета.
– Что это? – спросил мальчик, и Казимир пояснил:
– Здесь тело моей двоюродной прабабушки. – Он подхватил «гроб» и вслед за Стефаном Фабром скрылся в пелене дождя.
– Фарс! Детерминизм – это фарс. Все что угодно, лишь бы не испытывать благоговейного страха. Нет, вы покажите мне истоки, семя всего этого? – Стефан остановился и ткнул пальцем в грудь Казимиру. – Хорошо, я покажу его вам: это яблочное зернышко. Но могу ли я утверждать, что из него вырастет яблоня? Нет! Мы полагаем, что существует Закон, поскольку не существует свободы. Однако никакого Закона тоже не существует. А существуют развитие и гибель, радость и ужас, и существует бездна – все остальное выдумываем мы. Так, сейчас мы опоздаем на поезд.
Они принялись яростно проталкиваться сквозь толпу на улице Тийпонтий. Дождь полил вовсю. Стефан Фабр решительно продвигался вперед, размахивая своим портфелем; губы строго сжаты, бледное лицо мокро от дождя.
– Господи, и почему ты не взял с собой вместо этого гроба какое-нибудь пикколо? Дай-ка я понесу, – и он отобрал у Казимира футляр, когда тот в очередной раз столкнулся со спешившим на автобус чиновником.
– Наука, влачащая бремя Искусства, – провозгласил Казимир. – Что, тяжело? – Однако его друг, нахмурившись, волок футляр дальше, хотя, к тому времени как они добрались до Западного вокзала, здорово задыхался.
По платформе, окутанной клубами паровозного дыма и пеленой дождя, они уже бежали вместе с другими пассажирами, прислушиваясь к пронзительным свисткам и гремевшему из динамиков голосу, что-то назойливо повторявшему на санскрите. Совершенно без сил они ввалились в первый же вагон, но все купе оказались на удивление пусты. Видимо, вот-вот отправиться должен был совсем другой поезд – битком набитая пригородная электричка. Минут десять они сидели совершенно неподвижно.
– Что, кроме нас больше пассажиров нет? – мрачно спросил Стефан Фабр, подойдя к окну.
Потом поезд один раз громко свистнул, и стены за окном поплыли назад. Капли дождя ударялись о стекла, оставляя на них косые дорожки. По причудливо переплетающемуся множеству рельсов они взлетели на мост; отсюда оба молодых человека могли заглянуть в окна чужих спален, мимо пролетали кирпичные стены жилых домов с огромными надписями на них. Потом вдруг все исчезло, утонуло во тьме дождливого вечера, уплыло куда-то на восток. Теперь видна была только гряда холмов, казавшихся черными на фоне бесцветного, начинающего очищаться от туч неба.
– Ну вот мы и за городом, – сказал Стефан Фабр.
Он вытащил из портфеля, из-под стопки носков и маек журнал по биохимии, надел очки в темной оправе и погрузился в чтение. Казимир откинул прилипшие ко лбу мокрые волосы, прочитал надпись на оконном стекле – «Не высовывайтесь!» – осмотрел трясущиеся на ходу стены купе, полюбовался дорожками, которые оставляли на стекле дождевые капли, потом задремал и в ужасе проснулся: ему приснилось, что вокруг него рушатся стены. Поезд только что отошел от Окаца. Стефан сидел, глядя в окошко, бледный, черноволосый, своей отрешенностью подтверждая реальность привидевшегося Казимиру кошмара.
– Ничего не разглядеть, – сообщил Стефан. – Ночь кругом. Только за городом еще и осталась настоящая темная ночь. – Он смотрел куда-то вдаль, всматривался сквозь собственное отражение в стекле в ночь, наполнившую его глаза благословенной тьмой.
– Итак, мы с тобой едем на поезде, идущем в Айзнар, – сказал Казимир, – но мы не можем быть уверены, что он идет именно туда. С тем же успехом он может идти и в Пекин. Он может также сойти с рельсов, и тогда всем нам конец. А если мы все-таки приедем в Айзнар? Что такое Айзнар? Просто слово и ничего больше. Господи, какой мрак! – Казимир снова вдруг вспомнил рушащиеся стены из своего кошмара.
– Напротив, твои рассуждения должны вселять бодрость, – откликнулся его друг, – ибо нужен немалый труд, чтобы наш мир не рассыпался, особенно если смотришь на него под таким углом. И труд этот безусловно имеет смысл. Строить города, поддерживать кров дома своего верностью… Нет, не верой. Верностью. – Стефан снова уставился во тьму за окном сквозь отражавшиеся в стекле собственные глаза. Казимир протянул ему половину шоколадки, похожей на глину. Они подъезжали к Айзнару.
Дождь поливал усыпанные золотистыми листьями сикомор тротуары; улицы были освещены плохо; автобус, идущий до Вермейра и Превне, поджидал пассажиров под промокшими насквозь деревьями. Футляр устроили на заднем сиденье. В проходе цыпленок со шнурком на шее скреб пол в поисках зерен, другой конец шнурка держала в руке какая-то женщина с копной курчавых волос; пьяненький рабочий с фермы громко разговаривал с водителем автобуса. Автобус, постанывая, выезжал из Айзнара на южную дорогу, погружаясь в деревенскую ночь, ту самую благословенную ночь и темноту, которой уже не бывает в городе.
– …А я и говорю ему: ты ведь не знаешь, что завтра случится…
– Послушай, – сказал Казимир Стефану, – если Вселенная бесконечна, то значит ли это, что все, способное в принципе в ней случиться, уже где-то случается – не здесь, не с нами, в другом временном измерении?
– …А он мне: в субботу, говорит, в субботу…
– Не знаю. Наверное. Неизвестно ведь, что именно в ней возможно. И слава Богу. Если б мы это знали, я бы, пожалуй, застрелился, а ты?
– …возвращаюсь в субботу, а я ему: в субботу, значит, черт бы ее побрал…
В Вермейре развалины главной башни замка были мокры от дождя; здесь пьяный сошел, и в автобусе наконец стало тихо. Стефан Фабр помрачнел, нахохлился, сообщил, что у него болит горло, и погрузился в некрепкий сон смертельно уставшего человека. Голова у него раскачивалась в такт бесконечным ухабам на неровной, бегущей по предгорьям дороги, а автобус все стремился на запад, пробивая фарами туннель света в кромешной черноте. Вдруг над дорогой склонилось какое-то огромное дерево, точно предлагая автобусу убежище. Это был старый дуб, и автобус остановился под ним. Двери открылись, в салон ворвался свежий воздух, замелькали огоньки фонариков, форменные ботинки, фуражки. Откидывая со лба светлые волосы. Казимир пробормотал:
– Ну вот, вечно одно и то же. Понимаешь, здесь всего километров восемь до границы. – Молодые люди вытащили из нагрудных карманов документы.
– Так. Фабр Стефан, город Красной, улица Томе, 136. Студент, МР 64100282А. Аугескар Казимир, город Красной, улица Сорден, 4. Студент, МР 80104944А. Куда направляетесь?
– В Превне.
– Оба? По служебным делам?
– В отпуск. Хотим недельку в деревне пожить.
– А это что такое?
– Футляр для виолончели.
– А что в нем?
– Виолончель.
Футляр поставили на пол, открыли, снова закрыли, вытащили из автобуса и положили на землю. Потом снова открыли, и в свете электрических фонариков возникла виолончель, огромная и одновременно хрупкая – волшебный предмет среди грязи, армейских ботинок, армейских ремней с металлическими пряжками и фуражек.
– Ее нельзя на мокрую землю ставить! – возмутился Казимир. Стефан, сидевший напротив, незаметно толкнул его.
Таможенники ощупывали виолончель, трясли ее что было сил.
– Послушай, Кази, может она открывается?
– Нет, она целая, ее открыть невозможно.
Один из этих людей, толстяк, похлопал инструмент по блестящему деревянному боку и отпустил какую-то шутку в адрес собственной жены. Стефан засмеялся, но тут кто-то еще грубо схватил виолончель, заскрипели колки, и в шуме дождя и ворчании работающего на холостых оборотах автобусного двигателя возник странный, резкий, быстро умолкнувший звук: лопнула струна. Стефан схватил Казимира за руку. Когда автобус снова тронулся в путь и они снова оказались рядом в теплой душной темноте, Казимир сказал:
– Извини, Стефан. Спасибо тебе.
– Ты сможешь ее исправить?
– Да, просто колок сломался. Я поставлю другой.
– Господи, как горло дерет. – Стефан потер виски и прикрыл ладонью глаза. – Похоже, я действительно простудился. Черт бы побрал этот дождь!
– Мы уже к Превне подъезжаем.
В Превне единственная улица, освещенная двумя фонарями, терялась в тумане моросящего дождя. За крышами домов что-то темнело – то ли верхушки деревьев, то ли холмы. Стефана и Казимира никто не встретил, поскольку Казимир забыл указать в письме, какого числа к вечеру они приедут. Он позвонил по единственному здесь телефону-автомату и вернулся к Стефану, который ожидал его вместе с виолончелью в футляре, сидя за столиком в кафе в здании местной почты.
– Дело в том, что отец уехал на вызов. Так что или пошли пешком, или придется подождать здесь. Ты уж извини, пожалуйста. – Продолговатое лицо Казимира было расстроенным и виноватым. – Здесь всего километра три.
Решили пойти пешком. Они молча шагали по грязной дороге среди полей сквозь дождь и тьму. В воздухе пахло сырой землей. Казимир начал было насвистывать, но капли дождя попадали в рот, и вскоре он перестал свистеть. Темнота была такой непроницаемой, что идти приходилось очень медленно, не зная, куда попадет при следующем шаге нога. Стефан не мог бы сказать даже, насколько ровной была дорога. Стояла тишь, лишь в полях вокруг слышался бесконечный шепот дождевых капель. Начался подъем. Впереди темнела вершина холма, в темноте казавшаяся лишь еще одним, более плотным сгустком тьмы. Стефан остановился и поднял воротник пальто; голова у него кружилась. Передохнув, он снова двинулся вперед и в промозглой, полной шепота дождя тишине явственно услышал где-то за холмом негромкий, но звонкий девичий смех. Потом на вершине холма вдруг вспыхнули огни, мерцающие, манящие.
– Что это? – спросил растерянно Стефан и остановился. Чары тьмы были разрушены. Прозвенел детский крик:
– Вон они!
Огни впереди затанцевали и стали спускаться к ним, они со всех сторон были окружены огнями, зовущими голосами, из темноты в свете электрических фонариков появлялись чьи-то лица и руки и снова исчезали в ночи; вновь, но на этот раз совсем рядом, прозвучал тот же очаровательный девичий смех.
– Отец так и не вернулся, а вы все не появлялись, ну мы и решили пойти вас встречать.
– А ты привез своего друга? Где же он?
– Привет, Кази! – Светлая голова Казимира склонялась то к одному, то к другому.
– А где же твоя скрипочка? Ты разве ее с собой не захватил?
– Тут всю неделю льет и льет.
– Виолончель мы оставили у господина Праспайеца на почте.
– Давайте вместе сходим за ней, так приятно прогуляться!
– Меня зовут Бендика, а вас? Стефан?
Она засмеялась, когда они в темноте попытались пожать друг другу руки, потом подняла фонарь повыше и оказалась темноволосой и очень высокой, почти такой же высокой, как брат; ее единственную из всех Стефан рассмотрел достаточно хорошо. А потом они все вместе пошли назад в Превне, болтая, смеясь, мигая фонариками, свет которых метался по дороге и по сорной траве у обочин; порою же столб света взлетал вверх, пытаясь пробиться сквозь ставший из-за дождя очень плотным воздух. Стефану удалось увидеть их всех сразу лишь на почте, пока Казимир ходил за своей виолончелью: двое мальчиков, мужчина, высокая девушка по имени Бендика, та молоденькая блондинка, что особенно нежно расцеловала Казимира, еще одна блондинка, помоложе, – он рассматривал их всего минуту, а потом они снова вышли на дорогу, и ему снова пришлось гадать, которая же из трех девушек – а может, из четырех? – смеялась тогда вдали за холмом. Холодный дождь касался его разгоряченного лица. Рядом с ним, направив свет фонарика на дорогу, шел тот мужчина.
– Меня зовут Йоахим Брет, – сообщил он.
– А, вы энзимами занимаетесь! – голос у Стефана звучал хрипло.
– Да, а вы чем?
– Молекулярной генетикой.
– Да не может быть! Замечательно! Вы, наверное, с Метором работаете? Заглянете ко мне потом, хорошо? Вы американские журналы регулярно читаете?
– И, словно поднимаясь виток за витком по спирали, они проговорили так половину пути. Брет был словоохотлив, Стефан лаконичен – он по-прежнему чувствовал головокружение и все время прислушивался к смеху девушек, которые, к сожалению, смеялись одновременно, так что проверить себя он никак не мог. Потом вдруг все смолкли, слышны были лишь звонкие голоса мальчишек, бежавших далеко впереди.
– А вон и дом наш, – сказала рядом со Стефаном высокая Бендика и указала куда-то в сторону неведомого желтого сияния.
– Ты еще тут, Стефан? – окликнул его из темноты Казимир.
Он что-то проворчал в ответ; его раздражал их глупый добродушный смех, бесконечное веселье, суета, крики, переполненный энтузиазмом Брет, сияние желтых окон впереди, для всех них означавших дом. Только не для него. В прихожей они сняли с себя мокрые пальто и куртки и куда-то разбежались, но потом собрались снова и их стало еще больше, когда все стали рассаживаться вокруг стола в темноватой комнате с высокими потолками, наполняя ее шумом и светом принесенных с собой ламп. На столе уже дымился кофе и стоял пирог, испеченный матерью Казимира. Она поспешно, хотя и спокойно сновала туда-сюда. Голова ее была украшена короной кос, еще довольно темных, но с сильной проседью. Фигурой она напоминала виолончель Казимира. У нее было семеро детей, и она тут же присоединила к ним Стефана, не делая между ним и своими сыновьями никаких различий. Детей между собой она различала только по именам – Валерия, Бендика, Антоний, Брюна, Казимир, Йоахим, Поль. Шутки и смех не умолкали, невысокая темноволосая девушка смеялась прямо-таки до слез, Казимир уже не убирал со лба свои светлые волосы. Тут же двое одиннадцатилетних близнецов непрерывно ссорились из-за пустяков. Потом худой улыбающийся Йоахим взял гитару и заиграл, склонив голову, точно любопытная ворона. Его правая рука, перебиравшая струны, то ли была искалечена, то ли это было врожденное уродство. Все запели, не пел один Стефан: он этих песен не знал и у него страшно болело горло. Впрочем, он так или иначе петь бы ни за что не стал и теперь сидел, враждебно поглядывая на остальных. Вошел доктор Аугескар. Он поздоровался с Казимиром за руку и сразу затмил его собой – высокий король и хрупкий, не похожий на него сын-наследник.
– А где же твой друг? Простите, что не смог вас встретить – срочно вызвали. Пришлось подниматься в горы. Удалил аппендикс прямо на обеденном столе, точно гуся перед Рождеством потрошил. Ступай-ка спать, Антоний. Бендика, принеси мне стакан. Тебе налить, Йоахим? А вам, Фабр? – Он разлил красное вино и сел со всеми вместе за огромный круглый стол. Они снова запели. Доктор Аугескар первым начинал песню и вел остальных. Казалось, что его одного вполне достаточно, чтобы заполнить всю комнату. Одна из его светловолосых дочек пыталась кокетничать со Стефаном, маленькая темноволосая по-прежнему корчилась от смеха, Бендика поддразнивала Казимира, Брет исполнил любовную песню на шведском – было еще не поздно, часов одиннадцать вечера. Стефан вдруг поймал на себе взгляд серых ясных глаз доктора Аугескара, брошенный из-под его светлых бровей.
– Вы простужены?
– Да.
– В таком случае вам лучше лечь в постель. Диана, где у нас Фабр будет спать?
Казимир тут же с виноватым видом вскочил и повел Стефана наверх, по коридору, где пахло сеном и дождем, мимо бесконечных комнат.
– Когда у вас завтракают?
– О, в любое время! – У Казимира всегда были очень приблизительные представления о времени. – Спокойной ночи, Стефан.
Однако ночь выдалась беспокойная. Ему стало совсем плохо, всю ночь изуродованная рука Брета рвала одну длинную, свернувшуюся кольцами струну за другой, и они лопались со знакомым жалобным звуком, а он приговаривал, ухмыляясь: «Так-то ты за ними ухаживаешь – хуже всех». Утром Стефан встать не смог. Залитые солнцем стены почему-то кренились к нему, обступая кровать, а небо вытягивалось в голубую ленту и проникало в комнату через окна, а потом надувалось, точно огромный воздушный шар. Он лежал в постели, запустив руки в свои черные жесткие волосы, и стонал. Волосы, казалось, кололи голову, как булавки. Потом вошел тот высокий мужчина с золотисто-седой головой и очень уверенно объявил:
– Мальчик мой, да вы совсем больны.
Эти слова пролились ему на душу бальзамом. Да, болен, он болен, а стены и небо в полном порядке.
– Ничего себе температурка! – сказал доктор. Стефан в ответ улыбнулся и чуть не расплакался, чувствуя себя важной персоной, о которой теперь позаботится этот одинаково добрый ко всем пациентам большой человек, похожий на короля, такой же уверенный в себе и такой же равнодушно-снисходительный к окружающим, как солнце в небе. Но солнечный свет не проникал в темную чащу его недуга, в потайные пещеры и закутки его страданий, а через некоторое время туда перестала поступать и живительная влага – вода.
Дом стоял тихий и днем, залитый лучами сентябрьского солнца, и ночью.
В тот вечер госпожа Аугескар, уронив на колени шерстяные нитки, иглу и носки, которые штопала, все время поднимала свою украшенную короной кос голову и прислушивалась к звукам наверху – так, много лет назад, слушала она, не плачет ли ее первенец Казимир в своей колыбельке.
– Бедный мальчик, – шептала она. И Брюна тоже поднимала свою светлую головку и прислушивалась, впервые услышав одинокий зов из тех темных лесов болезни и одиночества, в которых сама ни разу не бывала. Дом стоял вокруг них спокойно, как крепость. На следующий день мальчикам разрешили играть на улице дотемна, пока не пошел дождь. Казимир что-то выпиливал посреди кухни для своей виолончели. Его лицо, склоненное над блестящим грифом, было спокойным и замкнутым; он продолжал работать, даже когда на кухню заходил кто-то еще из молодежи поболтать. Пришедший обычно садился на табуретку, или пристраивался у раковины, или прислонялся к стене, и начинались бесконечные разговоры – в конце концов, собравшимся на каникулы семерым молодым людям не под силу было подолгу хранить молчание. Но среди их болтовни все время как бы слышался глубокий, негромкий, мелодичный голос виолончели, говорившей без слов; голос ее был похож на тот зов из чащи леса, который все слышался Брюне, так что она, утратив вдруг терпение и наскучив зависимостью от остальных, сама по себе, не воспринимая себя в данном случае ни как дочь, третью по счету, ни как четвертого ребенка в семье, ни как члена всей этой молодой компании, скользнула по лестнице наверх, чтобы собственными глазами увидеть, какова она, эта тяжелая болезнь, эта смертельная опасность.
Такого она не видела никогда. Молодой человек спал. Он был очень бледен; черные волосы, разметавшиеся по белой подушке, казались четкой надписью – но только на чужом языке.
Брюна вернулась вниз и сказала матери, что заглядывала к больному и тот спокойно спит; что ж, в какой-то степени это была правда, но не вся. Только что наверху она еще раз получила подтверждение тому, что было раньше для нее недоступно, непостижимо; теперь она была уже готова пройти сквозь темную лесную чащу; она стала взрослой и понимала, что вполне может тоже умереть. И ее провожатым в этом лесу стал тот молодой человек, что явился к ним в пелене дождя уже больной пневмонией.
На пятый день после обеда Брюна снова поднялась в его комнату. Он уже потихоньку поправлялся и лежал, слабый, но довольный, размышляя о той утренней прогулке лет десять назад, когда они с отцом и дедушкой отправились на карьеры. Стоял апрель, карстовая равнина уже подсохла и была залита солнцем. Всюду цвели голубые цветочки. Когда они миновали карьеры «Чорин компани», разговор вдруг переключился на политику, и Стефан понял, что они специально ушли подальше от города, чтобы иметь возможность хоть что-то сказать друг другу вслух и чтобы ребенок тоже послушал, что говорят взрослые. «Знаешь, муравьев-рабочих, муравьев-солдат всегда будет предостаточно, хватит, чтобы все муравейники заполнить», – сказал отец. Дедушка, сухой, резкий, все еще порывистый, хотя ему уже перевалило за семьдесят, воскликнул сердито, хотя на самом деле был куда мягче сына и почти настолько же уязвим, как его тринадцатилетний внук: «Ну так уезжай отсюда, Коста! Почему же ты отсюда не уезжаешь?» Впрочем, он просто подначивал отца. Ни дед, ни отец никогда бы оттуда не уехали, никуда бы не сбежали. И Стефан шагал рядом с ними как взрослый мужчина среди взрослых мужчин; они вместе шли по бесплодной равнине, голубой от апрельских недолговечных цветов; отец и дед разделяли с ним свой гнев, свое бесплодное беспомощное ожесточение, свою недолговечную, словно взметнувшиеся языки синего пламени, ярость. Разговаривая в полный голос под открытым небом, они вручили Стефану ключи от мира взрослых, от той тюрьмы, где обитали сами и где, конечно же, станет жить и он. Но они знавали и другие дома. Ему же пока не довелось. Как-то раз дедушка, Стефан Фабр, положил руку на плечо Стефана-внука и сказал:
«А что бы мы делали со свободой, Коста, если б ее имели? Что сделал с ней Запад? Сожрал. Набил ею брюхо. Большое, прямо-таки выдающееся брюхо – вот что такое Запад. Хотя правит этим брюхом мудрая голова, голова настоящего мужчины, обладающая мужским разумом и мужским взглядом на вещи; зато все остальное на Западе – это брюхо. Такой человек не способен ходить. Он только и делает, что сидит за столом и все ест, ест да придумывает машины, которые поставляют ему еще больше еды… Порой он бросает еду под стол черным и желтым крысам, чтобы те не подтачивали стены его дома. Но он-то сидит там, а мы по-прежнему здесь, и в животах у нас пусто, один воздух, воздух и раковые опухоли, воздух и бесплодная ярость. Но мы еще можем ходить. Так что мы с Западом друг другу подходим. Мы подходим для иностранного плуга. Почуяв запах пищи, мы орем, как ослы, и лягаемся… Так люди ли мы после этого, Коста? Я что-то сомневаюсь».
Все это время рука его ласково, успокаивающе сжимала плечо внука, ведь мальчик понятия не имел о своем наследии, рожденный в тюрьме, где плохо – все, где нет ни гнева, ни понимания, ни гордости, где ничего хорошего не осталось, кроме ожесточенного упрямства и верности друг другу. Да, это еще у нас осталось, говорила ему тяжелая дедова рука. Так что, когда светловолосая девушка вошла в комнату, где Стефан лежал слабый и довольный, он посмотрел на нее как бы из той залитой солнцем апрельской бесплодной равнины – с доверием и радостью, ведь она не имела никакого отношения к смерти его деда и отца; первый умер в поезде при депортации, а второго и еще сорок два человека с ним вместе расстреляли за городом, где-то на равнине во время репрессий 1956 года.
– Как ты себя чувствуешь? – спросила Стефана девушка, и он ответил:
– Отлично.
– Может, хочешь чего-нибудь? Так я принесу.
Он покачал головой. Она вспомнила, как его черные волосы на белой подушке и бледное лицо казались ей четко написанными на белой бумаге, но совершенно непонятными греческими словами; сейчас же глаза его были открыты, и говорил он на ее языке. И тот самый голос, который несколько ночей назад едва слышно звал ее из черной чащи лихорадочного бреда, брата смерти, произнес вполне понятные слова:
– Я никак не могу вспомнить твое имя.
Он оказался очень милым, очень симпатичным, этот Стефан Фабр. Он все еще был ошеломлен тем, что так неожиданно заболел, но сейчас явно радовался, что видит Брюну.
– Меня зовут Брюна, я следующая за Кази. Хочешь что-нибудь почитать? Тебе здесь не скучно?
– Скучно? Ну что ты! Ты и представить себе не можешь, как это приятно – лежать и ничего не делать. Мне раньше никогда не доводилось. Твои родители так добры, а весь этот огромный дом и поля вокруг… Знаешь, я все лежу и думаю: Господи, неужели это происходит со мной? И это я лежу здесь, в мирном тихом доме, среди просторов полей, и эта комната полностью в моем распоряжении, и можно сколько угодно бездельничать?
Она рассмеялась, и он узнал ее по смеху: именно его он слышал тогда под дождем в темноте, прежде чем на вершине холма засветились огоньки. Ее светлые волосы были разделены пробором ровно посередине и с обеих сторон слегка подкручены внутрь, оттеняя тоже довольно светлые и густые брови; а вот какого цвета были у нее глаза, определить Стефан не мог: то ли серо-карие, то ли просто серые. Теперь он наконец услышал ее смех совсем рядом, при свете дня – ласковый, задорный. «О, моя красавица, нежная и тонкая, о, молодая кобылица, не знавшая упряжи, боязливая и норовистая, смех твой девичий…»
Желая, чтобы она осталась подольше, он спросил:
– А ты всегда здесь живешь?
– Летом – да, – ответила она, глядя на него своими непонятными сияющими глазами под шапкой светлых волос. – А ты где вырос?
– В Сфарой Кампе, на севере.
– Твоя семья и теперь там живет?
– Там живет моя сестра. – Ему было смешно, что она по-детски спрашивает о семье. Наверное, она ужасно наивна и еще более непостоянна и в то же время целостна, чем даже Казимир, который существует как бы в иной реальности, недосягаемой для других, недоступной для нескромных вопросов о соответствии. Чтобы еще задержать ее, он сказал:
– У меня сейчас столько времени для размышлений! Только за сегодняшний день я передумал больше, чем за последние три года.
– О чем же ты думаешь?
– Об одном венгерском аристократе… знаешь эту историю? Его взяли в плен турки, а потом продали в рабство. В шестнадцатом веке. И какой-то турок купил его и стал запрягать в плуг, как вола, и несчастный пахал землю, а по спине его гулял кнут. Но в конце концов родным удалось его выкупить. Приехав домой, он взял свою шпагу и вернулся на поля сражений. И там ему удалось взять в плен своего бывшего хозяина, который некогда купил его как раба. Он привез турка в свое поместье, снял с него цепи и вывел из дому. Несчастный турок все высматривал кол, на который его посадят, или яму, где он будет медленно гнить, а все станут на него мочиться и лишь в самом конце сожгут, или рвущихся с поводка собак, или, по крайней мере, плеть. Но ничего так и не заметил. Только тот венгр, которого он когда-то купил, а потом продал родственникам, стоял с ним рядом. И повторял: «Ступай же, возвращайся домой…»
– И он вернулся?
– Нет, он остался и принял христианство. Но я не поэтому думаю о нем.
– А почему?
– Мне бы тоже хотелось быть таким благородным, настоящим аристократом, как тот венгр, – сказал Стефан Фабр и улыбнулся.
Да, он был упрям, этот мрачноватый юноша, и хотя лежал перед нею поверженный, все же побежденным себя не чувствовал. Он улыбался, в его черных глазах поблескивал огонек. В свои двадцать пять он уже не питал ни малейших иллюзий относительно реальной жизни, никому не доверял и наивностью отнюдь не отличался. Об этом свидетельствовали те холодные огоньки, что играли в его глазах. Однако сейчас он на время смирился с судьбой, упрямый человечек, обладающий, впрочем, достаточной внутренней силой, достаточной значимостью. Девушка посмотрела на его сильные грубоватые руки, лежавшие поверх одеяла, потом – на сиявшие солнцем окна и подумала о том, что он и так аристократ духа; от Казимира, который редко рассказывал о жизни своего друга, она знала немного, собственно, один-единственный, но вполне реальный факт: Стефан вместе с другими нищими студентами снимал одну комнатушку на пятерых, и они сумели втиснуть туда всего три кровати.
Занавеси на трех огромных окнах были откинуты, и комнату наполняла тишина сентябрьского полудня. Деревенского полудня. С далеких полей доносился звонкий мальчишеский голос.
– Ну, теперь быть аристократом не так-то просто, – тихо проговорила Брюна и потупилась; она ничего не хотела подчеркнуть своими словами, но почему-то чувствовала себя подавленной, усталой, в сердце не осталось ни нежности, ни восхищения. Он, конечно же, поправится и вернется неделей позже в свой город, в комнату, где три кровати и пятеро жильцов, где на пыльном полу валяются ботинки, а в раковине – прилипшие волосы… Вернется в свои аудитории и лаборатории, а после окончания получит место инспектора санитарной службы на государственной ферме где-нибудь на севере или на северо-востоке и двухкомнатную квартирку в государственном доме в пригородах небольшого городка, славящегося своими сталеплавильными комбинатами; женится на черноволосой женщине, которая будет учить третьеклассников по одобренным государством учебникам, родит ему одного ребенка и сделает два законных аборта; и в итоге они доживут до взрыва водородной бомбы… Ах, неужели нет никакого выхода из этого? Никакого?
– Говорят, ты очень умный?
– Свою работу, во всяком случае, я делаю отлично.
– Ты ведь научными исследованиями занимаешься, верно?
– Да, по биологии.
Раз так, то лаборатории, видимо, останутся; а квартира, возможно, будет четырехкомнатной и в пригородах Красноя; двое детей, никаких абортов, двухнедельный отпуск летом в горах, а потом – водородная бомба. Или не будет водородной бомбы. Это, собственно, безразлично.
– А что именно ты исследуешь?
– Некоторые виды молекул. Молекулярную структуру живых организмов, структуру жизни.
Странно звучало: структура жизни. И, разумеется, он разговаривал с ней как с маленькой; ничего нельзя объяснить в двух словах, говаривал ее отец, а уж тем более если речь идет о жизни. Значит, он хорошо разбирается в молекулярной структуре жизни? А ведь это его беззвучный зов слышала она, то кричали его воспаленные легкие, и их неслышный крик едва долетал из темной страны, что соседствует со смертью; но она услышала его зов, а ее мать тогда прошептала лишь: «Бедный мальчик!» Она, Брюна, ответила на его крик и последовала за ним – в темные края. А теперь он снова вернул ее к жизни.
– Ах, – сказала она, по-прежнему не поднимая глаз, – я ничего этого не понимаю. Я такая глупая.
– Почему тебя назвали Брюной, ты ведь блондинка? [Брюна (от фр. brune)
– брюнетка] Она изумленно вскинула на него глаза и рассмеялась:
– До десяти месяцев я была совершенно лысой! – Она будто увидела его заново – и черт бы побрал все это будущее, если все его возможные варианты связаны лишь с грязными раковинами, двухнедельными отпусками и ядерными бомбами! Или с коллективным братством! Или с арфами и райскими девами! Господи, как все это убого и тоскливо! Нет, вся радость – в прошлом и настоящем, и вся правда тоже, и вся верность слову, и человеческая плоть. По-настоящему значимы лишь те мгновения, что проживаешь сейчас, ибо будущее, как бы его ни воспринимать, имеет лишь одну постоянную величину: смерть. А мгновения настоящего непредсказуемы. Просто невозможно сказать, что случится в следующую минуту.








