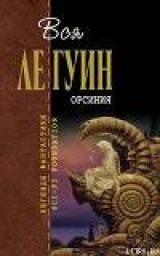
Текст книги "Орсиния (сборник)"
Автор книги: Урсула Кребер Ле Гуин
Жанр:
Альтернативная история
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 45 страниц)
– Ты сумел ее выследить, Итале? – ворвался в его мечты голос Эмануэля; он имел в виду волчицу, которую видели на горе Сан-Лоренц.
– Нет, не удалось, – машинально ответил Итале и, произнося эти слова, решил непременно поговорить с отцом.
Испытание предстояло суровое, и для начала он побеседовал об этом с дядей, выждав, когда все остальные уйдут с балкона в дом. Эмануэль, похоже, ничуть не удивился. Постаравшись полностью уяснить планы Итале – отъезд в Красной и поиски возможностей как-то применить свои силы и знания во имя патриотических целей, – он еще некоторое время внимательно слушал пылкие речи племянника, наблюдая за ним, потом задумчиво поцокал языком и наконец сказал:
– Все это весьма неопределенно и, безусловно, опасно – на мой взгляд, разумеется; впрочем, юристам свойственно в первую очередь видеть дурную сторону вещей… Не знаю, право, какова будет реакция Гвиде. Боюсь, он сочтет все это совершенно бессмысленным, как бы ты ни старался объяснить ему цели и причины отъезда.
– Да нет, он, конечно же, меня поймет! Если станет слушать.
– Не станет. Он целых двадцать лет ждал, когда вы начнете работать вместе. Скрепя сердце позволил тебе уехать на три года в южную долину, а ты хочешь преподнести ему такой сюрприз?… Да я и сам не уверен, что ты до конца понимаешь то, к чему стремишься сейчас. По-моему, тобой руководит не разум, а страстное стремление властвовать над собственной судьбой. В этом ты очень похож на отца. Только твое теперешнее желание весьма отличается от его желаний и полностью им противоположно. Ты надеешься с позиций разума обсудить с ним эту проблему и прийти к некоему соглашению? Сомневаюсь, что тебе это удастся!
– Но отец верит в необходимость служения долгу, в твердые принципы. Конечно же, я бы и сам с радостью остался здесь, но поставленная передо мной цель гораздо важнее личных моих желаний, и я знаю: это отец поймет. Я не могу остаться здесь, ибо пока сам не волен выбирать, оставаться мне или уезжать.
– Значит, ты намерен завоевать для себя свободу выбора, служа интересам других?
– Я не стану ее завоевывать, – ответил Итале. – Свобода как раз и состоит в том, чтобы делать то, что можешь и хочешь делать лучше других и непременно обязан выполнить. Разве я не прав? Свобода – не вещь, которой можно владеть или держать при себе. Это человеческая деятельность, это сама жизнь! Но разве можно жить в тюрьме? Среди томящихся в рабстве? Нельзя жить только ради себя! Нельзя – если все вокруг несвободны, несчастливы!
– Да приидет Царствие Твое, – пробормотал с усмешкой и затаенной болью Эмануэль.
Перед ними лежало озеро – темное, спокойное; волны со слабым плеском лизали стены под балконом и сваи лодочного сарая. На востоке массивные очертания гор отчетливо вырисовывались на светлом, светящемся фоне небес: всходила луна. Западный край неба был темным, покрытым россыпью звезд.
Глава 4– Эге-гей! Назад!
Крик графа громко разнесся над сверкающей гладью озера, но со второй лодки ответа не последовало, и остроконечный коричневый парус продолжал как ни в чем не бывало скользить по волнам далеко впереди.
– Крикните еще раз, граф Орлант, пожалуйста!
– Все равно не услышат, – заметила Пернета.
– О господи, теперь нам «Фальконе» ни за что не догнать. Итале! Поворачивай назад, дорогой!
– Услышали, поворачивают! – воскликнул граф Орлант; он морщился и щурил глаза, так ослепительно сверкала под солнцем вода. Островерхий коричневый парус вдали, похожий на крыло ястреба, описал полукруг: лодка Итале пошла на разворот. Граф тоже развернул тяжеловатую «Мазеппу» по ветру и двинулся к берегу. Вскоре легкая «Фальконе» стала их нагонять, и они услышали голос Итале:
– Хой!
– Хой! – звонко ответила Элеонора; они перекликались, точно встревоженные перепелки. – Смотрите, какие тучи!.. Гроза собирается!.. Пора домой!
– У вас что-то случилось?
– Ничего у нас не случилось, просто домой пора! – вступила в переговоры и Пернета, указывая на вершину Сан-Лоренц, где клубились темные тучи.
– Но Лаура хотела пособирать грибы в Эвальде!
– О господи! Не могу я больше кричать… – пробормотала Элеонора. – Скажи им, Пернета, что ничего они пособирать не успеют: дождь вот-вот польет. А у меня в подвале и так уже два бочонка маринованных грибов…
С «Фальконе» до них долетел веселый смех, а потом послышался голос Эмануэля:
– Так как вы насчет грибов?
– Никаких грибов!
– Ну что, идем в Эвальде? – Это крикнул Итале, стоявший на носу лодки.
– Никаких грибов, и никакого Эвальде! Немедленно домой! – неожиданно рявкнул граф Орлант; у него даже местный акцент усилился: так говорят крестьяне в горных селеньях.
Итале в ответ самым изысканным образом поклонился, исполнил несколько элегантных танцевальных па и вдруг… исчез!
– Господи, он же в воду свалился! – встревожилась Элеонора, но тут «Фальконе» поравнялась с ними, и все увидели, что Итале и Лаура просто склонились друг перед другом в глубоком поклоне, изображая одну из фигур менуэта. Когда «Мазеппа» наконец причалила к берегу, оказалось, что Эмануэль, Итале и девушки уже удобно устроились на балконе и ждут остальных. Итале что-то оживленно рассказывал; его синие глаза сверкали, лицо разрумянилось на ветру, и, глядя на него, Элеонора и Пернета переглянулись с гордостью и восхищением.
– Итале, дорогой, а что, скажи на милость, приключилось с твоей шляпой? – улыбнулась Пернета.
– Она же насквозь мокрая! – подхватила Элеонора. – Значит, ты все-таки свалился за борт?
Пьера вдруг расхохоталась:
– Он ею ловил!..
– Ловил? Шляпой?
– Нуда, ловил шляпой, – сказал Эмануэль, – а эти молодые дамы держали его за ноги и визжали: «Не лягайся! Не лягайся!»
– Но что именно он ловил?
– Мои перчатки! – еле выговорила Пьера.
– Когда Пьера услышала ваши крики, то со страху уронила в воду свои драгоценные перчатки, а мне пришлось их вылавливать. Вы лучше скажите: куда делся мой черпак? У меня всегда на «Фальконе» черпак был! – Итале и девушки от смеха стали багровыми.
– Я же просил, чтобы мне позволили ехать вместе с вами на «Мазеппе»! – вставил Эмануэль.
– А ты, Лаура, конечно, зонтик даже не раскрыла! – с упреком заметила Элеонора. – Теперь у тебя все лицо будет в веснушках!
– Веснушки… – задумчиво промолвил граф Орлант. – Я помню, как-то раз, когда Пьера была совсем крошкой, она весь день играла на солнце, и я потом насчитал у нее на носу целых восемнадцать веснушек! Впрочем, мне тогда казалось, что веснушки ей очень к лицу.
– О да, веснушки им обеим к лицу! И особенно хорошо они будут смотреться на балу у Сорентаев! У обеих физиономии будут как пасхальные яйца! – возмутилась Элеонора. – Не понимаю, с чего это вы так развеселились?
Итале искоса глянул на Пьеру, стоявшую к нему вполоборота: на нежной шейке под растрепавшимися на ветру локонами уже видны были три свеженькие симпатичные веснушки.
– Между прочим, ты, несчастный, так перчатки из воды выловить и не сумел! – упрекнула брата Лаура.
– А надо было держать меня как следует! – парировал Итале. – Все время носом в воду макали!
– А ты все время пузыри пускал! – вставила Пьера. Все трое снова залились смехом. – Ой, он так смешно шлепал по воде руками и… буль-буль-буль!..
Когда они наконец успокоились, утирая глаза, Элеонора, сдерживая улыбку, упрекнула:
– И как не стыдно так глупо вести себя! Неужели Гвиде еще не вернулся? Наверно, и на небо-то ни разу не взглянул…
– Элеонора, дорогая, – сказал Эмануэль, обнимая невестку за талию, – ведь ты двадцать семь лет прожила в Валь Малафрене! Неужели ты до сих пор к здешним грозам не привыкла?
– Двадцать восемь, дорогой Эмануэль! Да, я двадцать восемь лет живу здесь, но все равно считаю, что просто возмутительно, когда самые лучшие летние дни испорчены ливнями и громовыми раскатами! И мне надоело, что Гвиде возвращается домой промокший насквозь! – Она тоже обняла Эмануэля, ласково ему улыбаясь, и они собрались было закружиться в танце, но тут со стороны Сан-Лоренца донесся могучий раскат грома.
– Ну вот, начинается! – воскликнул кто-то. Гремело все сильнее; черно-серые валы будто вскипали над вершиной горы и скатывались по ее склонам к озеру и усадьбе.
– Пойдемте-ка лучше в дом! – предложила Элеонора.
Оказалось, что Гвиде уже вернулся и стоял в гостиной у окна, выходившего на юг. Итале даже застыл на минутку в дверях, любуясь темным силуэтом отца на фоне освещаемого вспышками молний грозового неба.
– Самое время выпить чаю. Эва! – окликнула служанку Элеонора и исчезла в направлении кухни.
– Какой прекрасный день! – сказал граф Орлант, с наслаждением опускаясь в массивное и удобное старинное дубовое кресло. – Жаль, что вы с нами не поехали, Сорде!
– Ничего. Зато у меня вскоре будет несколько свободных дней, и я бы хотел, граф, чтобы вы посмотрели в работе моего нового сокола; его Рика натаскивает.
Соколиная охота, как и в старину, была самым распространенным развлечением в Монтайне. Гвиде с сыном были большими ее любителями, Эмануэль тоже охотился с удовольствием, а граф Орлант, хоть он и считался безусловно лучшим в здешних местах знатоком ловчих птиц, если честно, не слишком любил лазить по крутым горным склонам с крупной, тяжелой птицей на руке; к тому же он всегда испытывал некую робость, когда сокол смотрел на него своими жестокими немигающими глазами хищника.
– Жаль, что ты не взял птицу с собой, Итале, – продолжал между тем Гвиде. – Ей бы следовало полетать. Мне самому просто времени не хватает – у нас со Стари слишком много работы.
– В следующий раз возьму непременно! – горячо пообещал пристыженный Итале, который был очень благодарен матери, когда та прервала разговор о ловчих птицах и пригласила всех к столу.
Позвякивали чашки и блюдца: Элеонора и горничная Эва расставляли на столе посуду и печенье. Возбуждение, вызванное в душе Итале прогулкой на лодке, уже угасало; теперь он думал лишь об одном: сегодня же вечером он непременно должен поговорить с отцом! Он так и сидел, задумавшись и свесив руки с промокшей шляпой между коленями – точно гость, которому одинаково неловко и продолжать беседу, и уйти. Женщины, конечно, сразу почувствовали перемену в настроении Итале. Элеонора поглядывала на сына с тревогой. Лаура считала, что брат снова «задирает нос», считая себя «чересчур взрослым», и только поэтому больше не рассказывает ей о своих переживаниях. Подобное «предательство» возмущало ее. Одна Пернета ни о чем не беспокоилась и по-прежнему находила Итале очень милым и забавным, особенно с этой шляпой в руках, мокрой насквозь и перепачканной ряской; она была убеждена, что просто так с их мальчиком никогда и ничего не случится. Ну а для Пьеры, сидевшей рядом с Итале на диване и тоже заметившей его странное молчание, куда важнее было то, что он одет в синий сюртук, который очень ему идет, что щеки его покрывает очень темный, даже чуть грубоватый, загар, что этот красивый и милый юноша сидит рядом с нею… Дальше в своих мыслях она не шла. Вот если бы Итале заговорил, то его голос тоже стал бы частью этого невыразимого словами ПРИСУТСТВИЯ РЯДОМ, и тогда Пьера стала бы внимательно слушать то, что он говорит. Но он молчал, и она слушала его молчание. И думала о том, что никогда еще не была так счастлива и что эти мгновения никогда уж больше не повторятся. Ее радость была абсолютно чиста, не замутненная ни возрастом, ни привычками, ни жизненным опытом, но в то же время она была и абсолютно беззащитна. Пьера и сама не решалась как-либо управлять своим первым чувством, чистым и хрупким, как стекло, а если и чувствовала в Итале порой некое беспокойство, то считала, что и эта скрытая тревога, и некоторая его отчужденность связаны просто с ее собственным волнением, вызванным всего лишь радостным ощущением близости – всего лишь тем, что они вот так сидят рядышком на диване и пьют чай.
Граф Орлант тем временем вернулся, явно очень довольный, из библиотеки и с восхищением сказал:
– Какую все-таки прекрасную подборку книг по ботанике удалось сделать вашему отцу, Гвиде! Мне, право, очень жаль, что он не увлекался еще и астрономией… По-моему, ботаника ни у кого в вашей семье особого интереса не вызывает, верно?
– Итале все время в библиотеке торчит! Но занимается явно не ботаникой! – засмеялась Лаура, надеясь как-то растормошить брата. – Помнишь, Итале, как дедушка в саду учил тебя, как по-латыни называются разные растения? Только ты теперь, наверно, все уже позабыл…
– Не все! – вмешалась Элеонора. – Итале всегда может напомнить мне название того экзотического растения, что растет с восточной стороны нашего дома. Я вечно его забываю. Как, кстати, оно называется?
– Mandevilia suaveolens, – машинально откликнулся Итале.
Стекла в гостиной после короткого, но бурного ливня совершенно запотели. Гром доносился уже издалека; сквозь струи дождя над озером просвечивали золотые лучи солнца.
– А знаете, этим летом грозы даже приятны: они освежают воздух, он становится более прозрачным…
– И мне всегда после грозы удается сделать прекрасные наблюдения в телескоп! – подхватил граф Орлант. Эмануэль тут же стал расспрашивать его об успехах в астрономии. А Итале совершенно неожиданно для себя самого повернулся к Пьере и спросил:
– А ты еще что-нибудь Эстенскара читала?
– Нет, только «Оды», а что?
– Хочешь прочесть «Ливни Кареша»? Очень хорошая книга! Могу дать.
– Если… если папа позволит.
Итале нахмурился.
– Эстенскар – великий поэт! И благородный человек. А произведения его запрещены только потому, что наши невежественные власти его боятся! По-моему, самому Эстенскару просто лень с этими запретами бороться. А ты свою свободу должна отстаивать! Это не только твое право, но и твоя обязанность.
Шестнадцатилетняя Пьера сплела по-детски пухлые пальцы и осторожно, чуть повернув кудрявую головку на гибкой шее, уже покрытой весенними веснушками, посмотрела на отца. До них долетели слова графа: «…но если комета подойдет слишком близко к Земле, тогда и говорить нечего…» Потом Пьера перевела взгляд на Итале и пообещала:
– Хорошо, я буду отстаивать свою свободу. – Она подумала и прибавила: – Папа очень любит, когда я рассказываю ему о прочитанных книгах… Хотя, по-моему, это все-таки он спрятал от меня сочинения лорда Байрона! Впрочем, вряд ли у него хватило бы духу по-настоящему что-то мне запретить…
– Я ведь не твоего отца имел в виду, Пьера. Свобода… не имеет отношения к конкретной личности! Но мне все-таки очень хотелось бы, чтобы ты прочла эту книгу. Если ты сама этого хочешь, конечно. Я уверен, она тебе понравится! – закончил он почти умоляющим тоном. Почему-то этот разговор, как и все происходящее сегодня, казался ему невероятно важным.
– Я бы очень хотела прочитать ее.
Итале хотел уже бежать к себе, чтобы принести книгу, но Пьера остановила его.
– Ты ведь заедешь к нам во вторник вечером? Вот и захвати ее с собой. Папа тогда ничего не заметит и ни о чем меня не спросит.
Он некоторое время колебался.
– Нет, лучше возьми сейчас.
Пьера была озадачена, но принесенную им книгу взяла и не спросила, что может помешать ему приехать в Вальторсу вечером во вторник.
Все вместе они вышли из дома – одни уезжали, другие провожали. Бредя по тропинке, окутанной дивными ароматами вечера, словно промытого ливнем, Пьера спросила, останавливаясь возле одного из благоухающих кустов:
– Это и есть та самая mandevilia?…
– Suaveolens, – с улыбкой подсказал Итале, который шел за нею следом.
Эмануэль и Пернета возвращались к себе, в Партачейку; проплывавшие мимо холмы, поросшие лесом, казались черными сгустками тьмы в серых полях, что тянулись вдоль дороги; лошадиные копыта глухо постукивали в тишине. Первой нарушила молчание Пернета:
– По-моему, наш дорогой племянник вернулся с прогулки в дурном настроении.
– М-м-м? – невразумительно промычал в ответ ее супруг.
– Вон сова!
– Что?
– Сова пролетела.
– М-м-м…
– Мне кажется, он и Пьера…
– Ну что ты! Девочке всего шестнадцать!
– Мне, между прочим, было девять, когда я впервые на тебя внимание обратила!
– Ты хочешь сказать, они влюблены друг в друга?
– Конечно, нет! Но почему ты никогда не хочешь признать, что кто-то в кого-то может быть влюблен?
– Я просто не знаю, что это означает.
– Вот как? Хм? – Теперь уже Пернета не находила слов.
– Нет, пожалуй, однажды я это все-таки видел. Это происходило с Гвиде в 97-м. Он был похож на новорожденного, и весь мир вокруг ему казался новым и прекрасным. В итоге они с Элеонорой поженились. Не помню, правда, как долго у него продолжалось то нелепое состояние. Месяцев восемь, десять… Хотя обычно и этот срок люди не выдерживают. Так, несколько часов восторга… Если такой человек вообще способен восторгаться. И вообще, эта ваша влюбленность – просто чушь!
– Ах ты, смешной брюзгливый старикашка! – с невыразимой нежностью сказала Пернета. – А все-таки Итале и Пьера…
– Ну еще бы! Между прочим, это было бы вполне естественно. Вот только Итале уезжает.
– Уезжает?
– Да, в Красной.
Лошадь всхрапнула, начиная долгий подъем к перевалу.
– Но почему вдруг?
– Он мечтает сотрудничать с одной из патриотических групп.
– Он хочет заняться политикой? Но ведь ею можно заниматься и здесь, а заодно и работу какую-нибудь подыскать к дому поближе. Поступить в какую-нибудь контору…
– Знаешь, дорогая, занятия политикой в провинции – игра довольно жульническая, да и играют в нее в основном богатые бездельники или профессиональные незнайки.
– Это так, но ведь… – Пернета хотела сказать, что все политические игры таковы, и Эмануэль понял ее без слов.
– Видишь ли, Итале ищет себе не место, где он мог бы служить; он ищет таких людей, вместе с которыми можно было бы участвовать в революционной деятельности.
– То есть всяких «совенскаристов»? – задумчиво спросила Пернета. – Вроде того писателя из Айзнара? Его еще недавно, кажется, в тюрьму упрятали?
– Вот именно. И ты прекрасно знаешь, что эти люди – отнюдь не преступники, а, напротив, весьма благородные граждане своей страны. Среди них, насколько мне известно, есть даже священники, причем действующие и имеющие свой приход. В этот процесс втянуто множество очень приличных людей, Пернета, причем по всей Европе. Я, правда, их не знаю… А впрочем, я в этом не слишком разбираюсь! – И Эмануэль зачем-то сердито дернул за повод своего послушного и смирного коня.
– А Гвиде знает?
– Помнишь, как взлетела на воздух мельница Джулиана?
Она изумленно уставилась на него и молча кивнула. Потом спросила:
– Когда Итале сказал тебе?
– Вчера вечером.
– И ты его поддержал?
– Я? Чтобы я в пятьдесят лет стал поддерживать двадцатидвухлетнего мальчишку, который намерен переделать мир? Чушь какая!
– Его отъезд разобьет Элеоноре сердце!
– Ничего, не разобьет. Знаю я вас, женщин! А в итоге – чем больше будет риск, чем больше глупостей совершит этот мальчишка, тем больше вы будете им гордиться. Но вот Гвиде!.. Для Гвиде будущее заключается в его сыне. Каково ему будет видеть, как рушатся все его надежды, как само его будущее подвергается чудовищному риску…
– У мальчика есть собственное будущее! – сурово возразила Пернета. – Да и насколько в действительности велик этот риск?
– Понятия не имею! Даже думать об этом не хочу! Я и так слишком много думаю о том, что может угрожать человеческой жизни, о том, какие с этим связаны переживания… Вот почему я на веки вечные остался всего лишь провинциальным адвокатом – не хватило мужества ни на что другое. И теперь-то уж точно не хватит – стар стал и не желаю собственный покой нарушать. Жаль только, что когда-то, когда мне тоже было лет двадцать, мне некому было сказать: «Это для меня очень важно!» И все переменить. Даже если бы это и не было так уж важно в действительности.
Пернета легко, но решительно взяла мужа за руку, однако ничего ему не сказала, и они продолжили свой путь в Партачейку, немногочисленные разбросанные во мраке огоньки которой уже светились перед ними в долине.
Как раз в эти мгновения Итале, стоя на нижней ступеньке лестницы, говорил:
– Это для меня очень важно, отец!
– Хорошо. Тогда пойдем в библиотеку.
За высокими окнами библиотеки ажурная листва деревьев казалась черной на фоне звездного неба. Гвиде зажег лампу и уселся за стол, в свое любимое кресло с резными, почерневшими от времени подлокотниками; это кресло было настоящей семейной реликвией: его в 1682 году сделал еще прадед Гвиде, а потом, век спустя, полностью отреставрировал его отец. Стол был завален документами; некоторые были написаны четким беглым почерком судебных клерков, умерших два века назад. Эти документы подтверждали право семейства Сорде на владение данными землями, а также права их арендаторов. Большая часть бумаг имела отношение к налогам и арендной плате; в них упоминались имена фермеров, издавна живших на этой земле. Все документы были составлены на латыни, так что Итале, впервые увидев, как с ними работают Гвиде и Эмануэль, решил: вот оно, настоящее средневековье, темное, непонятное, глухое, не имеющее ни малейшего отношения к реальной жизни – к плодородию здешних земель, к засухе и дождям, к людям, возделывающим эту землю, кому-то принадлежащую или взятую в аренду, кого-то намертво привязывающую к себе, а кому-то, напротив, дающую свободу! Ведь именно земля и для крестьянина, и для землевладельца – источник жизни, ее основа и цель, ее начало и конец. Однако куда важнее оказывались жалкие листки бумаги, к которым отец и Эмануэль относились так серьезно. Кстати, среди этих документов имелся и Закон о налогах 1825 года, четкий, точный, ни к кому лично не имеющий отношения и вполне современный – особенно в сравнении со средневековьем, которое для Итале воплощалось во всех прочих бесчисленных старинных документах, – однако совершенно бессмысленный с точки зрения теперешней жизни. По одну сторону пропасти находилась семья Сорде и ее земельные владения, а по другую – государство со своими нудными законами, и между ними не существовало никакого моста – ни революционных перемен, ни взаимного обмена представителями, ни каких бы то ни было реформ!
Итале присел у дальнего, относительно пока свободного края длинного стола; здесь лежала только книга Руссо «Общественный договор». Ее он как раз и читал в последние дни. Сейчас он снова взял ее в руки и сказал, машинально перелистывая страницы:
– Раз уж Австрии так хочется, чтобы и мы пользовались наполеоновской системой изъятия налогов, было бы весьма неплохо, если б она позволила нам довести до конца те реформы, которые начали здесь французы, тебе не кажется?
– Пожалуй. Если им необходимы деньги, почему бы не прийти за ними прямо ко мне? Неужели они думают, что крестьяне способны делать сбережения, да еще наличными? Городские люди…
Крупное лицо Гвиде отчетливо выделялось на фоне заставленных книгами полок. Это было суровое, мужественное лицо, но Итале поразило некое совершенно новое его выражение: выражение покоя. Но то было не внутреннее спокойствие, являющееся у определенных людей свойством характера – Гвиде никогда спокойным характером не отличался, – а некая благоприобретенная черта, дар времени, причем не только тех лет, что сам Гвиде прожил на свете, но и всех тех столетий, опыт которых он воспринял и сделал своим собственным. Итале явственно видел по лицу отца, что тот очень устал сегодня, но тем не менее хочет непременно, хотя и не без внутреннего страха, выслушать то, что Итале собирается ему сказать, ибо в основе характера Гвиде была неспешная, неколебимая, воспитанная многими поколениями воля, сдерживавшая проявление любых эмоций.
– Я хотел бы попробовать кое-что объяснить тебе, папа… Дело в том, что в последнее время мои воззрения претерпели некоторые перемены…
– Я прекрасно знаю, что мы с тобой по определенным вопросам не имеем общего мнения, но времена меняются, сынок, так что мы и не могли бы абсолютно все на свете воспринимать одинаково. Так что время, потраченное на выяснение, чье мнение лучше, я считаю потраченным впустую.
– Но ведь некоторые идеи – это не просто чьи-то мнения! И разделять эти идеи означает верно служить им.
– Возможно. Но у меня нет желания спорить, Итале.
– У меня тоже. Ни малейшего. – Итале бросил на стол книгу Руссо; над кипой старых бумаг тут же поднялась туча пыли. – Но я бы все-таки не хотел поступаться своими принципами. Ты ведь не поступишься своими.
– Ну, у каждого своя голова на плечах. И временем своим каждый тоже волен распоряжаться по своему усмотрению. До тех пор, пока справляешься со своими обязанностями. А это у тебя вполне получается. Ты со своими обязанностями всегда справлялся.
– Но при этом мне бы хотелось справляться с ними совсем не здесь!
При этих словах Твиде поднял голову, но ничего не сказал.
– Я должен уехать в Красной! – продолжал Итале.
– Ничего подобного. Никому ты не должен.
– Я попытаюсь объяснить…
– Мне не нужны объяснения.
– Если ты не желаешь слушать, какой вообще смысл в этом разговоре? – Итале вскочил. Гвиде тоже встал.
– Не уходи, – сказал он и медленно прошелся по комнате. Потом снова сел в свое украшенное резьбой кресло. Итале так и остался стоять. За домом, в долине сонным голосом прокричал петух; на кухне что-то напевала старая Эва. – Значит, ты хочешь поехать в Красной? – Итале кивнул. – И ты рассчитываешь получить у меня некую необходимую тебе сумму?
– Нет. Если, конечно, ты сам не захочешь дать мне денег.
– Не захочу.
Итале изо всех сил старался подавить одолевавшие его гнев и отчаяние – он чувствовал, что эти усилия буквально истощили его физически и морально. В какой-то момент ему даже захотелось подойти к отцу и совершенно по-детски попросить у него прощения: он готов был сделать все, что угодно, лишь бы отец не сердился и не огорчался. Он сел за стол, на прежнее место, и снова взял в руки книгу; повертел ее, полюбовался игрой света на изрядно потрепанном, но все еще сохранившем позолоту корешке и наконец сказал:
– Ничего, я найду работу. Мы с друзьями надеемся прокормиться писанием статей, журналистикой, а может быть, и сами начнем издавать какой-нибудь журнал.
– С какой целью?
– Во имя свободы, – тихо ответил Итале; на отца он не смотрел; сидел, потупившись.
– Свободы? Для кого?
– Для всех нас.
– Значит, ты считаешь, что свобода принадлежит тебе и ты можешь ею распоряжаться?
– Я могу распоряжаться только тем, что имею.
– Слова, слова!
– Да все на свете – слова! И эта вот книга тоже. Но благодаря ей, между прочим, пала Бастилия! И в этих твоих документах тоже слова – о нашей земле, собственность на которую они подтверждают. Ты ведь жизнь свою положил за эту землю!
– Ты весьма красноречив.
Оба надолго умолкли.
Гвиде заговорил первым – осторожно, сдержанно:
– Позволь мне пояснить, как я понимаю твои планы. Ты хочешь отправиться в долину и вместе с другими делать некое общее дело, выдуманное не тобой, а кем-то еще, но, по твоим словам, принципиально важное для тебя. Ты считаешь это своим долгом, что мне совершенно непонятно. Гораздо более понятен мне тот долг, который ты обязан исполнить перед своей семьей и перед теми, кто живет на принадлежащей тебе земле. Кто будет управлять поместьем, когда я умру? Столичный журналист?
– Это несправедливо!
– Неправда. Существует большая разница между долгом и самооправданием.
– Почему ты говоришь со мной, как с ребенком? Я уже не мальчик. Я такой, каким меня сделал ты, и я хорошо знаю, что такое долг. Я уважаю твои принципы, папа, а потому прошу тебя уважать и мои!
Гвиде некоторое время молчал, потом спросил:
– Уважать твои принципы? Но какие? Ведь ты все на свете готов променять на какие-то беспочвенные теории, на те чужие слова, которые ты так упрямо повторяешь. Ты уже вполне взрослый, Итале, и, разумеется, можешь мне не подчиниться, но до двадцати пяти лет своим наследством ты воспользоваться не сможешь. Я не дам тебе такого права. И благодари за это Всевышнего!
– Я бы никогда и не посмел им воспользоваться против твоей воли…
– Да плевать тебе на мою волю! И на свое наследство тоже плевать! Ты же готов повернуться спиной ко всему, что я нажил тяжким трудом! Но раз все это не твое и не ты его наживал, так нечего на него и плевать! – Это поистине был крик души.
Итале в отчаянии пролепетал:
– Но я же не… Я же вернусь, если буду тебе нужен…
– Ты мне нужен сейчас. Но если решил уйти, так уходи.
– Хорошо, я уйду. – Итале встал. – Ты, конечно, можешь ничего мне не давать, но не в силах отнять у меня верность родному дому и тебе, папа… Придет время, когда ты это поймешь…
– О да, время, конечно, придет! – Раскрытая книга Руссо полетела на пол, выпавший листок с оглавлением порхнул через всю комнату, точно испуганная птица. – Только я вряд ли до этого доживу! И ты, скорее всего, тоже!
Оба задыхались от гнева; каждый считал другого неправым; и оба чувствовали, что больше им нечего сказать друг Другу.
– Подумай обо всем как следует, – промолвил Гвиде сдавленным голосом, не глядя на Итале. – Возможно, больше нам с тобой объясняться не придется. А если ты все уже для себя решил, то чем скорее ты уедешь, тем лучше.
– Я уеду с почтовым дилижансом в пятницу.
Гвиде промолчал.
Итале поклонился и вышел из библиотеки.
На его серебряных часах было двадцать минут девятого. Они разговаривали всего несколько минут, а ему показалось – несколько часов.
– Это ты, Итале? – Мать, с которой он столкнулся у лестницы, смотрела на него удивленно. – А отец все еще в библиотеке?
– Да. – Он взлетел наверх и захлопнул за собой дверь. В его комнате царили синие сумерки; казалось, ее заполнила сама синева озерной глади; в этой теплой сказочной синеве обычные предметы казались расплывчатыми, точно колышимые водой водоросли, что растут у берегов озера Малафрена. Спокойствие этого неяркого, невесомого света приглушило и как бы вобрало в себя терзавшую Итале тоску; он почувствовал, что снова может свободно дышать. Но еще никогда в жизни не ощущал он такого одиночества и такой смертельной усталости.








