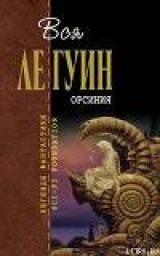
Текст книги "Орсиния (сборник)"
Автор книги: Урсула Кребер Ле Гуин
Жанр:
Альтернативная история
сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 45 страниц)
Тюремная одежда, чересчур широкая и грубая, оказалась очень колючей, а вот грела плохо. Итале надел поверх нее свой нарядный жилет и теплый сюртук цвета сливы, которые, впрочем, уже успели изрядно испачкаться и измяться после трехнедельного пребывания в камере предварительного заключения. Так стало гораздо теплее. А ощутив ласковое прикосновение шелковой подкладки в рукаве сюртука, он даже на минутку испытал замечательное ощущение покоя и счастья.
Он наконец сел и задумался.
Итак, он пробыл в башне три недели, ровно двадцать один день, но это теперь позади. Тот судья что-то такое говорил насчет пяти лет, но это, похоже, не означает, что он проведет в тюрьме целых пять лет. Это же просто невозможно! Это слишком долгий срок, под конец этого срока ему уже стукнет тридцать. Три недели он и так уже отсидел, неужели трех недель не достаточно? Сейчас декабрь. Затем наступит январь, потом февраль… Итале с трудом заставил себя не перечислять вслух названия всех двенадцати месяцев. Охранник принес суп – точно такую же мучную затируху, – и Итале все съел. Пустую миску унесли, а через некоторое время унесли и фонарь из коридора, так что в камере стало абсолютно темно. Но потом глаза немного привыкли к этой непроглядной черноте и стали различать очертания предметов, едва заметных в странном, как бы очень далеком мерцании света, должно быть, отражавшегося от каменных стен камеры. Ночь казалась бесконечной. Иногда мысли вдруг оживали и начинали бешено, беспорядочно скакать, а порой голова работать вообще не желала. Сердце то бешено стучало в груди, потом вдруг замирало и почти останавливалось, а потом вдруг снова неслось вскачь. Итале пытался считать минуты по ударам сердца. Ему казалось, что он сходит с ума. В этой безнадежной темноте, буквально распухшей от бездействия и отсутствия каких бы то ни было событий, не ожидая ровным счетом ничего ни от прошлого, ни от будущего, он странным образом радовался, даже когда его больно кусали паразиты, которыми кишела жалкая подстилка на скамье: это все-таки были проявления реальной жизни.
Ночь совершенно его измучила, и, когда наступил рассвет, он все утро продремал, спокойно свернувшись калачиком на своем убогом ложе. В полдень двое охранников вывели его во двор на прогулку. Дворик был совсем маленький, шагов по сорок в длину и ширину. Снег здесь был утрамбован настолько, что напоминал серо-черную брусчатку; кое-где у стен виднелись желтоватые потеки мочи. Одновременно на прогулку вывели пятерых заключенных, за которыми бдительно наблюдали двое охранников; разговаривать было запрещено. Один из арестантов совершал этот обряд методично, явно стараясь заботиться о своем физическом здоровье: он неторопливой рысцой бегал по кругу, на бегу поднимая и опуская руки, делая вдохи и выдохи. Итале понимал, что этот человек поступает правильно, но никак не мог заставить себя делать то же самое. Колени были как ватные. Нет, необходимо взять себя в руки! Необходимо как-то приспособиться! Он просто обязан сделать это! Обязан что-то придумать – хотя бы наилучшим образом использовать время, отведенное для прогулок; а также постараться и в камере делать физические упражнения… И вообще, нужно в первую очередь спланировать свое время, нужно научиться как-то его измерять и использовать со смыслом. Причем начинать следует немедленно, прямо сейчас, и пусть это безумно трудно, но он должен хотя бы разок пройтись по этому двору, как можно глубже вдыхая свежий воздух! Итале заставил себя сделать это. Когда он проходил мимо одного из охранников, тот остановил его и спросил:
– Это с тобой, что ли, на суд вызывали того парня, что прыгнул? – Этого охранника Итале не помнил. Он был тощий, краснолицый и говорил с каким-то странным акцентом, к тому же у него не хватало большей части зубов. Так что Итале не был уверен, что понял его правильно. – Ну этого, Изабея? – снова спросил охранник.
– Изабера… А что с ним?
– Он что, спятил? Его ведь освободили, верно?
– Что вы хотите этим сказать?
– Так для чего же ему это понадобилось-то? Господи, глупость какая, там ведь метров тридцать высота! Спятил он, что ли?
– Заткнись, Анто, – сказал второй охранник и даже замахнулся на первого.
Итале поспешил отойти подальше. Ему безумно хотелось опуститься на колени и сунуть руки в снег – пусть станут ледяными, пусть отмерзнут совсем!.. Да только снег здесь был покрыт твердой грязной коркой. Через несколько минут охранники велели заключенным идти внутрь; он подошел последним, чувствуя, что все остальные на него смотрят, но не в состоянии даже поднять глаза. Когда его снова заперли в камере, он лег на скамью и закрыл глаза. Но думал не об Изабере. Он вспоминал тот день, когда они с Эстенскаром ездили на охоту в лес. Амадей стоял у него перед глазами, точно живой; он, казалось, настолько отчетливо слышал его голос, улавливая даже мельчайшие интонации, что даже произнес его имя вслух, правда, очень тихо, и все же звук собственного голоса испугал его. Он лег ничком, уткнувшись лицом в согнутые руки, и затих. Знакомые цвет и запах ткани успокаивали. Итале еще глубже уткнулся в складки рукава, точно ища поддержки.
– Прошу встать. Идемте, господин Сорде.
– Куда еще? – со злостью спросил он, садясь и чувствуя легкую дурноту. – Оставьте меня в покое!
– В кузницу, господин Сорде, – равнодушно сообщил охранник. – Идемте.
Когда Итале понял наконец, зачем его хотят отвести в кузницу, то вцепился в скамью обеими руками и упрямо не двигался с места, повторяя с каким-то странным, задушенным смехом:
– Ну уж нет! Никуда я не пойду! Во всяком случае, в кузницу я точно не пойду… Вы что, хотите, чтобы я сам сунул голову в петлю?
– Идемте, господин Сорде, таковы правила. Придется их выполнять.
– Ни за что! – отвечал Итале.
Явились еще двое охранников. Они умело и без особой жестокости подхватили Итале за руки и за ноги и, точно лягушку, потащили в тюремную кузницу и не выпускали, пока кузнец не приладил ему к ногам кандалы, довольно свободные, впрочем, а потом отнесли его обратно, в тесную, темную и холодную камеру, примкнули короткую цепь к кольцу на ноге и к скобе, вделанной в стену, и ушли. Итале весь дрожал, из глаз у него текли слезы, с уст срывались бессмысленные проклятья.
– Да вы не огорчайтесь так, господин Сорде, – сказал ему, уходя, знакомый глуховатый охранник. – Привыкнете.
Глава 3Пьера Вальторскар уехала из Айзнара 19 декабря 1827 года. Под серыми зимними небесами фамильная карета Вальторскаров медленно катилась на юг меж Западных Болот, а когда они проезжали по деревне Вермаре, что расположена в верхних предгорьях, серое небо вдруг мягко опустилось к самой земле и рассыпалось белыми хлопьями, крупными, тяжелыми, безмолвными, сразу заполнившими все пространство вокруг. Снег побелил широкие крупы лошадей и меховую шапку возницы. Снежная пелена мешала видеть дорогу впереди, и Пьера, с трудом открыв окно кареты, высунулась наружу и ощутила холодное прикосновение зимы.
– Ах, моя дорогая, мы же замерзнем до смерти! Закрой, пожалуйста, скорее окно! И надень перчатки! – вскричала Бетта Берачой, специально приехавшая за ней в Айзнар и желавшая непременно доставить свою кузину домой в целости и сохранности, поскольку граф Орлант за неделю до этого свалился с тяжелым бронхитом и не смог сам поехать за дочерью. Они собирались вместе встретить Рождество у супругов Белейнин, однако судьба распорядилась иначе. Впрочем, кузина Бетта с радостью согласилась поехать вместо него. Только подумайте, твердила она, неужели бедная девочка должна одна пуститься в такой далекий путь? Конечно, старому Годину можно вполне доверять, но все же… Так что кузина Бетта ужасно расстроилась, когда Пьера – из чистого упрямства! – снова открыла окошко и тихо прошептала:
– А в Айзнаре снег никогда не идет…
– Ну что ты, конечно, идет! Я просто уверена! Наверное, он просто очень быстро тает из-за тамошнего Горячего Гейзера. Странно, что это он так сильно вдруг повалил. И до чего ж густой! Господи, а вдруг нас завалит снегом на перевале, вдали от человеческого жилья? Там ведь поблизости ни души! – Глаза у кузины Бетты сверкали. Порой столичные любовные романы, «переварить» которые было куда легче, чем «Новую Элоизу», попадали даже в Партачейку, и кузина Бетта читала их запоем, так что, хотя возможность быть погребенными под снегом на горной дороге и представлялась ей вполне возможной и, в общем, не слишком приятной, выражение «вдали от человеческого жилья» звучало совсем/как в романе и страшно ей нравилось.
– На перевале обычно очень сильные ветры, – спокойно возразила разумная Пьера. – Так что ветер не даст снегу завалить дорогу к Партачейке.
Кузина Бетта уже успела понять, что в монастырской школе Пьера еще больше набралась знаний и ума, ну а спокойной и рассудительной она, несмотря на молодость, была всегда и, разумеется, никаких любовных романов не читала.
Лошадям снег беспокойства почти не причинял. Собственно, он таял, едва успев коснуться земли, падая в тишине и безветрии. Но когда они после полудня добрались наконец до Партачейки, оказалось, что там снег лежит толстым слоем и на земле, и на крышах, и в оконных проемах; островерхие крыши домов и шпили соборов казались облитыми сахарной глазурью, и вообще весь город напоминал сливовый торт.
– Ой, ты только посмотри! – вскричала Пьера, утратив всякую сдержанность. – Как красиво! А крыши какие замечательные и все в снегу!.. – У нее даже слов не хватило.
Зрелище действительно было пронзительно прекрасным: приветливым золотистым светом светились окна, и маленький городок, раскинувшийся на склоне огромной горы, казался волшебным под пеленой падающего снега, в ранних сгущавшихся сумерках. Этот странный зимний день, этот снегопад, эти огни – все это произвело на Пьеру настолько сильное впечатление, что остальной путь от Партачейки до озера она молчала, испытывая горячую благодарность к продолжавшему падать снегу и ночной тьме, что скрывала от нее сейчас родные места – сады, поля, горы и озеро Малафрену. Сейчас ей и не хотелось их видеть. Сейчас они казались ей чужими. Даже когда карета вкатилась на выложенный каменными плитами задний двор ее родного дома, даже когда она увидела отца, закутанного, точно кокон, и совершенно засыпанного снегом, который протягивал руки ей навстречу, она все еще твердила себе: «Зачем я вернулась домой? Господи, и зачем я только сюда приехала!» Мысли ее путались, и, только когда отец обнял ее, прижав к своей огромной шубе, и снег с его плеча попал ей прямо в ухо, она поняла, что приехала домой.
– Папа, дорогой, как ты себя чувствуешь? Ты уже поправился?
– Да, конечно! И я прекрасно себя чувствую! – заверил ее граф Орлант; голос у него был хриплый, по все еще красивому лицу текли слезы. В ту зиму он действительно болел очень тяжело, а ведь ему уже исполнилось шестьдесят два, и один раз он даже решил, что вполне может и умереть. Не то чтобы смерть так уж его страшила, но он боялся, что может никогда больше не увидеть Пьеру. – Ну, ну, ну! Чего это мы вдруг так разволновались? – приговаривал он, крепко прижимая дочь к себе. Вскоре их окружили остальные встречающие: Элеонора, Лаура, старая повариха Мария, мисс Элизабет, которая по-прежнему жила в Вальторсе, и все эти родные люди, радостно шумя, потащили Пьеру в дом, навстречу свету, теплу и милым домашним запахам. Один лишь Твиде Сорде не выскочил во двор и ко всей этой суматохе отнесся философски, спокойно поздоровавшись с Пьерой и приговаривая добродушно:
– Ну что ж, графиня, всего три месяца вас тут не было, а посмотрите только, с каким уважением вас теперь встречают! Вы заметили, как возросла ваша цена?
Это была чистая правда: с прошлого лета, когда она в предпоследний раз приезжала домой, прошло всего три месяца; этот же ее приезд был последним, и Гвиде понимал это не хуже остальных. Однако он один упорно обращался к ней отныне на «вы». Всем было хорошо известно, что она теперь невеста и практически уже не принадлежит им, что и они постепенно отдаляются от нее, что это, возможно, последний раз, когда они видят прежнюю Пьеру Вальторскар. Вечером, уже в постели, Пьера все продолжала думать об этом, и мысли ее были столь же безрадостны, сколь радостным было чисто физическое ощущение дома и удобной привычной постели. А ведь все это в последний раз, тоскливо думала она. Итале, конечно же, был прав: вернуться назад невозможно! Нельзя СОВСЕМ вернуться домой после столь долгого отсутствия. Пьера посмотрела на книжную полку, где стояла та книга, которую ей подарил Итале. «Vita Nova», «Новая жизнь». Золотые буквы на корешке, поблескивавшие в свете очага, будто подмигивали ей, желая успокоить. Не нужна ей никакая «новая жизнь»! Ей нужна старая!
Следующим вечером, в сочельник, все обитатели Вальторсы, за исключением Тетушки, вместе с семействами Сорде, Сорентаев и еще кое-кого из соседей отправились в Партячейку к полуночной мессе. Весь день опять шел снег, но после заката небо совершенно очистилось от туч. Фонари, зажженные на крышах карет, отбрасывали желтые круги, в звездном свете покрытые снежной пеленой лес и склоны гор слабо светились. Собор в Партачейке был битком набит прихожанами, как и всегда на Рождество; мальчики из церковного хора пели пронзительными высокими голосами, плакали в толпе младенцы, протяжно, точно лошади, вздыхали старики, вытягивая морщинистые шеи, торчавшие из воротников белых праздничных рубах; богобоязненные старушки из числа тех, что каждый день ходят к мессе, бормотали молитвы, на несколько слов опережая священника; в жарком свете свечей распятие сияло над алтарем, точно расплавленное золото; время от времени сквозь запахи людской толпы прорывался чистый сухой аромат сосновых ветвей, которыми было убрано помещение церкви, а порой в открывшуюся дверь залетал ледяной сквозняк, тайком пробиравшийся по каменному полу и холодивший ноги. После окончания службы людям понадобилось по крайней мере полчаса, чтобы освободить церковь; но и выйдя оттуда, почти каждый останавливался где-то поблизости, поджидая родных и знакомых. В этой толпе сновали отставшие от родителей дети, застревали повозки, снежная пыль сверкала в лучах каретных и уличных фонарей. Пока старшие члены их семей здоровались со знакомыми и поджидали тех, с кем приехали сюда, Пьера и Лаура вместе с молодыми Сорентаями распевали старинный рождественский гимн.
Александр Сорентай пел так увлеченно, что его невеста Мария, дочь адвоката Ксенея, даже воскликнула протяжно:
– Ох, Са-андре! Пожалуйста, не так гро-омко! – И все вокруг засмеялись.
И по пути домой, в битком набитой карете Вальторскаров – там уместились граф Орлант, Гвиде, Элеонора, кузина Бетта, Эмануэль, Пернета, управляющий Гаври, Пьера и Лаура – девушки с таким энтузиазмом распевали хвалитны, что даже сам Гвиде Сорде поддержал их своим мощным баритоном. Элеонора, плотно притиснутая к мужу остальными пассажирами, заглянула ему в лицо и сказала удивленно:
– Гвиде, что это с тобой? Я уже лет двадцать не слышала, чтобы ты пел!
– А я слышала! – заявила Лаура. – Когда папа бреется, он часто поет, да только всегда останавливается на середине.
– Ну так давайте не будем останавливаться на середине! Подхватывайте! – предложил Гвиде, и все дружно подхватили песню. Граф Орлант, временно потерявший голос из-за болезни, петь не мог, зато старательно и звонко выстукивал ритм, барабаня по стеклу. Наконец все высыпались из кареты у дома Сорде, где их ждали праздничный ужин и замечательный пирог, имевший форму ветки дерева, перевитой плющом. Граф Орлант тут же принялся рассказывать всякие истории о священных деревьях, увитых плющом, о сторожевых камнях и древних друидах. Спать никто не ложился часов до пяти утра, а в одиннадцать самые мужественные отправились к заутрене в часовню Святого Антония, стоявшую на берегу озера. Сосны над часовней, усыпанные каплями растаявшего снега, сверкали в лучах яркого солнца, ибо к утру ветер успел совершенно разогнать тучи, но надгробия в церковном дворе, особенно с северной стороны, были белы от снега. Проповедь священника наполовину заглушал могучий ветер, завывавший на лесистых склонах горы Сан-Лоренц. После службы Пьера и Лаура прогуливались в церковном дворе, поджидая Элеонору, и невольно разошлись в разные стороны, потому что Пьера все время переходила от одной могилы к другой, читая надписи. Все надгробия здесь были уже очень стары; этим кладбищем давно уже не пользовались. Многие могилки были совсем маленькие, и на их гладких плитах не было никаких слов или знаков; здесь были похоронены дети, умершие лет сто назад. Пьера узнавала многие знакомые имена. Итале Сорде, 1734–1810. In te Domine speravi…[29]29
На тебя, Господи, уповаю (лат.).
[Закрыть] Пьера неподвижно застыла у этой могилы, глядя на кладбище, испещренное белыми пятнами снега и темными тенями сосен, на приземистую каменную часовню, с крыши которой звонко струилась капель, на озеро, такое спокойное в этот зимний полдень, на Лауру, торопливо идущую к ней и казавшуюся очень высокой и бледной в своем теплом пальто и опушенной мехом шапочке.
Подруги еще несколько минут постояли рядышком у могилы старого Сорде.
– Я хорошо помню, как дедушка стоял под окном с южной стороны дома, а я подошла к нему тихонько и взяла его за руку – мне для этого пришлось на цыпочки встать, таким он был высоким…
– Он умер через год после того, как я родилась…
– Странно: когда мы с Итале умрем, не останется никого в целом свете, кто его когда-либо знал или просто видел… Сейчас он словно еще и не умер по-настоящему, а вот после…
– Но ведь существует и загробная жизнь, – застенчиво, но довольно уверенно промолвила Пьера.
– Возможно. – Лаура все еще смотрела на надгробие.
– Ты в этом сомневаешься?
– Иногда.
Фразы, которыми они обменивались, были просты и кратки, но для обеих исполнены глубокого смысла.
– Это ведь не имеет для тебя особого значения, правда? – сказала Лаура. – «In te Domine speravi…» Неужели ради загробной жизни все это должно исчезнуть – воздух, земля, солнце? Неужели все это действительно так ужасно устроено?
– Но… я подумала… Знаешь, твой дедушка ведь тоже был молод, очень молод – лет семьдесят назад. Молод, как… и все теперешние молодые люди… как мы с тобой – потом-то мы, конечно, постареем… И может быть, он был влюблен… Конечно же, был! В твою бабушку. И они поженились и жили вместе, и у них родились два сына, и они вместе строили планы, разговаривали, к чему-то стремились, и дул ветер, и шел дождь, и светило солнце, вот так же отражаясь от снега, и они все это видели… а теперь… все это кажется таким странным! А ведь и до них точно так же жили люди, а теперь вот живем и мы, и после нас тоже будут жить люди, и мы ничего не сможем узнать о том, какими они будут, потому что времени не дано остановиться, оно все идет и идет… Каков был мой отец, когда ему было двадцать? Да и помнит ли он себя, двадцатилетнего? Знаешь, мне кажется, я обязана верить в загробную жизнь! Иначе все становится таким странным, таким бессмысленным… Просто ничего невозможно понять! – Пьера огляделась; по-прежнему светило солнце, на могилах полосами лежали тени. Ее легкий голосок даже задрожал от волнения, когда она тихо повторила: – Да и было ли им когда-нибудь по двадцать лет?…
Из-за угла часовни показался Гаври.
– Ваша матушка ищет вас, госпожа Лаура, – сказал он, стоя у ворот и держа в руках шапку.
Домой Пьера отправилась пешком. Она шла рядом с Гаври и кузиной Беттой. Со временем стало ясно, что Гаври – действительно очень хороший управляющий и надежный человек; он поистине снял с плеч графа Орланта бремя ответственности за поместье. Впрочем, с Пьерой он никогда первым не заговаривал и вообще держался в тех рамках, которые предписывали ему здешние правила приличий. Они и сейчас почти не разговаривали, зато кузина Бетта трещала без умолку. Пьера спаслась от ее болтовни только в кабинете графа Орланта, где тот, утомленный слишком долгой рождественской ночью, сидел у камина, украшенного праздничными гирляндами и резными мраморными купидонами. Купидоны были из того же местного серого мрамора, что и надгробия на кладбище у часовни Святого Антония. В камине жарко горел огонь. Пьера присела рядом с отцом, и они немного поболтали. Минувшим летом граф Орлант, к своему изумлению, обнаружил, что его дочь настолько повзрослела, что с ней вполне можно разговаривать на серьезные темы. Пьера стала очень похожа на свою покойную мать, и граф точно вновь обрел возможность беседовать со своей юной женой; в конце концов, она и умерла-то, будучи ненамного старше Пьеры. Отец и дочь нечасто пускались в откровенности, однако даже самые короткие и легкомысленные беседы с Пьерой доставляли графу ни с чем не сравнимое удовольствие, особенно в эти холодные зимние дни. В прошлом месяце, во время тяжкой болезни, он пережил несколько поистине ужасных часов, исполненных отчаяния. И сейчас предвидел свое одиночество и принимал его – зная, что рано или поздно Пьера все равно его покинет, выйдет замуж, уедет из Вальторсы. Однако радость и покой, воцарившиеся в его душе после ее приезда, заглушали все горькие мысли. И граф был почти счастлив.
Пьера тоже была счастлива в эти мгновения, сидя с отцом у огня; во всяком случае, более счастлива, чем в любой из тех дней, что она провела здесь прошлым летом. Те дни были полны душевного напряжения, невнятной тоски и какой-то странной неопределенности, бесцветной, беззвучной. Она ждала, ждала, ждала… Но чего? Своей свадьбы? Любви? Она приехала домой, но приехала не навсегда; она считалась чьей-то невестой, но ее жениха не было с нею рядом; она жила в полном одиночестве, точно застряв где-то на середине пути и ожидая чего-то неведомого. Все это казалось ей в чем-то совершенно неправильным. С каждой почтовой каретой она посылала Дживану Косте пространные и довольно-таки глупые письма. Она писала их, точно выполняла домашнее задание по родному языку – примерно так же, как когда-то писала сочинение для мисс Элизабет на тему «Обязанности юной дамы».
…Если Дживан действительно ее любит, то почему он не здесь? Она ведь оставила Вальторсу чуть ли не с облегчением, она так стремилась снова в Айзнар, но была ли она там счастлива в эту осень? Конечно, была! Но все-таки в этом счастье было больше ожидания, чем радости. А теперь ожидание закончилось, теперь время бежит быстрее, и она цепляется за каждое мгновение, ибо каждое мгновение в родном доме кажется ей теперь бесценным сокровищем. Все происходит здесь с нею в последний раз. И ей совсем не хочется ни вспоминать прошлое, ни заглядывать вперед.
Миновала «двенадцатая ночь»; Крещение принесло с собой морозную ясную погоду. Дороги промерзли настолько, что гремели под копытами лошадей, точно колокола. Солнце ярко сияло в ослепительной синеве небес. Лаура и Пьера приехали в Партачейку за почтой, с ними поехал и управляющий Гаври, у которого были еще дела на мельнице. Всю дорогу он хранил учтивое молчание. Девушки сразу направились в «Золотого льва», ведя лошадь Гаври в поводу, поскольку «Лев» служил не только гостиницей, но и почтой; здесь же можно было, в случае чего, взять лошадь или оставить свою. Как только они расстались с управляющим, Пьера заявила:
– Изо всех молчунов Монтайны этот, по-моему, самый молчаливый!
– Но разговаривать он вроде бы умеет неплохо, – равнодушно откликнулась Лаура.
– Сомневаюсь! Он так бережет свой язык, точно он из золота.
– Да здесь вообще любят болтать только женщины, вот мы, например. По-моему, только городские мужчины способны трещать без умолку, верно? – Лаура частенько вот так поддразнивала Пьеру, которая приобрела в Айзнаре совершенно немыслимые здесь привычки, однако сейчас она постаралась уколоть Пьеру побольнее. Пьера и сама понимала, что проявила бестактность, и больше о Гаври не заговаривала. Они поздоровались со старым хозяином «Золотого льва», оставили лошадей в конюшне и после приличествующего случаю обмена любезностями со стариком прошли в вестибюль, отделанный дубом и сверкающий начищенной медью, чтобы поздороваться с женой хозяина и спросить, нет ли им писем, и она сразу протянула им три письма – одно для Пьеры, два для Лауры.
– Ах! – воскликнула, оживая, Лаура. – Спасибо вам огромное, госпожа Карел!
– Да, это уж, конечно, дом Итаал пишет! Я утром сразу его письма в мешке разглядела, я его почерк сразу узнаю, да и пишет он всегда только черными чернилами. – Вид у госпожи Карел был исключительно самодовольный; женщина она была не слишком образованная и довольно пустая. Некоторое время побеседовав и с ней для порядка, девушки отправились к Эмануэлю.
– Ну же, Пери, – все приговаривала Лаура, – идем скорее, так хочется письма прочитать! Интересно, а от кого вон то, второе? Может, это дяде? Твое-то ведь от?…
– О да! – вздохнула Пьера.
– Интересно: обратный адрес на нем ракавский. Значит, он сейчас в Ракаве? Вот почему мы от него уже месяц ничего не получали! У них, на востоке, должно быть, почта еще хуже работает. Да и далеко это… – Лаура шла в два раза быстрее, чем обычно, на ходу изучая конверт, который, соблюдая приличия, не решалась вскрыть прямо на улице. Она прямо-таки летела по бесконечным извилистым улочкам с булыжными мостовыми, по соединявшим эти улочки лестницам – прямо к дому Эмануэля. Пьера едва успевала за ней. Эмануэля дома не оказалось, и девушек встретила Пернета. Не тратя времени даром, они, еще стоя в прихожей, вскрыли письмо Итале и стали его читать, а Пьера прошла в гостиную и села в глубокое кресло у окна, смотревшего на север, на перевал. Письмо было от Дживана Косте. Спокойное, полное любви письмо – такие пишут женам мужья, много лет прожив с ними в браке. Маленький Баттисте тоже вложил в конверт записочку, написанную детским, округлым, но четким почерком: «Дорогая графиня Пьера! Варенье с имбирем было очень вкусное, только очень жгло язык, так что я его ел совсем понемножку. Зато съел все! Мои кролики здоровы. Они очень любят овсяную крупу, как Вы и говорили. Желаю Вам всего хорошего в новом году, Ваш любящий друг, Баттисте Венсеслас Косте».
Пьере очень хотелось показать это замечательное письмецо Лауре, но почему-то делать этого она все же не стала. Странно – а уж Лауре это покажется и еще более странным! – что этот мальчик вскоре станет Пьере сыном, вернее пасынком… А ведь ему уже семь, он всего на одиннадцать лет младше самой Пьеры, этот ее «любящий друг, Баттисте Венсеслас Косте»!.. Ладно, Лаура еще не привыкла к той мысли, что ее лучшая подруга выходит замуж. Да и сама она, Пьера, к этой мысли еще не привыкла… Так что и говорить об этом не стоит.
– Ну что там пишет Итале? – звонко спросила Пьера.
– Вот, дорогая, прочитай сама, если хочешь. – Пернета протянула ей письмо. – Ну же, Лаура, ты ведь уже дважды прочла, пусть теперь и Пьера прочтет. А это что такое? Второе письмо?
– Ах да, я и забыла! – воскликнула Лаура. – Посмотри-ка: «Для господина Сорде из Валь Малафрены, Партачейка, пров. Монт». Интересно, кому оно? Папе или дяде?
– Эмануэль, конечно, сразу бы догадался, от кого оно. Ну ладно, я только взгляну, как там мой пирог, и сразу вернусь.
Лаура, присев на ручку кресла, вместе с Пьерой в третий раз читала письмо от брата, заглядывая подруге через плечо.
– Смотри: «Ракава, 18 ноября 1827 года».
– Подумать только! – Лаура словно и не заметила этого раньше. – Целых два месяца это письмо сюда добиралось! Ведь даже если ехать через всю страну, даже зимой, все равно два месяца – это слишком много. Между прочим, первое письмо Итале из Ракавы шло всего две недели!
– Да-да, не мешай, пожалуйста, – пробормотала Пьера и стала читать вслух:
«Мои дорогие и родные! Простите великодушно: на прошлой неделе я умудрился пропустить почту, но надеюсь, что вы все же не считаете меня совсем пропащим. Здесь у меня нет буквально ни минуты свободной, и единственная за последнее время спокойная неделя, проведенная в Эстене, кажется мне теперь страшно далекой, словно с тех пор прошли века. Мое впечатление от Ракавы осталось практически неизменным: мне этот город по-прежнему не нравится, но, с профессиональной точки зрения, он для меня чрезвычайно интересен. Такой нищеты я не встречал более нигде, и я очень рад, что оказался в этом страшном месте, где любой способен утратить душевное равновесие, не один. Юный Агостин, заботясь об уюте, повесил на окна замечательные красные занавески, что весьма оживило наше убогое жилище, а заодно и избавило нас от необходимости мыть ужасно грязные окна. Мой собственный вклад в ведение домашнего хозяйства заключался в покупке огромного пакета с «чудесным» порошком от тараканов. Честно говоря, я так и не понял, что в нем такого «чудесного»: прусаки жрут его с огромным удовольствием; возможно, они считают, что это «угощение» я принес специально для них, явившись к ним в дом незваным».
– Прусаки? – спросила Пьера.
– Тараканы. Эва тоже всегда их прусаками называет.
– Ах вот оно что! А я решила, что он совсем другое имеет в виду… Дай-ка я еще разок прочту,
«…явившись к ним в дом незваным. Надеюсь, что они все передохнут «в страшных мучениях», как написано на пакете с порошком, но совсем в этом не уверен. Если мои письма будут задерживаться, пожалуйста, не волнуйтесь: государственная почтовая служба существует в Полане всего три года, да к тому же Полана исторически не склонна действовать, как все остальные девять провинций, и я совершенно уверен, что почта здесь настолько медлительна и ненадежна, насколько этого может пожелать кто-либо из цензоров. Возможно, мы с Агостином сумеем вернуться в Красной с почтовым дилижансом уже на рождественской неделе, и как только я вновь окажусь на Маленастраде, письма мои, можете поверить, опять будут приходить регулярно. Но, что гораздо важнее, я смогу наконец получать и ваши письма! Я не имею от вас известий с тех пор, как уехал из Эстена (я вас не обвиняю – просто жалуюсь!), и у меня такое ощущение, словно уехал я как минимум на Южный полюс».
– Но ведь мы посылали письма с каждой почтой! – вставила Лаура. – Ненавижу эту Полану! И зачем только ему понадобилось туда ехать!
«…на Южный полюс. Но, будучи уверенным, что вы мне, конечно же, пишете, я утешаю себя надеждой получить сразу целую пачку писем по возвращении в Красной.
Я мало что могу прибавить к тому, что уже сообщил вам в своем последнем письме. Пожалуйста, напишите, выходит ли «Беллерофон». Два юнца, что отвечают за его распространение, еще совсем зеленые, и, когда я уезжал из Красноя, у них царила полная неразбериха. Если «Беллерофон» по-прежнему выходит нерегулярно, а вам хотелось бы его получать, я сам позабочусь о том, чтобы ваши экземпляры приносили прямо к почтовому дилижансу, отправляющемуся в Партачейку. Между прочим, в декабрьском номере Карантай начинает публиковать свой новый роман. Он утверждает, и я склонен ему верить, что эта вещь несколько более слабая, чем «Молодой Лийве». Да и невозможно было бы ожидать – даже от Карантая! – чтобы он создал второй шедевр подряд. Но, по-моему, и этот роман у него тоже очень и очень неплох.
Дорогие мама, отец и сестренка! Сердцем я всегда с вами! Передайте мой самый сердечный привет дяде и тете, графу Орланту и всем нашим соседям из Валь Малафрены. Если это письмо окажется последним перед Рождеством, то, на всякий случай, примите заодно и мои горячие поздравления с праздником!
Ваш любящий сын, Итале Сорде».
Пьера с трудом дочитала последние строки: в глазах у нее стояли слезы, в носу подозрительно щипало. Некоторое время обе девушки молчали. Пьера про себя перечитывала письмо.








