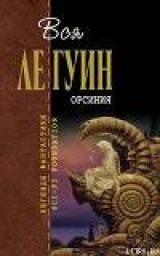
Текст книги "Орсиния (сборник)"
Автор книги: Урсула Кребер Ле Гуин
Жанр:
Альтернативная история
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 45 страниц)
Напыщенные речи революционных вожаков были исполнены лицемерия и тщеславия; это чувствовалось вполне отчетливо. И все же в них ставился вопрос о Свободе, которая воспринималась как не менее важная человеческая потребность, чем потребность в хлебе и воде! Не в силах унять возбуждение, Итале бегал по небольшой тихой библиотеке, потирая виски и тупо озирая книжные полки. Свобода отнюдь не является такой уж необходимостью, она даже опасна – об этом вот уже десять лет твердили европейские законодатели. Взрослыми людьми, точно детьми, следует руководить ради их же блага, и руководство должно быть поручено тем немногим избранным, которые познали науку управления государством. Что же в таком случае имел в виду этот француз Верньо,[15]15
Пьер Виктюрньен Верньо (1753–1793) – деятель Великой французской революции, один из руководителей жирондистов. По приговору революционного трибунала казнен.
[Закрыть] утверждая свой выбор – жить свободными или умереть? Ведь детям такой выбор предлагать нельзя. Значит, его слова предназначены для взрослых людей! Звучат они смело и ново, хотя, может быть, оратору порой не хватает логики – в отличие от тех, кто поддерживает военные альянсы, цензуру, репрессии, казни. Да, это, конечно же, НЕРАЗУМНЫЕ слова!
В тот день Итале опоздал к ужину и выглядел больным. Ел он мало, а после ужина сбежал из дому и в темноте спустился на берег озера, где бродил несколько часов, сражаясь с тем ангелом-вестником, что сегодня днем бросил ему вызов. Для этого поединка он старался использовать все свои знания и умения; в девятнадцать лет он чрезвычайно ценил разум и способность мыслить здраво; и все же противник одержал над ним победу, почти не прилагая усилий. Разве мог Итале противиться тому, чего втайне давно желал и искал? Идеалу истинного человеческого величия, не воплощенного в конкретном лице, но завоеванного братством всех народов земли? Пока хоть одна живая душа несправедливо осуждена томиться в неволе, я тоже не свободен – так думал сей неофит, и при этих мыслях лицо его становилось решительным и суровым, а глаза вдохновенно и счастливо светились. Итак, двадцатый год Итале оказался самым счастливым в его жизни. Порой, если мать невольно вторгалась в его молчаливые раздумья, он отвечал ей невпопад, словно возвращаясь откуда-то издалека, и матери было невдомек, почему синие глаза сына смотрят на нее с таким радостным узнаванием, словно он только что вернулся из дальнего странствия.
Мать гораздо раньше, чем сам Итале, поняла, что ему хочется уехать из дому; он же уяснил это для себя лишь тем летом, когда после работы уплывал на лодке по сверкающей в закатных лучах глади озера к его восточному берегу, где брала начало река Кьясса, стремившаяся по заросшим лесом склонам гор к холмистым долинам предгорий и сливавшаяся там с Мользен. У своих истоков Кьясса напоминала скорее бурный ручей; Итале любил сидеть у воды и смотреть на нее, думая о том, что, должно быть, к концу лета эта вот вода добежит до моря, а он, Итале, так и останется здесь, на берегах спокойного озера Малафрена. Родные пытались убедить Гвиде Сорде, что желание Итале покинуть на время отчий дом вполне естественно для молодого человека, но Гвиде считал это неразумным баловством. Кому-то же нужно управлять имением, а Итале – единственный наследник и должен понимать, что дело и долг превыше всего. Тогда Элеонора, следуя совету своего деверя, попробовала «подъехать» к мужу с другой стороны и предложила послать Итале в университет Солария.
– Ведь, в конце концов, и вы с Эмануэлем учились там благодаря твоему отцу, – заметила она.
– Там Итале не получит ничего из тех знаний, которые ему действительно необходимы, – спокойно возразил Гвиде, однако в голосе его послышался отзвук гнева – так поднявшийся легкий ветерок порой предвещает надвигающуюся грозу. – Пустая трата времени!
Элеонора никогда не стала бы бороться с неколебимым и самоуверенным провинциализмом своего супруга ради себя самой, но ради Итале она пошла и на это.
– Но ему необходимо повидать других людей и хотя бы немного познать мир! Разве он сможет научить чему-то своих крестьян, если будет всего лишь одним из них?
Гвиде нахмурился. Жена использовала против него его же собственное оружие и сделала это весьма искусно; кроме того, он чувствовал уязвимость собственных позиций, ибо не находил достаточно веской причины для своего упорного нежелания отпустить сына, сердился, что члены семьи понять его не хотят, и, сам себя не понимая, обижался на всех, потому что знал: уступить все-таки придется. Это было ясно всем, даже Итале. Но спорить с Гвиде хватило терпения и такта только у Элеоноры.
Итак, в сентябре 1822 года монтайнский дилижанс повез Итале за перевал, в северную долину. Оглядываясь назад, он видел знакомые и вечно менявшиеся очертания гор, высившихся над бесконечными складками предгорий, – крутой восточный склон гордой Сан-Дживан, вершину Синвийи и за ними в голубоватой дымке Охотника, точно готовящегося к прыжку. Когда родные горы скрылись из глаз, Итале достал серебряные дедовы часы и заметил время: двадцать минут десятого. Дорога, ведущая в долину, была залита солнцем; на скошенных полях трещали кузнечики; крестьяне заканчивали уборку урожая; в деревнях было пусто и тихо. Это был тот самый «золотой край», который он видел за грозовыми тучами, нависавшими над Партачейкой. Названия здешних селений он знал только на слух – Вермаре, Чага, Бара. Бара находилась на самой границе провинции Монтайна, а чуть дальше, в Эрреме, Итале пересел в другой дилижанс, направлявшийся в Судану. Он не отрывался от окна, рассматривая местных жителей, их дома, их кур и свиней и стараясь понять, чем все это – свиньи, куры, дома, люди – отличается от тех, других, ему привычных.
Соларий показался ему каким-то сонным. Вокруг паслись тучные стада, дома тонули в густых садах, полных роз, даже широкая река Мользен будто дремала, медленно неся свои сверкающие воды на юг под старым мостом в центре города. Студенты университета, не слишком утруждая себя занятиями, и не думали устраивать средневековые поединки, а предпочитали мирно пить вино в приятной компании и влюбляться в красивых местных девушек, которые отвечали им взаимностью. На второй год своего обучения Итале, отвергнутый ветреной дочерью булочника, гневно решил отказаться от любви и повернулся лицом к политике. Он стал вожаком студенческого общества «Амиктийя», которое правительство страны терпело с большим трудом. Все подобные организации считались в государствах, подобных Германии, практически вне закона; например, университетское студенческое общество в Вильно настолько раздражало Государя Всея Руси, что в 1824 году он его запретил окончательно и отправил в ссылку его руководителей, а студенты с тех пор находились под постоянным надзором полиции. Однако именно это и придавало членству в «Амиктийе» определенную остроту ощущений. Студенты, выпив немалое количество вина, с удовольствием пели запрещенный гимн: «За ночью вслед придет рассвет, твой, о Свобода, день наступит вечный…», добывали и распространяли запрещенные книги, обсуждали революционные события во Франции, Неаполе, Пьемонте, Испании, Греции и возможности установления конституционной монархии, спорили о гражданском равенстве, о всеобщем образовании, о свободе печати – но все эти диспуты велись без какой бы то ни было ясной цели; студенты плохо представляли себе, чего, собственно, хотят добиться. Считалось, что подобные дискуссии запрещены, а раз так, то запрет, разумеется, следовало нарушить! Закончив третий курс, Итале решил, что ему, видимо, действительно пора уже навсегда вернуться домой, но тут случилось непредвиденное: среди ночи он оказался у дверей университетской церкви, да еще в одном башмаке, умирающий от смеха, а потом, на берегу реки, в солнечном свете, услышал слова Френина о том, что им необходимо ехать в Красной.
Глава 3Эмануэль Сорде откашлялся – уж больно тема разговора была взрывоопасной – и заметил с должной осторожностью:
– На этой неделе в газетах одни загадки! Интересно, состоится ли все же заседание Генеральных штатов?
– Национальной Ассамблеи, вы хотите сказать? Но должно же оно наконец состояться! Ведь после смерти короля Стефана они не собирались ни разу.
– То есть целых тридцать лет?
– Как все-таки странно, не правда ли?
– А знаете, граф, я ведь и сейчас не уверен, что это заседание состоится; да и «Меркурий» ничего о ближайших планах Национального собрания не пишет. Естественно, возникают вполне определенные подозрения…
– Да уж! – Граф Орлант Вальторскар вздохнул. – Жена всегда раньше заставляла меня подписываться на айзнарский «Меркурий». Она считала, что в нем гораздо больше достоверных сведений о нашей действительности, чем во всех других изданиях. Кстати, что с ним стало?
– Он так долго был запрещен, что его владельцы разорились, – ответил графу Итале и с жаром прибавил: – С тех пор у нас нет ни одной свободной газеты!
– Даже если наши штаты все-таки действительно соберутся на ассамблею, – заговорил Гвиде, как всегда уверенно, неторопливо и негромко, – то ничего особенного и не произойдет: поболтают и разойдутся, как в 96-м.
– Поболтают! – Его сын так резко поставил на столик пустой бокал, что чуть не разбил его. – Это ведь в любом случае достаточно важно, чтобы…
Но Эмануэль прервал его:
– Они, вероятно, смогли бы что-то наконец сделать хотя бы в отношении налоговой системы. Вот, например, венгерскому парламенту удалось отобрать у Вены контроль над сбором налогов.
– Ну и что? Налоги ведь от этого не уменьшились! Уж этого-то никогда не случится.
– Зато эти деньги не будут потрачены на содержание иностранной полиции! – возразил Итале.
– А нам-то какое до нее дело – в наших горах?
На длинном холеном лице графа Орланта, покрытом старческим румянцем, отразились глубокое сожаление и растерянность. Ему было жаль всех – императоров, полицейских, сборщиков налогов и несчастных бедняков, попавших в сети материальных тягот; он знал, что от него ожидают не только сочувствия, но не в состоянии был соответствовать этим ожиданиям. Вот мрачный Гвиде, а рядом настороженный Эмануэль и взволнованный Итале… Юноша, будучи более не в силах сдерживать себя, в итоге взорвался: «Придет время, когда!..» – но Гвиде прервал его, точно отклоняя брошенный старшему поколению вызов, и граф вздохнул с облегчением.
– Не пройти ли нам на балкон? – предложил хозяин дома, и они присоединились к дамам, удобно устроившимся на просторном, вымощенном плиткой балконе, обнесенном широкими перилами, который старый Итале велел построить с южной стороны дома, прямо над озером. Был теплый вечер, последний вечер июля. В воде отражалось бледно-голубое небо, и вода тоже казалась абсолютно голубой, лишь в глубокой тени гор она имела темно-коричневый оттенок. На востоке, на том берегу озера, за крутыми склонами гор, все тонуло в туманной дымке. На западе, за горой Сан-Лоренц, небо еще горело закатными красками, так что и воздух, и белые плитки, которыми был вымощен балкон, и белые цветы душистого табака в горшках, и белое платье Лауры, и голубая поверхность озера – все как бы подсвечивалось розовым. Постепенно яркие тона начинали бледнеть, и над головой замерцала в вечерней тишине далекая Вега. Кипарис, росший у внешнего угла балкона, на фоне светящихся воды и неба казался совсем черным, а в воздухе, напоенном ароматами летних сумерек, негромко звучали голоса женщин.
– Боже мой! Какой дивный вечер! – вздохнул граф Орлант. В голосе его явственно слышался местный акцент. Казалось, он удивлен тем, что ему, недостойному, выпало столь высокое счастье – присутствовать на этом вечернем пиршестве красок. Он стоял, глядя на раскинувшееся перед ним озеро, и с безмятежным видом любовался открывавшимся с балкона прекрасным видом. Элеонора и Пернета, как всегда, перебирали скопившиеся за последнюю неделю слухи и сплетни: Элеонора рассказывала своей невестке о событиях в Валь Малафрене, а Пернета – о том, что произошло в Партачейке. Девушки, Пьера Вальторскар и Лаура, тихонько о чем-то беседовали и мгновенно перешли на шепот, стоило мужчинам появиться на балконе.
– …Но он же совсем не умеет танцевать! – донеслись до Итале последние слова Лауры.
– И шея у него вся волосами заросла, точно старый пень – мхом! – лениво усмехнулась в ответ Пьера. Пьере недавно исполнилось шестнадцать. Она была похожа на отца: такое же продолговатое лицо и ясный, безмятежный взгляд. Роста она была небольшого и пока что вся, с головы до ног, даже пальчики на руках, казалась пухленькой, как ребенок, и немножко неуклюжей.
– Хоть бы кто-нибудь новый появился! А то и настоящего бала не получится… – прошептала Лаура.
– Интересно, а ванильное мороженое будет? – вдруг с неожиданным интересом спросила Пьера.
Пернета тем временем, прервав сложный обмен новостями с Элеонорой, спросила мужа:
– Эмануэль, это верно, что Алиция Верачой – троюродная сестра Александра Сорентая?
– Несомненно! Она в Монтайне со всеми в родстве.
– Значит, это его мать в 1816 году вышла замуж за Берчоя из Валь Альтесмы?
– Чья мать?
– Мужа Алиции.
– Но Пернета, дорогая, – вмешалась Элеонора, – вспомни: Дживан Верачой умер в 1820-м, как же его вдова могла вторично выйти замуж в 1816-м?
Эмануэль только языком поцокал и поспешил ретироваться. Пернета не сдавалась:
– Но ведь Роза Берчой – свекровь Алиции, это же ясно!
– Ах, значит, ты имеешь в виду Эдмунда Сорентая, а не Александра! – воскликнула Элеонора. – И это ЕЕ отец умер в 1820 году!..
Эмануэль, брат Гвиде, хоть и был на шесть лет моложе, успел поседеть значительно сильнее; лицо у него было более живым и не таким суровым, как у старшего брата. Он не отличался особым честолюбием, был человеком весьма общительным, а потому предпочел жить в городе, где имел адвокатскую практику, закончив юридический факультет в Соларии. Он уже дважды отказывался от поста городского судьи, так ничем своего отказа и не объяснив, и окружающие по большей части приписывали этот отказ его лености. Он действительно был довольно-таки ленив, весьма ироничен и, подшучивая над самим собой, называл себя «исключительно бесполезной и удачливой личностью». Он всегда считался с мнением брата и во всем с ним советовался, но соглашался с Гвиде неохотно. Богатый адвокатский опыт, постоянная работа с людьми сделали его характер обтекаемым и дипломатичным, тогда как Гвиде, точно кремень с острыми краями, сохранил и прежнюю твердость, и прежнюю неуступчивость. У Эмануэля и Пернеты детей не было: их единственный ребенок родился мертвым. Пернета, женщина живая, несколько суховатая и куда более желчная и ироничная, чем Эмануэль, никогда не комментировала заявления своего мужа насчет его необычайной удачливости и никогда не вмешивалась в воспитание своих племянников, хотя Итале и Лаура были для нее единственным светом в окошке, она обожала их и гордилась ими.
Итале присоединился к дяде, стоящему у перил на том краю балкона, возле которого высился старый кипарис. Лицо юноши пылало, волосы растрепались, галстук съехал набок.
– Ты читал в «Меркурии» о заседании парламента провинции Полана? – спросил он Эмануэля. – Между прочим, я имел в виду как раз автора этой статьи, Стефана Орагона.
– Да-да, припоминаю. Значит, это он будет депутатом, если ассамблея все-таки состоится?
– Да. И такой человек нам сейчас очень нужен: он, как Дантон, способен говорить от имени всего народа.
– Ну а народ-то хочет, чтоб говорили от его имени?
Подобных вопросов члены общества «Амиктийя» друг другу не задавали, и Итале смутился.
– И что ты имеешь в виду под словом «народ»? – продолжал наступать Эмануэль, закрепляя достигнутый успех. – Наш класс землевладельцев вряд ли можно назвать «народом»… Так кто это? Купцы? Крестьяне? Городской сброд? По-моему, у всех классов и групп свои цели и требования…
– Это не совсем так… – задумчиво проговорил Итале. – Просто невежество одних ограничивает возможности других, и последние не могут должным образом и ко всеобщему благу воспользоваться полученным образованием. Но разве можно поставить преграду на пути света? Да и справедливое общество можно построить только на фундаменте всеобщего равенства – это доказано четыре тысячи лет назад и доказывается снова и снова…
– Доказано? – переспросил Эмануэль, и тут уже понесло обоих. Их споры всегда начинались так – Эмануэль действовал спокойно, заставляя Итале защищать собственное мнение, и всегда в итоге Итале полностью терял контроль над собой, утрачивая и природное добродушие, и твердость убеждений. Тогда Эмануэль «перегруппировывал» свои силы, провоцируя у племянника иную форму защиты и пребывая в уверенности, что этим способен уберечь юношу от повторения чужих мыслей, хотя на самом деле втайне и сам мечтал не только слышать, но и произносить вслух любимые слова Итале: наша страна, наши права, наша свобода!
Элеонора попросила Итале принести Пернете шаль, которую та забыла в двуколке. Когда он вернулся, закат уже догорел, легкий ветерок был полон ночных ароматов, небо, горы и озеро тонули в глубокой синеве сумерек, пеленой окутавших землю. Лишь платье Лауры на фоне высаженных по краю балкона декоративных кустарников по-прежнему светилось туманно-белым облаком.
– Ты похожа на жену Лота,[16]16
Когда ангелы выводили Лота, племянника Авраама, вместе с его семейством из Содома, который должен был неизбежно погибнуть, жена Лота, несмотря на запрет ангелов, все же оглянулась назад и превратилась в белый соляной столб.
[Закрыть] – сказал ей брат.
– На себя посмотри: у тебя сейчас булавка из галстука выпадет! – заметила она в ответ.
– О, да ты никак и булавку в темноте видишь!
– А мне и не нужно ее видеть: с тех пор как ты увлекся Байроном, у тебя галстук вечно не в порядке.
Сестра Итале, Лаура, высокая, худенькая, с красивыми руками – длинные сильные пальцы, гибкие изящные запястья, – страстно любила брата. Но в жизни ею неумолимо правила исключительная душевная прямота. Если Элеонора порой и заставляла сына спуститься с облаков на землю, то вряд ли действительно хотела как-то уязвить его. А вот Лаура, обожавшая Итале и нетерпимая к его недостаткам, всегда делала это сознательно. Ей хотелось, чтобы брат, по ее мнению заслуживавший самой высокой оценки, всегда оставался самим собой вне зависимости от модных течений, мнений и авторитетов. Будучи по натуре очень мягкой и совершенно лишенной высокомерия, в отношении брата девятнадцатилетняя Лаура не желала идти ни на какие компромиссы и проявляла ту же непреклонность, что и ее отец. Итале ценил мнение сестры о своей персоне выше всех прочих и сейчас шутливо пререкался с нею исключительно потому, что их разговор слушала Пьера Вальторскар. Поспешно поправив галстук, он с независимым видом заявил:
– С чего это ты решила, что я подражаю лорду Байрону? По-моему, лишь его гибель действительно достойна всеобщего восхищения. Он, несомненно, умер героем! Однако поэзия его довольно тривиальна.
– Хотя прошлым летом ты буквально заставил меня читать его «Манфреда»! И сегодня тоже его цитировал – «твои какие-то там крылья…»!
– «И крылья твоей бури улеглись». Но это вовсе не Байрон, это Эстенскар! Неужели ты не читала его «Оды»?
– Нет, – смутилась Лаура.
– Я читала, – сказала Пьера.
– Значит, ты знаешь, чем они отличаются друг от друга!
– Нет. Лорда Байрона я не читала; даже в переводе. По-моему, папа эту книжку куда-то спрятал! – Пьера говорила очень тихо, чтобы не услышали взрослые.
– Зато ты читала Эстенскара! Тебе ведь понравилось, верно? Например, его «Орел»… Там в конце есть прекрасные строки:
Но и в неволе видишь ты века иные,
Что твоему открыты взору,
Подобно небесам…
– Но кого все-таки Эстенскар имеет в виду? – наивно спросила Лаура, по-прежнему смущенная.
– Разумеется, Наполеона! – рассердился Итале.
– Ах, дорогой, снова ты об этом Наполеоне! – вмешалась в их разговор Элеонора. – Будь так добр, принеси и мне шаль! Она, должно быть, в прихожей. Или спроси у Касса, только он, наверно, сейчас обедает…
Итале принес матери шаль и немного постоял у ее кресла, словно не зная, к кому подойти теперь. С одной стороны, следовало бы вернуться к дяде, который все еще стоял у перил, и продолжить спор с ним, отстаивая свои позиции разумно, по-мужски; возможно, тогда он смог бы доказать Пьере, а заодно и самому себе, что только в ее обществе он всем кажется мальчишкой, потому что сама она совсем еще ребенок. С другой стороны, ему очень хотелось еще поговорить с девушками.
Мать подняла голову и посмотрела на него.
– И когда только ты успел так вырасти? – удивленно и любовно спросила она. На ее лицо из окон гостиной падал луч света. Когда Элеонора улыбалась, ее верхняя губа немножко нависала над нижней, отчего лицо приобретало застенчивое и одновременно чуть лукавое выражение; в такие минуты она была просто очаровательна, и Итале даже рассмеялся от удовольствия, глядя на мать. Она тоже засмеялась – в ответ и еще потому, что сын вдруг показался ей невероятно высоким.
Граф Орлант подошел к девушкам и, ласково коснувшись волос дочери, спросил:
– Ты не замерзла, детка?
– Нет, папа. Здесь так хорошо!
– А по-моему, нам пора в дом, – сказала Элеонора, не двигаясь с места.
– Послушай, как насчет пикника в сосновом лесу? – спросила Пернета. – Мы же все лето собирались его устроить!
– Ох, я совсем забыла! Но если угодно, можно поехать хоть завтра, хорошая погода еще постоит, правда, дорогой?
– Я думаю, да, – кивнул Гвиде, сидевший с нею рядом и погруженный в собственные мысли. Ему не нравились споры, которые Итале и Эмануэль вели за столом. Он вообще с презрением относился ко всяким политическим дискуссиям. Некоторые из его ближайших соседей, интересовавшиеся политикой, правда, исключительно в пределах родной провинции и никак не дальше, в свою очередь презирали его за это, повторяя: «Ну, этот Сорде носом в свою землю уткнулся и глаз от борозды не поднимет!» Другие им возражали, говоря даже с некоторой завистью: «Гвиде – человек старой закваски, из хорошей семьи! Сорде – настоящие независимые думи!» – однако же соглашались с первыми в том, что во времена их отцов и дедов жить было куда проще. Сам-то Гвиде хорошо понимал, что уж его-то отец определенно к людям «старой закваски» не имел ни малейшего отношения. Он помнил, как часто прежде приходили отцу письма из Парижа, из Праги и Вены, как часто приезжали гости из Красноя и Айзнара, какие жаркие споры велись за обеденным столом и в библиотеке… И все же старый Итале никогда в местных политических событиях не участвовал и никогда не высказывал прямо собственного мнения на сей счет. И в его сдержанности, связанной с добровольной ссылкой в родное поместье, таилось нечто большее, чем простая терпимость к чужому мнению; это явно был сознательный выбор, и он крепко держал слово, некогда данное кому-то, возможно даже, самому себе, и связанное, должно быть, с каким-то горьким поражением в жизни. Но Гвиде так и не узнал, что же это было за поражение и каков был выбор отца; он никогда не задавал вопросов на эту тему, но теперь, впервые в жизни, был вынужден задуматься: почему именно так сложилась судьба отца и что произошло с ним, когда ему, по всей видимости самому, пришлось делать выбор? Причина столь крутого поворота в жизни старого Итале осталась Гвиде неизвестна. И сейчас он, крепко задумавшись, был похож на мрачный могучий утес, молчаливо высившийся в теплых летних сумерках среди журчащих, точно ручейки, оживленных голосов. Молчала, впрочем, и сидевшая рядом с ним Пернета. Граф Орлант и Элеонора присоединились к Эмануэлю, по-прежнему стоявшему у перил; молодежь тоже продолжала негромко беседовать.
– Возможно, это довольно глупая идея, – послышался голос Лауры, – но я не верю, что человек должен умереть, если он сам этого не хочет. То есть… я не могу поверить, что люди, если они действительно ни капельки не хотят умирать, все равно умрут. – Она улыбнулась; улыбка у нее была в точности как у матери. – Ну вот! Я же сказала, что это глупо.
– Нет, я тоже так думаю, – откликнулся Итале. Он считал необычайным, загадочным то, что у них с сестрой возникают одни и те же мысли. Он очень любил Лауру и восхищался ее способностью говорить о своих чувствах вслух, чего сам делать не решался. – Я не вижу причины, по которой людям стоило бы умирать, не вижу в смерти необходимости. Просто, наверное, люди в итоге устают и сдаются. Разве я не прав?
– Конечно, прав! Смерть всегда приходит как бы извне – человек заболевает или… ему камень на голову падает – в общем, источник смерти не внутри самого человека.
– Верно. А если ты сам себе хозяин, то вполне можешь сказать ей: «Извините, я сейчас занят, приходите попозже, когда я с делами покончу!»
Все трое рассмеялись, и Лаура сказала:
– А это значит: «никогда»! Разве можно переделать все дела?
– Конечно, нет – за какие-то семьдесят лет! Смешно! Если бы я мог прожить лет семьсот, я бы первые сто лет только думал – у меня никогда не хватало времени подумать как следует. А потом уже поступал бы исключительно разумно, а не спешил и не метался бы, не попадал бы каждый раз впросак.
– И чем бы ты тогда занялся? – спросила Пьера.
– Ну, например, сто лет я бы целиком пожертвовал на путешествия; объехал бы всю Европу, обе Америки, Китай…
– А я бы уехала туда, где ни одна живая душа меня не знает! – прервала его Лаура. – И для этого совсем не обязательно забираться так далеко – вполне сойдет даже Валь Альтесма. Да, мне бы хотелось пожить среди чужих людей. И попутешествовать я бы, конечно, тоже хотела – увидеть Париж, вулканы Исландии…
– А я бы хотела остаться здесь, – сказала Пьера. – Я бы скупила все земли вокруг озера, кроме ваших, и заставила бы всех неприятных людей отсюда уехать. И у меня была бы большая семья. Человек пятнадцать детей. И каждый год тридцать первого июля они бы съезжались домой отовсюду, где бы ни были, и мы бы устраивали на берегу озера потрясающий праздник, катались бы на лодках…
– А я привез бы для этого праздника из Китая разные хлопушки и фейерверки.
– А я бы привезла из Исландии вулканы, – подхватила Лаура, и снова все засмеялись.
– А что бы вы сделали, если б могли загадать три желания? – спросила Пьера.
– Пожелала бы еще триста желаний, – сказала Лаура.
– Это нельзя. Всегда бывает только три желания.
– Ну, тогда не знаю. А ты бы что пожелал, Итале?
– Нос покороче, – мрачно ответствовал он, немного подумав. – Чтобы люди на него внимания не обращали. И еще – присутствовать на коронации Матиаса Совенскара.
– Это два. А третье желание?
– Да мне и двух хватит, – усмехнулся Итале. – А третье я бы отдал Пьере, ей бы, по-моему, оно больше пригодилось.
– Нет, трех мне вполне достаточно, – возразила Пьера, но сказать, каковы же эти ее три желания, не захотела.
– Ладно, – кивнула Лаура, – тогда я забираю твое третье желание, Итале, и хочу, чтобы все мы и правда прожили по семьсот лет!
– И каждое лето возвращались домой – на праздники, которые будет устраивать Пьера, – прибавил Итале.
– Что они там болтают? Ты что-нибудь понимаешь, Пернета? – спросила Элеонора, прислушавшись к их разговору.
– Да я и не слушала, Леле, – отозвалась ее невестка. У Пернеты был очень красивый голос – глубокое контральто. – Как всегда, несут всякую бессмыслицу.
– Во всяком случае, это не большая бессмыслица, чем обсуждать, чья там свекровь приходится кому-то сводной сестрой или троюродной бабушкой! – тут же ощетинилась Лаура.
– Да уж! – поддержал ее брат.
– Кстати, девочки, мы ведь так и не решили, какое платье сшить Пьере для бала у Сорентаев! – поспешила сменить тему Элеонора. – Когда состоится бал? Двадцатого?
– Двадцать второго, – ответили девушки хором и с энтузиазмом принялись рассуждать о тафте, органзе и швейцарском муслине, о шарфах, накидках и прическах «по-гречески»…
– Тебе очень пойдет белый муслин с крохотными зелененькими мушками и с летящим шарфом – я тебе покажу, у Пернеты в журнале есть такая картинка…
– Но, мама! Это же допотопный журнал! Мода трехлетней давности! – возразила Лаура.
– Дорогая моя! Если б даже мы, у себя в горах, одевались по самой последней моде, кому какое до этого, дело? – без малейшей горечи заметила Элеонора. Она когда-то считалась одной из самых красивых девушек Солария и пользовалась большим успехом, однако, выйдя замуж за Гвиде Сорде, без оглядки «оставила все это там, внизу». – По-моему, летящий шарф во время танца – это просто прелестно! А тебе, Пьера, эта идея нравится?
Мать Пьеры умерла четырнадцать лет назад во время эпидемии холеры, унесшей также и младшую дочку Сорде, тогда еще совсем крошку. В доме графа Орланта хватало слуг, нянек, всяких двоюродных бабушек и прочих родственниц, однако Элеонора сразу же взяла заботу о двухлетней Пьере в свои руки – взяла так решительно, словно имела на это все права. Граф Орлант, горюя о жене и тревожась за малышку, был Элеоноре чрезвычайно благодарен и вскоре уже не осмеливался что-либо решать относительно собственной дочери, не посоветовавшись с Элеонорой, а она в свою очередь никогда не пыталась претендовать в глазах девочки на роль единственной и любимой матери. Они с Пьерой и без того любили друг друга легко и весело, и отношения их были куда более дружескими, чем у многих матерей с их дочерьми.
Пьера, как всегда, ответила не сразу и отнеслась к вопросу Элеоноры очень серьезно.
– Я бы… – сказала она и еще немного подумала, – хотела светло-серое шелковое платье с золотистыми прошивками, как на той картинке, где изображен королевский бал, и к нему золотистый шарф. И золоченые туфельки с розочками.
– Вот как? – удивилась Элеонора.
Граф Орлант слушал их молча. Каждый раз он с трудом преодолевал изумление при мысли о том, что это его дочь, его Пьера, которая вчера еще была простодушна, как малое дитя, но в которой сегодня он уже – совершенно неожиданно для себя – замечал расцвет целого мира совершенно незнакомых ему мыслей, знаний и чувств человека, стоявшего на пороге своей взрослой жизни. Когда, как успела эта девочка в свои шестнадцать лет так повзрослеть? И хотя граф полностью доверял любящему сердечку Пьеры, он частенько испытывал нечто вроде страха, смешанного с изумлением. И сейчас снова эти чувства овладели им: он живо представил ее себе, принцессу в шелках и золоте!..
– Звучит просто прелестно, – смущенно заметил он.
Мудрые дамы в ответ лишь уклончиво вздохнули.
– Тогда, может быть, золотистый шарф с платьем из белой органзы? – вновь предложила Элеонора, пытаясь смягчить «вето» графа Вальторскары, отец и дочь, приняли ее совет молча и продолжали слушать остальных, как бы оставаясь при своем, тайном и единодушном, мнении относительно прекрасного.
Гвиде и Эмануэль беседовали об охоте; лишь Итале примолк и не принимал участия в разговорах, напряженно думая о чем-то своем. Еще в Соларии он решил, что в первый же вечер сообщит родным о принятом решении уехать в Красной: они не должны заблуждаться на его счет и думать, что он навсегда останется дома. Но прошло уже три недели, а он так ничего и не сказал. Когда, выскочив из почтовой кареты в Партачейке, он широко распахнул дверь «Золотого льва» и вошел, то сразу увидел отца, который обернулся ему навстречу. Лицо Гвиде светилось той редкой счастливой улыбкой, которая делала его совсем другим – уязвимым, стеснительным. Вспомнив об этом, Итале даже руки стиснул, невольно протестуя против подобной несправедливости. Как непростительно со стороны отца – так радоваться встрече с ним и показывать всем, как он рад, что сын наконец вернулся домой! Ведь невозможно поступать по-мужски, честно говорить и делать то, что должен, когда все со своей невысказанной любовью толпятся вокруг, цепляются за тебя, связывают по рукам и ногам? И надо признать, он и сам виноват, ибо не может побороть и свои чувства к этим людям с их неизменной нежностью и преданностью, к этому дому, где с детства его окружало счастье, где родилось столько надежд. Даже сама здешняя земля держала его крепче, чем что-либо иное в том, другом мире: холмы, покрытые виноградниками, длинная величественная цепь гор на фоне небес… Как ему покинуть все это? Точил ли он косу, или правил рулевым веслом, пересекая озеро, или читал захватывающую книгу – обо всем мог он в любой момент позабыть и невидящим взором впериться в просторы озера Малафрена, чувствуя, как тяжело было бы ему расстаться с милыми сердцу краями. Он был словно опутан чарами, разорвать которые у него не хватало сил; от этих чар можно было лишь бежать. Они становились особенно сильными во время некоторых разговоров… но об этом он старался даже не думать. Нет, это действительно несправедливо! Это просто невыносимо! С какой стати?! Неужели он влюблен в эту девочку, совершеннейшего ребенка?! Нет, и речи быть не может! Всякие там детские ухаживания, дружба, безмолвное понимание друг друга – все это он давно перерос! Если уж влюбляться, так по-настоящему, и такую, взрослую любовь, любовь мужчины к женщине, он непременно найдет в Красное! Решено: он должен отправиться в Красной! И, отметая все сомнения, он вновь повторил про себя решительно и печально: «Раз надо, так тому и быть».








