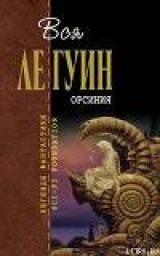
Текст книги "Орсиния (сборник)"
Автор книги: Урсула Кребер Ле Гуин
Жанр:
Альтернативная история
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 45 страниц)
Итале был несказанно рад, когда наконец увидел в темноте над улицей светящееся окошко своей квартиры. Изабер, как и все уроженцы Красноя, всегда стремившийся хоть чем-нибудь поднять себе настроение, купил за гроши в лоскутной лавке темно-красную ткань и повесил на окна шторы, сквозь которые удивительно красиво просвечивала зажженная свеча. И, глядя на это винного цвета окно, Итале почувствовал, что у него на душе становится чуточку легче. По крайней мере, он здесь не один! Изабер все-таки молодчина – преданный, заботливый, эти вот красные занавески придумал… Итале взлетел по темной лестнице и прошел через площадку к своей квартире; на верхнем этаже плакал ребенок – тоненько и почти непрерывно. Пытаясь попасть ключом в замочную скважину, он услышал, как Изабер что-то крикнул: то ли «Входи!», то ли «Не входи!», и пока он колебался, удивленный этим криком, дверь перед ним резко распахнулась. Он увидел Изабера, который стоял у стола, и каких-то других людей; тот, что открыл дверь, был от него не более чем в полуметре. Первым побуждением Итале было отступить назад, к лестнице, но еще один человек бесшумно возник у него за спиной, спустившись с верхнего этажа. Постепенно осознавая, что вот-вот произойдет неизбежное, Итале глянул в лицо Изаберу, и выражение лица юноши еще сильнее встревожило его.
– В чем дело, Изабер? – спросил он.
Тот не ответил. Человек, распахнувший перед Итале дверь, спросил:
– Вы господин Сорде?
– Да, а вы кто такой?
– Войдите, пожалуйста, в квартиру.
Итале повиновался; за ним по пятам следовал второй тип, тот, что спустился сверху. Первый аккуратно закрыл за ним дверь, очень стараясь не шуметь.
– Итак, вы Итале Сорде, сотрудник столичного журнала «Новесма верба»?
– Да. – Возникла пауза. Итале некоторое время тупо смотрел в пол; второй полицейский стоял у него за спиной, точно деревянный истукан. – Может, присядете, господа? – предложил Итале уверенным, но несколько неприязненным тоном. Однако все продолжали стоять. Никто из них в лицо ему не смотрел. – Ну и стойте, ежели вам угодно, – сказал он и сел на свое обычное место за письменным столом.
– Это вы написали, господин Сорде?
Перед ним была его последняя корреспонденция, отосланная в Красной: две статьи и личное письмо к Брелаваю.
– Когда я в последний раз видел этот конверт, он был запечатан, – с отвращением заметил Итале и устало откинулся на спинку стула, чтобы хоть как-то заставить себя усидеть на месте и сдержать приступ бешеного гнева. – А что, это ваш профессиональный долг – вскрывать чужие письма, или же вы делаете это удовольствия ради?
– Это вы написали?
– А кто вы, собственно, такой?
– Моя фамилия Арасси, – раздраженно ответил этот «нежданный гость». Голос у него был довольно высокий, лицо умное, хотя и невыразительное.
– А моя – Сорде. Впрочем, это вы уже знаете. И, видимо, именно это, на ваш взгляд, не дает мне ни малейшего права задавать вам вопросы? Но все же хотелось бы знать: с какой стати вы оказались в моем доме и кто вы такие? Вы намерены предъявить мне ордер на арест или же просто пытаетесь меня припугнуть?
– Я отвечу вам только на один вопрос, все остальные могут и подождать. Да, вы арестованы, господин Сорде. Ну что, все в порядке, Гавраль?
Один из тех, что находились в комнате, мрачноватый молодой человек лет двадцати, кивнул.
– А вам лучше надеть пальто, господин Изабер. Эта квартира будет опечатана до конца следствия. Вы, господин Сорде, также можете взять с собой кое-что из одежды.
– Позвольте мне сперва взглянуть на ваши документы.
Арасси предъявил ему ордер, подписанный Кастуссо, начальником поланской полиции.
Изабер по-прежнему стоял как вкопанный. Итале подошел к нему.
– Пошли, Агостин, – сказал он и, чуть понизив голос, сердито прибавил: – Ну что ты замер, точно кролик перед удавом? Надевай пальто!
У Изабера на глазах выступили слезы, и он прошептал, глядя на Итале:
– Мне так жаль, Сорде!
– Ладно, бери пальто, и пошли.
В закрытой карете их доставили по темным, исхлестанным дождем улицам на вершину холма, к тому самому зданию, которое Итале видел, когда впервые въезжал в Ракаву. Здесь, в старинной башне с зубчатыми стенами, разместился Верховный суд. Очертания башни, мрачно проступавшие сквозь изморось, расплывались в свете фонарей, прикрепленных к крыше кареты. В теплой комнатке без окон и с весьма обшарпанными стенами Арасси кратко допросил арестованных в присутствии секретаря.
– Очень хорошо, господин Сорде, – сказал он, потирая лоб, словно у него болела голова. – Благодарю вас за исчерпывающее ответы. Вы и господин Изабер задержаны и останетесь здесь до судебного разбирательства.
– Каковы же выдвинутые против нас обвинения?
– Статья 15: деятельность, направленная на нарушение общественного порядка. Это самое распространенное обвинение, господин Сорде.
Не так уж он плох, этот Арасси, подумал вдруг Итале. Вежливый, усталый, суховатая ироничная манера говорить…
– Я знаю. Когда примерно состоится суд?
– Не могу сказать. Возможно, уже через несколько дней. Но обычно рассмотрение такого дела занимает около двух месяцев.
Арасси кивнул полицейским, и двое из них повели Итале и Агостина по коридору и куда-то вниз по длинной лестнице с каменными ступенями, потом вверх на три пролета, потом по извилистому коридору в какую-то темную комнатку. Когда они вошли, один из полицейских спросил с иностранным, немецким или чешским, акцентом:
– Господа, прошу сообщить: есть ли у вас при себе ножи, боевые или перочинные, или какие-либо иные металлические предметы? – Изабер машинально протянул ему свой перочинный нож; Итале – столь же машинально – этого не сделал. И очень удивился, на следующее утро обнаружив свой ножик у себя в кармане. – Очень хорошо. Спокойной ночи, господа. – Дверь камеры с громким щелчком захлопнулась.
– Что же вы… – начал было Итале, обращаясь к захлопнувшейся двери, и тут же отступил от нее в изумлении, увидев, что буквально в нескольких сантиметрах от него с топчана поднимается некая безликая фигура. Человек этот не то простонал, не то всхрапнул, но не сказал ни слова. Камера освещалась лишь тем скудным светом, что проникал сюда из коридора сквозь дверную решетку. Помещение было очень странным: до потолка метров пять-шесть, дверь в высоту тоже не меньше трех-четырех метров; в полумраке это создавало какой-то странный эффект. Бесформенная фигура на топчане, вынырнувшая из-под тюремного одеяла, явно была человеческой, хотя лица этого типа по-прежнему было не разглядеть.
– Ага, сокамернички? – воскликнул человек на топчане, и, только услышав это, Итале окончательно понял, что находится в тюрьме.
– Да, видимо, так, – подтвердил он. Ему очень хотелось расспросить этого «старожила», однако пришлось заниматься Изабером, которому явно было не по себе. Несчастный юноша, присев на корточки, раскачивался на каблуках взад-вперед и не говорил ни слова. Итале окликнул его, но он не отвечал и только продолжал раскачиваться. В конце концов Итале рассердился и, рывком поставив мальчишку на ноги, рявкнул: – Сядь! – И подтолкнул Изабера к скамье, тянувшейся вдоль двух стен камеры. – Да возьми же себя наконец в руки! – Он нарочно говорил с Изабером так грубо, и это подействовало: юноша уронил голову на руки и разрыдался. – Так, теперь рассказывай. Как долго они ждали меня в квартире? – Итале намерен был во что бы то ни стало вытащить Изабера из омута бессильного отчаяния.
– Не знаю. Может, час… – прошептал Изабер, пытаясь унять рыдания. – Нет, я не помню!
– О чем они тебя расспрашивали?
– Не знаю. Я старался не отвечать. Я вообще ничего им не сказал! Пресвятая Дева Мария!.. – Он закрыл руками лицо. – Прости меня, Итале, прости!
– Послушай, Агостин: они ведь пытаются запугать нас, так будь добр, не доставляй им такого удовольствия, а?
– Ага, господа! Вы, как я понимаю, политики? – воскликнул их сокамерник довольно язвительно; лица его по-прежнему видно не было.
– Да. Моя фамилия Сорде. – Итале не знал, нужно ли ему представляться, но сделал это на всякий случай. Изабера, который все еще плакал, он представлять не стал.
– Сорде? Вы из Красноя? Какая честь! Не то чтобы я этого не ожидал, но честь-то какая! – Человек засмеялся – резким, каким-то заискивающим смешком. – А я Дживан Форост. Я через несколько дней на волю выхожу, так что у вас, господа, местечка будет побольше.
– Это, должно быть, тюрьма Сен-Лазар? – спросил Итале, припоминая, что обе башни, суд и тюрьма, соединены друг с другом.
– Сен-Лазар? Да вы шутите! Нет, это Верховный суд, а никакая не тюрьма! Вы посмотрите как следует – это же настоящий дворец! Одеяла, освещение, окно – все удобства. А я думал, что политические лучше знают, как настоящие тюрьмы-то выглядят. А с этим малышом что случилось? – Форост встал и подошел к Изаберу, волоча за собой одеяла, в которые был завернут, как в кокон.
– Оставьте его в покое, – буркнул Итале.
– Ах, ему к мамочке захотелось! – насмешливо сказал Форост. – Ничего, пусть поплачет. Только не всю ночь! Выбирайте себе кроватки, господа, места тут хватает. В Сен-Лазаре в такую камеру по сорок человек набивают. Параша вон там, в углу. Доброй вам ночи, господа. – И Форост снова затих, закутавшись в одеяла.
Итале еще немного пошептался с Изабером, убедил его прилечь и улегся сам, вдруг почувствовав смертельную усталость. Форост и не подумал делиться с ними одеялами, однако скамья была покрыта какой-то дерюгой, а в камере хоть и было прохладно, но ниоткуда не дуло. Итале, вытянувшись на скамье с закрытыми глазами, сразу почувствовал себя значительно спокойнее. Из головы разом вылетели все мысли, и он провалился в глубокий и мирный сон.
Форост пробыл с ними неделю, так и не сказав, за что его арестовали. По всей видимости, он был каким-то мелким чиновником, однако даже этого им выяснить не удалось, настолько туманно он всегда выражался. Он, впрочем, был совершенно уверен, что его вскоре выпустят, и его действительно выпустили. «Друзей наверху иметь надо!» – заметил он, как всегда гнусно хихикая. Надо сказать, он весьма подробно описал тюрьму Сен-Лазар, но так и не сказал, то ли сам сидел там, то ли просто бывал, то ли пересказывает какие-то слухи. Он сказал, например, что в этой тюрьме в камеру на двадцать человек сажают по сотне заключенных, причем больные и здоровые, безумцы и нормальные люди, закоренелые убийцы – настоящие звери! – и мелкие воришки сидят все вместе. В камерах кишат крысы, вши, блохи, клопы; людей косят тиф, сыпной и брюшной, и оспа, дважды за последние сорок лет, по словам Фороста, «вычистившая всю тюрьму». А во многих камерах-одиночках, что находятся ниже уровня земли, зимой на полу стоит вода по колено…
– Вот это настоящая тюрьма! – говорил Форост с восхищением. – Только вы, господа, для нее не годитесь. Бунтовщики – тех, конечно, туда сажают; их там, в Лазаре, много – это все люди простые, рабочие. Этих под замок посадят, да и дело с концом. А вы, господа политические, только хлопот прибавите. Так что вы оба пока что суда даже не ждите. Им-то ни к чему куда-то там вызывать вас, допрашивать, приговор выносить. Куда им вас после приговора девать-то? Вот если им из столицы приказ придет, из Красноя: мол, вынести приговор такому-то, они, конечно, обязаны будут заседание провести, да только куда они потом приговор сунут, одному богу известно. Так что, чем дольше вы тут прождете, тем целее будете. А шесть месяцев пройдет, так вас и без суда выпустят. По закону. Здесь такое часто бывает. Остудят кому-то пыл, да и выпустят на свободу. Небось человек-то отсюда сломя голову побежит, а им и беспокоиться больше не придется.
Итале слушал Фороста с интересом, но, в общем, довольно равнодушно. Шесть дней или шесть месяцев – все равно он ничего поделать не мог. И, возможно, этот Форост прав. Итале вспомнил о своей давнишней выходке – в университете Солария – и о домашнем аресте, который последовал в качестве наказания за те стишки на церковных дверях. Ну и что? Теперешнее заключение было ненамного хуже. Улегшись на скамью и подложив под голову вместо подушки свои башмаки, он напевал себе под нос, глядя на слабый луч света, падавший из окошка под потолком:
– «…Людям ведь невдомек, какой страшный урок господа эти дать им решили».
– Давай-давай! – заметил Форост, ловко подрезавший себе ногти с помощью перочинного ножичка Итале. – Устрой нам концерт.
– Не угодно ли послушать это, господа? – усмехнулся Итале. – «За тьмой ночной придет рассвет, твой, о Свобода, день наступит вечный!..»
Форост только хмыкнул, а Изабер испуганно уставился на Итале. Юноша все еще казался страшно подавленным и большую часть времени молчал, погруженный в мрачные раздумья.
– А что пели там, откуда ты родом? – спросил Форост у Итале.
– Во всяком случае, не тюремные песни. Вот у вас что, например, поют? – Итале запел песню, которую слышал в Эстене: – «В Ракаве, за стеной ее высокой…» – хотя помнил только первую строчку; Форост тут же подхватил довольно приятным тенорком, а потом сказал:
– Да уж, это точно не тюремная песня! Это песня очень хорошая, старая. – И он запел какую-то монотонную, но исключительно непристойного содержания балладу. Итале внимательно его слушал, благодарный за развлечение. Ему нравилось, что Форост никогда ни на что не жалуется. Когда его выпускали на волю, он весело простился с ними, шутливо раскланявшись и пожелав «успехов в жизни», а под конец сказал: – Счастливо оставаться, Робеспьер! И ты, сынок, не плачь обо мне!
Итале было искренне жаль с ним расставаться. В данной ситуации веселые шутки, даже самые глупые, казались ему куда более ценными, чем благородная угрюмость. Он даже совсем не рассердился, когда Форост категорически отказался вынести и отправить его письмо друзьям. Действительно, у этого человека не было никаких резонов рисковать собственной свободой и никакой надежды получить хоть какую-то выгоду от той игры, в которую играл Итале.
Но все же заключение действовало на нервы, а еще больше – невозможность написать хоть слово кому-то из друзей или родных и хотя бы сообщить, что они с Изабером живы и здоровы.
Изабер, почувствовав, что после ухода Фороста Итале помрачнел, тут же снова впал в апатию, перемежаемую приступами отчаяния и самобичевания.
С час они молчали, а потом Итале неожиданно уснул и довольно долго проспал, а когда проснулся, то, увидев Изабера в прежней позе, погруженным в мрачные мысли, испытал вдруг приступ такой ненависти и отвращения к этому жалкому мальчишке, что даже сам испугался. Он отвернулся, стараясь взять себя в руки, и принялся насвистывать рондо Моцарта, которое часто исполняла Луиза. Потом встал и громко заявил:
– Нет, мне решительно необходимо двигаться! Нужны физические упражнения. Интересно, можно ли добраться до этого окошка? Попробуй-ка встать мне на плечи, Агостин. Ну же, вставай!
Так их и застал охранник, который принес им ужин – суп и хлеб: Изабер, покачиваясь, стоял на плечах Итале и, цепляясь за решетку окна, громко описывал то, что видит снаружи.
– Немедленно прекратить! Эй, стража! – взревел охранник, здоровенный шваб, который настолько испугал своим криком Изабера, что тот буквально свалился на пол. А Итале принялся хохотать. – И не думайте даже! Отсюда вам нипочем не убежать! А этого нельзя!.. Запрещено! – ревел охранник. Изабер тоже засмеялся.
– Так вы о побеге? Неужели мы так на Дюймовочку похожи? – с трудом выговорил Итале сквозь смех. Шваб, совершенно сбитый с толку этим весельем, с досадой махнул рукой страже, явившейся на его зов. – Это запрещено, господа! Уж как хотите, а по стенам у нас лазить нельзя!
Итале чуть не умер от смеха, Изабер тоже смеялся от души. Оба были приятно возбуждены физическими усилиями и идиотскими рассуждениями шваба. После этого случая они каждый день по очереди забирались друг другу на плечи, чтобы полюбоваться в окно горбатыми крышами города и кусочком серых зимних небес. Итале приходилось довольствоваться малым: для Изабера он был слишком тяжел. Изабер вообще был слабоват. Он родился в портовых трущобах и рос сиротой: его выходили в приходском благотворительном приюте, где он, к счастью, и обрел кров над головой, так что с самого начала жизнь его была очень тяжелой и ничего ему не обещала. Мучная затируха, которую им давали в тюрьме вместо супа, вызывала у него колики, а ужасные головные боли, вызванные пережитым потрясением, не давали спать по ночам.
В одну из таких ночей – это была восемнадцатая ночь, проведенная ими в камере, – оба узника не спали. По мере того, как спокойная, почти веселая готовность на все, свойственная первым дням его пребывания в тюрьме, начала улетучиваться, Итале, словно наверстывая упущенное, стал страдать от нарушения как физической, так и умственной деятельности своего организма, однако, словно компенсируя это, он одновременно стал более терпимым к упадническим приступам настроения у Изабера. В ту ночь Итале испытывал особенно сильные угрызения совести по поводу своих нападок на несчастного юношу и особенно сильно ему сочувствовал. Услыхав, как тот ворочается и вздыхает, Итале сел и спросил:
– Голова болит?
– Да.
– Хочешь, поговорим немного?
Изабер приподнял голову, но продолжал лежать, опершись на локоть. В камере никогда не было совершенно темно, как, впрочем, никогда не было и достаточно светло, так что Итале видел лишь неясный силуэт своего юного друга.
– Знаешь, мне очень жаль, что из-за меня ты оказался впутанным в эту дурацкую историю, – смущенно начал Итале. – Я был неосторожен, я играл с твоей жизнью, не имея на то ни малейшего права. Сперва, правда, мне было еще хуже: я думал только о том, что виноват перед тобой… Но сейчас я бы хотел сказать тебе совсем о другом: как бы то ни было, а я очень рад, что сейчас ты со мной! Не знаю, как бы я тут продержался все это время без тебя. Без твоей дружбы. Вот, собственно, и все.
– И я бы в любом случае предпочел оказаться вместе с тобой в тюрьме, чем остаться на свободе! – пылко воскликнул Изабер. Оба вздохнули с облегчением, а Итале заметил:
– И все-таки лучше бы мы оба оказались не в тюрьме, а где-нибудь еще. Но раз уж так сложилось…
Больше они друг другу ничего не сказали, и вскоре Изабер заснул. В темнице было холодно; в тот день в Ракаве впервые выпал снег – они видели это, по очереди выглядывая в свое узкое окошко под потолком. Итале, пытаясь заснуть, свернулся под тонким одеялом клубком, потом надел пальто и только тогда наконец согрелся и уснул. Сны ему снились удивительно живые, яркие и страшные. В предыдущие восемнадцать ночей ему снились все больше открытые пространства, знакомые лица и голоса, горы на горизонте, а в эту ночь все началось с кошмара. Ему снилось, что он находится в одной из тюремных камер и пытается вымыть руки, которые очень грязны, и столь же грязны стены и пол темницы, причем грязь какая-то черная, точно сажа, и маслянистая на ощупь. Однако таз для умывания почему-то наполнен кислотой – такой кислотой пользовались в типографии, где печатали его журнал, – и Форост ему говорит: «Ничего, зато она сразу все смоет». – «Но не могу же я умываться типографской кислотой!» – возражает Итале. И тут вмешивается Амадей Эстенскар и говорит с усмешкой: «А это вовсе и не кислота. Посмотри, таз-то цел! Чего ж ты боишься?» Вдруг над тазом поднимается легкий желтоватый дымок: это растворяется металл. А потом дымящаяся кислота начинает вытекать из таза и расползаться по столу и по рукам Итале, проедая в деревянной столешнице и в плоти рук бороздки, точно червь-древоточец. Но никакой боли он не чувствует и, стоя на коленях, вглядывается в образовавшееся на месте развалившегося таза озеро, в темной воде которого еще видны куски изъеденного кислотой металла. Руки у Итале обнажены и по локоть погружены в чистую холодную зеленую воду озера, уровень которого медленно повышается. Подернутая легким туманом поверхность воды все ближе и ближе подступает к его глазам. С огромным трудом отрываясь от нее, он смотрит вверх и видит вокруг спокойные глубокие воды какого-то озера. На темной воде играют блики. На дальнем берегу озера высится черная знакомая тень: это гора Охотник. Ее вершина отражается в воде почти у самых глаз Итале. Но за горой не видно ничего – ни в воде, ни в воздухе; вокруг лишь бескрайний простор небес, уже бледнеющих и меркнущих после недавнего заката…
Итале проснулся, весь дрожа. На потолке камеры играл бледный отсвет – отражение только что выпавшего снега.
В тот день им сообщили, что суд рассмотрит их дело уже завтра, причем Изабера вызовут на заседание суда утром, а Итале – днем. Изабер сразу повеселел, а Итале на сей раз почему-то помрачнел. Если Форост знал, о чем говорит, то, по всей видимости, радоваться тут нечему, ибо чем позже начнется разбирательство, тем лучше. Но свои сомнения Итале оставил при себе и на следующее утро с улыбкой проводил Изабера, пытаясь поверить или хотя бы изобразить, что верит, будто все будет хорошо. Изабер вернулся еще до полудня.
– Меня оправдали! – закричал он еще до того, как охранник отпер дверь в камеру. – Я свободен!
Итале почувствовал прилив ошеломляющей радости, облегчения, надежды; он со слезами на глазах обнял Изабера и все спрашивал:
– Так ты теперь свободен? Свободен, да?
– Мне велено уже сегодня вечером уехать из Ракавы, а в среду к полудню пересечь границу провинции Полана. Идиоты! Неужели они думают, что я только и мечтаю, что тут остаться? – И он разразился громким, нервным, но тем не менее победоносным хохотом.
Итале, тоже радостно смеясь, снова обнял его.
– Слава богу! Я уж, в общем-то, и не надеялся… – пробормотал он. – Но зачем ты сюда-то вернулся?
– Я попросил, чтобы мне позволили подождать, пока не рассмотрят твое дело. И ты знаешь, они сразу согласились! Они оказались совсем не такими мерзавцами, как я думал… Хочешь, я расскажу, как там все было? – И он принялся рассказывать – чересчур эмоционально и не слишком складно, – и вспыхнувшая было надежда в душе Итале начала угасать.
– Защита, представитель которой с нами даже ни разу не поговорил, – вещал Изабер, – это, конечно, чистейший фарс! И вообще весь этот судебный процесс…
– Что ты удивляешься? Таково имперское правосудие, – попытался несколько унять его возбуждение Итале. – Так что все-таки сказал адвокат, Агостин? Он хоть что-нибудь сказал?
– О да! Он, например, говорил о том, как я молод и неопытен, и вообще нес всякую чушь… Но ничего существенного я не услышал. – Он вдруг смутился, и Итале понял, что он пытается что-то скрыть, возможно, заявление адвоката о том, что его, Изабера, ввели в заблуждение некие «старшие товарищи». Изабер, будучи парнишкой сообразительным, сразу понял, что Итале заметил его оплошность, и обоим стало неловко: казалось, они больше уже не доверяют друг другу, а всего лишь притворяются. Но главное, думал Итале, все же то, что Изабера отпускают на свободу. В принципе, это судебное разбирательство – пустая формальность; какая разница, что там сказал или не сказал адвокат!
Когда явился уже знакомый им шваб, чтобы отвести в зал суда Итале, Изабер попросил, чтобы ему разрешили проводить друга. Охранник милостиво разрешил ему это, однако войти в зал суда Изаберу все же не позволили; друзья даже не успели обменяться рукопожатием, так торопил Итале второй охранник.
В зале суда к Итале подошел адвокат, высокий мужчина с печальными глазами, самый обыкновенный государственный чиновник. Их беседа заняла не более пяти минут.
– Видите ли, все дело упирается в написанные вами статьи. Вы подтвердите, что это именно вы их написали?
– Там же стоит моя подпись. Разумеется, это я их написал!
– Так, хорошо. Кроме того, вы выступали на собрании рабочих – седьмого числа; а двадцатого – еще на одном собрании.
– И это правда.
– Вот как? Ну хорошо. В таком случае мы признаем и эти факты и сдадимся на милость судей. Итак, вы обвиняетесь в…
– Я знаю, какое обвинение мне предъявлено. А чего я могу ожидать от милостивых судей?
– Главное – не просите слова, – сказал вдруг адвокат, потупившись и вроде бы изучая разложенные на столе документы; при этом он почесывал плохо выбритую щеку, чтобы издали невозможно было уловить движение его губ. – Поверьте мне, господин Сорде! Главное – не пытайтесь защищать себя.
Итале понимал, что адвокат прав.
Обвинение и защита выступали в целом не более четверти часа, и все это время трое судей непрерывно переговаривались, совещаясь друг с другом. Когда чтение обвинительного и оправдательного актов было закончено, сидевший слева судья что-то спросил у судебного клерка, взял у него какой-то листок и громко прочел:
– Согласно показаниям свидетелей и признанию самого обвиняемого, а также следуя рекомендации начальника Государственного полицейского управления города Красноя, в соответствии со статьей 15 Уголовного кодекса, принятого 18 июня 1819 года, суд объявляет подсудимого Итале Сорде виновным в организации и осуществлении противозаконных действий, ведущих к нарушению общественного порядка и создающих угрозу общественной безопасности, и приговаривает его к пяти годам тюремного заключения без участия в принудительных работах. Приговор должен быть приведен в исполнение незамедлительно.
Судья положил текст приговора на стол и снова что-то сказал клерку. Итале напряженно ждал, что судья прибавит что-то еще, но адвокат, сидевший с ним рядом, что-то пробормотал себе под нос и, глядя на Итале, покачал головой. Послышался скрип стульев. Судьи дружно встали и покинули зал; двое из них были по-прежнему поглощены беседой друг с другом. Вновь появились те же охранники, что привели Итале сюда. Двигались они как-то неестественно резко и напоминали деревянные фигурки, что появляются в настенных часах вместе с боем.
– Идемте же, господин Сорде! – услышал Итале голос одного из них, и только тут до него дошло, что охранник, должно быть, давно уже повторяет эти слова. Итале встал и поискал глазами адвоката, надеясь, что тот все же объяснит ему, что происходит, но адвокат уже ушел. В зале вообще никого не осталось, кроме судебного клерка, который по-прежнему что-то писал за длинным судейским столом.
– Да идемте же, наконец! – в очередной раз сказал охранник, начиная сердиться, и Итале двинулся к двери в сопровождении двух охранников. Пройдя по коридору, они вышли на заснеженный двор. Впервые за три недели Итале смог вдохнуть свежий морозный воздух, и у него перехватило дыхание от ледяного восточного ветра, из глаз брызнули слезы. Он растерянно огляделся. Двор был со всех сторон окружен черными стенами, соединенными между собой железной решеткой.
– Прошу вас, позвольте мне попрощаться с Изабером, – вежливо обратился Итале к охраннику, и собственный голос показался ему тихим и тонким, как у ребенка.
– А это еще кто?
– Изабер, мой друг… Его дело слушалось сегодня утром…
– Не положено. Эй, Томаш, куда его девать-то?
– У Ганея спроси, – откликнулся охранник, стоявший сзади.
– Так ведь у него специальное предписание, – с сомнением в голосе проговорил первый охранник.
– Ну да, вот ты и спроси у Ганея. Эй, здесь осторожней!
Итале обернулся было и тут же поскользнулся на льду. Охранник грубо схватил его за плечо, и от этого он сразу потерял равновесие и упал прямо на обледеневшие камни тюремного двора. Он с трудом поднялся на четвереньки, потом выпрямился, и охранники быстро повели его в башню Сен-Лазар. Он шел, точно слепой – откинув голову назад и держась очень прямо. В голове гудело, во рту чувствовался привкус крови.
Когда Итале, взяв себя в руки, снова стал понимать, что происходит вокруг, то обнаружил, что стоит в маленькой темной холодной камере. Слабый свет едва проникал туда сквозь зарешеченное окошечко в верхней части двери. Камера напоминала колодец: потолок был очень высоко, а площадь – четыре шага в длину и три в ширину. В камере имелась скамья для спанья, по длине вроде бы для него вполне достаточная, а под скамьей – вырытая в земле и прикрытая крышкой яма. Здесь было очень холодно и сыро, как бывает глубоко под землей в пещере или в подвале, однако воздух был спертый. Где-то далеко слышался плач ребенка – тоненький, сердитый, непрерывный. Итале почему-то казалось, что это тот самый ребенок, плач которого он слышал, поднимаясь по лестнице, в ту ночь, когда его арестовали. Конечно, это было глупо. Это никак не мог быть тот же самый ребенок. Итале подошел к двери и попытался выглянуть наружу, но увидел лишь коридорную стену напротив. Он довольно долго простоял, глядя на эту стену. Садиться не хотелось. Ему казалось, что если он сядет, то это будет означать, что он смирился и намерен здесь остаться.
Наконец с той стороны к его двери подошел какой-то охранник, но не в мундире, а в штатском. Это был пожилой крупный мужчина, ростом даже выше Итале, с квадратным серым лицом. Он велел Итале переодеться.
– Я не желаю надевать это тряпье, – заявил Итале, брезгливо глядя на груду серых лохмотьев, которые охранник положил на скамью.
– Таковы правила. Но пальто вы можете оставить.
– Но я не желаю надевать это! – повторил Итале, чувствуя, как дрожит его голос, и стыдясь собственной слабости. – Я хотел бы… – начал было он, стараясь скрыть свое смущение, и умолк.
– Не беспокойтесь. Все ваши вещи будут в полной сохранности; все опишут и опечатают по правилам. – Этот охранник, как и Арасси, говорил твердо и уверенно, но все же будто пытался его успокоить; таким тоном иногда разговаривают со своими хозяевами хорошо вышколенные слуги. Так что Итале пришлось подчиниться, и он принялся расстегивать рубашку.
– Мне необходимы письменные принадлежности, – сказал он охраннику.
– Какие еще принадлежности?
– Ну, чернила, бумага и что-нибудь, чем можно писать.
– Это у начальника тюрьмы надо спросить. У вас ведь специальное предписание! – Как и те два охранника, он произнес эти слова уважительно и зловеще. Говорил он громко и, вероятно, был глуховат. Итале сразу узнал тот серый материал, из которого была сшита его тюремная одежда: такую ткань делали на здешних фабриках из вторичного сырья, попросту из шерстяных тряпок, и называли «шодди». Но все эти мысли промелькнули где-то на периферии его сознания. Он все еще не до конца осознал то, что с ним произошло.
– А откуда здесь ребенок? – вдруг спросил он. – Я слышу, как он плачет. Почему он здесь?
– Так он тут и родился. Мамаша-то его тоже в одиночке сидит. Правда, ее скоро опять в общую камеру переведут. – Охранник аккуратно сложил вещи Итале и протянул ему пальто. – Пальто-то оставьте, все теплее будет, – посоветовал он. Он вообще держался вежливо и доброжелательно. Забрав вещи, он вышел и запер за собой дверь.








