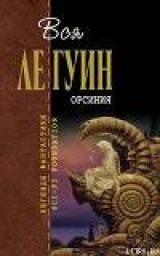
Текст книги "Орсиния (сборник)"
Автор книги: Урсула Кребер Ле Гуин
Жанр:
Альтернативная история
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 45 страниц)
– Разумеется, это сон, – снова заговорил он. – Это не Радико сама по себе, а просто сон об этой башне, об этом месте… некое видение… Дело в том, что несколько месяцев назад, в июле… Не знаю, сумею ли я это описать! К этому времени я практически за полгода не написал ни строчки, и однажды ночью, в июле, меня вдруг снова потянуло… в один дом, куда я часто ходил раньше. К женщине, которую… Впрочем, ты эту историю достаточно хорошо знаешь. С этой женщиной я порвал больше года назад и уже снова начал было уважать себя, работая вместе с Сорде и его командой; я был, как бы это выразиться… В общем, я вернулся к ней; и она меня приняла. Разумеется, все это ее весьма забавляло; она даже отослала прочь своего нового любовника, чтобы освободить для меня место в своей постели. Я тогда напился, плакал, и она в итоге снова меня выставила. Это было ужасно… Я всю ночь бродил по городу, кое-что, главное, я до сих пор помню… А утром вернулся домой и завалился спать. Проснулся я уже вечером. В Красное июль всегда очень жаркий, и я, конечно, чувствовал себя отвратительно. Мне казалось, что так низко я никогда еще не падал. Я долго, в тупом оцепенении сидел у окна. Я целых пять лет снимаю эту квартиру исключительно из-за окна, которое выходит на тенистый парк и набережную. Прямо под моим окном растут огромные старые каштаны, а за ними видны лужайки, главная аллея и в конце ее набережная, вечно полная народа, карет, залитая солнцем, а уже за нею, вдали – фасад дворца, длинный и строгий. Все это внушает мне некую смесь ужаса и восхищения, а также – некую меланхолию, точно наступает конец чего-то… Итак, я сидел у окна, где сиживал прежде десятки тысяч раз, и теплый ветерок шевелил бумаги у меня на письменном столе, а меж деревьями, словно клубы пыли, тем временем сгущались сумерки. Я ни о чем не думал, я чувствовал себя совершенно опустошенным, выпитым до дна… Вот тогда-то мне и привиделся тот сон, если только это был сон. Я ведь не спал. Не знаю, что это было такое… Я бы даже пересказать это не мог. В своем романе я пытался описать человека, который не может уйти от собственной судьбы, и все, что он делает, является проявлением этой судьбы, ее частью, даже когда он уверен, что действует совершенно свободно. Вот и мой сон был примерно о том же. Я видел свою собственную жизнь – прожитую и еще только предстоящую – как некую дорогу, вьющуюся среди холмов. Но себя на этой дороге не видел: меня там просто не было. А дорога была, и я видел окрестные холмы, знакомые места, но не был уверен, знал ли я их прежде, или же узнаю только потому, что мне еще предстоит их увидеть? И это… это, собственно, все! Я не в состоянии описать этот сон, я не могу вернуть его назад. – Он сел, настороженный, будто к чему-то прислушиваясь. – Нет, бесполезно! – пожал он плечами. – Но впоследствии, когда я начал писать вот это, – он хлопнул рукой по рукописи, – и добрался до описания замка в ночи, я вдруг понял, что описываю одно из своих тогдашних видений, тот сон! Крепость Радико ночью, под дождем, в кромешной тьме, задолго до рассвета. Я видел ее перед собой. Видел среди бела дня, при ярком свете солнца, хотя находился тогда почти в четырех сотнях километров от нее! Как? Почему? Каким образом? Что это означало? Не знаю. Я больше не задаю подобных вопросов. Я не имею права их задавать. Я это право утратил. Я жил только своими мыслями и чувствами, питаемыми тщеславием, я жил в том мире, который создал сам и для которого сам придумал законы. Я сам выбрал этот мир снов и мечтаний. Но это оказалось связано с тем, что, проснувшись или очнувшись, обнаруживаешь, что больше не являешься гражданином того мира, где светит солнце. Что позабыл значение и смысл реальных вещей. Что утратил свои права на жизнь в этом мире…
– А разве человек обладал когда-либо такими правами?
Амадей не ответил. Ладислас встал; он казался особенно высоким и плотным в грубоватой куртке из овчины, которую надевал, работая в этой холодной комнате. Он прошелся задумчиво по комнате и сказал:
– Когда мне было двенадцать, а тебе шесть, мы ездили в Фонте к пасхальной мессе. Помнишь?
– Да. Пока мама была жива, мы ведь почти каждый год ездили туда, верно?
– Но в тот раз возвращались мы по старой дороге мимо Фастена и Радико, потому что мост над Гарайной снесло паводком. Ехать пришлось почти всю ночь. Мимо Радико мы проезжали незадолго до рассвета. Я хорошо это помню, потому что ты спал, а тут вдруг проснулся и все пытался открыть окно пошире. И всех призывал: «Посмотрите на замок, посмотрите на замок!» В итоге отец дал тебе подзатыльник, ты успокоился, и дальше мы снова поехали уже в тишине. Но я помню, что и с меня тоже сон моментально слетел, когда я увидел черный, мрачный силуэт башни на фоне темно-серого, лишь чуть-чуть начинавшего светлеть неба. В точности как в твоей поэме! Ты описал те самые мгновенья.
– Я этого совсем не помню. Двадцать лет прошло! Странно, как работает память, правда? – Амадей никак не мог унять дрожь, пальцы его не слушались. Эти мгновения детства, которые хорошо помнил его брат, а сам он даже вспомнить не смог… все это не имело объяснения, не имело ответа, все это было БЕЗДНОЙ, и он в ужасе от этой бездны отвернулся. – Как здесь холодно, Ладис, – тихо промолвил он наконец. – Пойдем-ка наверх, посидим у камина.
– Ты иди, – ответил брат. – А мне еще нужно с этим покончить.
Глава 3В Полану пришла зима, холодная, дождливая, с неутихающими восточными ветрами. Вечерами отары овец под покрытыми рваными серо-стальными облаками небесами тянулись с горных пастбищ на обширные выгоны Эстена. Поля вокруг расстилались серые, жалкие, лес тоже обнажился и стал серым. Жизнь Дживаны и Ладисласа продолжалась по-прежнему, размеренная, спокойная; и молодая женщина была столь же последовательной и методичной в своих домашних обязанностях, как и ее муж – в ведении хозяйства. Амадей впал в апатию, не находя для себя подходящих занятий. Порой ему лень было даже встать с постели и сменить оплывшие свечи или фитиль в лампе. Энергии в нем не хватало даже на такую малость, и он продолжал лежать или неподвижно сидеть в бездействии, ибо его хозяйка и властительница, потребность сочинять стихи, бросила его на произвол судьбы, а он, перестав быть ее верным рабом, утратил и собственную свободу. Подобно дереву на вершине холма, где ветер всегда дует в одну и ту же сторону, он тоже вырос кривобоким, вытянул ствол и ветви по ветру, приспособился, и вдруг ветер дуть перестал. Амадей мог простоять у окна целый час, глядя на исхлестанный дождями сад и двор, ни о чем не думая, не удивляясь даже, зачем он стоит здесь, зачем сюда приехал, зачем проводит здесь зиму, в этой тюрьме, умирая от скуки и попусту тратя время.
Наступил Новый год. В приливе энергии Амадей написал всем своим краснойским друзьям – Итале, Карантаю, Луизе, – что вернется, как только в начале весны подсохнут дороги и станут пригодны для езды. Теперь он регулярно писал им – длинные шутливые письма, полные словесных каламбуров. Он собирался непременно вернуться в столицу в апреле или в мае, когда зацветут липы на бульваре Мользен и каштаны в парке, а по променаду снова начнут прогуливаться хорошенькие женщины; а свои последние заметки, нацарапанные паучьим почерком, он бросит тут, в осаждаемом ветрами Эстене, как память о последних приступах мучительного самоедства, о последних бессмысленных судорогах уходящей юности. В этом-то и было все дело. Предаваясь мечтам, упоенный игрой слов и полетом собственного воображения, он все не находил времени, чтобы стать настоящим мужчиной, хотя давно пора было повернуться лицом к реальному миру.
– Но от чего я, собственно, собираюсь бежать? – сердито спросил он у ночи, словно отказываясь признать столь тяжкие обвинения в свой адрес; ночь молчала, а ветер все гнал и гнал гигантские облачные валы на запад, к морю, и Орион по-прежнему ярко светил в холодном высоком небе, проглядывая меж облаками, тени от которых быстро летели по усыпанным январским снегом холмам.
Амадей вдруг вспомнил о своем хвастливом обещании, которое вырезал когда-то на каменном подоконнике в башне Радико: vincam, «я буду победителем». Теперь эти слова казались ему одновременно и правдой, и ложью, и были такими же вечными, как те камни, из которых сложена сама башня, одиноко высившаяся на вершине холма и равнодушная к любым завоевателям и любым поражениям.
Когда Ладислас и Дживана ездили в гости к соседям, жившим, надо сказать, довольно-таки далеко, Амадей обычно отправлялся с ними вместе. Они и сами старались как можно чаще приглашать к себе гостей, надеясь как-то развлечь его. Он замечал их робкие попытки поднять ему настроение, когда они предлагали ему какое-то занятие, развлечение или просто дружескую беседу у камина, однако должным образом ответить на эту заботу не мог. Те вечера, когда приезжали гости, проходили несколько легче и быстрее. К тому же этим гостям вовсе не требовалось, чтобы он о чем-то рассказывал. Они, пожалуй, побаивались его, человека столичного, знаменитого поэта, и, самое большее, желали лишь посмотреть на него, а потом поворачивались к нему спиной и затевали друг с другом бесконечные разговоры об овцах, о погоде, о соседях, о политике. Политические споры, правда, порой становились довольно жаркими, но Амадей в них не участвовал – только прислушивался с ощущением собственной беспристрастности и собственного предательства. Ладислас был стойким сторонником реформ и конституции, его поддерживал приходской священник из Колейи. Остальные, по большей части помещики и зажиточные фермеры, с ним яростно спорили, но отнюдь не из любви к нынешним властям. Дела в провинции шли неважно. Налоги тяжким бременем давили на тех, кто был слишком беден, чтобы их платить. Полицейские расследования и аресты стали делом обычным даже в маленьких городках. А восточные провинции, где стремление к независимости и консерватизм достигли своего максимального выражения и даже квалифицировались порой как некий «анархизм», пребывали в состоянии презрительного и гневного ожидания. Так что Ладисласу и его соседям было о чем поспорить. Но Амадей молчал и все время смутно ощущал, что этим молчанием предает кого-то. Если же среди гостей не оказывалось ни одной женщины, которые часто оставались дома из-за отвратительной погоды и раскисших дорог, Дживана тоже весь вечер молчала, занимаясь каким-нибудь рукоделием, подавала ужин и чай и мило улыбалась мужчинам. Она ждала ребенка и была прекрасна в своем ожидании скорого материнства. В ее повадке прибавилось уверенности, но говорила она по-прежнему ласково, разумно, чуть застенчиво, и все же Амадей чувствовал в ней теперь некую неколебимую женскую силу. Уж она-то хорошо знала свой путь! И была счастлива. Он наблюдал за ней без зависти, уже не надеясь когда-либо ощутить подобную уверенность, обрести счастье в жизни. Когда Ладислас и двое его соседей вошли в такой раж, что уже чуть ли не бросались друг на друга с кулаками, Дживана подошла к клавикордам, насмешливо и ласково улыбнулась Амадею, сидевшему рядом, и тихонько заиграла. Он встал с нею рядом, и она, подняв к нему лицо, весело сказала:
– Ох, до чего же они мне надоели своими вечными спорами! А впрочем, даже хорошо, что они моей игры не слышат и она им совершенно не мешает. – И она запела песенку, которую Амадей знал с детства:
Из окна моей башни
Увидал я розу красную, деву прекрасную.
Из окна моей башни
Увидал я розу красную на колючем стебле.
Кто там скачет, под окном моей башни,
До заката успеть поспешая?
Кто там скачет, под окном моей башни,
Гласом трубным поля оглашая?
Чей там конь рассвету навстречу летит по земле?
– Спой дальше, – попросил Амадей. Это была прекрасная баллада о том, как Смерть уносит девушку, но Дживана улыбнулась и ответила:
– Да я плохо пою, у меня вечно дыхания не хватает. – И заиграла одну из своих любимых старинных сонатин. Когда смолкло причудливое переплетение звуков, Дживана встала, подтянула кое-где струны – в стареньком инструменте вечно требовалось подтягивать струны – и снова села, что-то тихонько наигрывая. Помолчав, она спросила Амадея: – Ты по-прежнему собираешься в апреле уехать?
– Не знаю, – рассеянно ответил он, рассматривая рисунок на передней, потрескавшейся от старости доске клавикордов – розовый венок и ветку боярышника. – Я не хочу уезжать.
– Тогда зачем же уезжаешь?
– Потому что понимаю, что это ошибка. И я совершаю ее сознательно.
Дживана быстро сыграла гамму до-мажор в одну октаву – вверх и вниз; коротко рассыпались чистые звуки.
– Но это же глупо! Зачем ты так говоришь?
– Я знаю. Прости.
– А если ты уедешь в апреле, то еще вернешься сюда?
– Нет. Вряд ли. К чему возвращаться? Я ведь приехал сюда скорее в поисках причины того, зачем мне понадобилось приезжать. Но я так ее и не нашел, причины своего приезда сюда! Понимаешь, когда я уезжал отсюда в Красной, я совершенно точно знал, почему уезжаю и что буду там делать, что ДОЛЖЕН там делать. Писать свои книги, встречаться с интересными людьми, проложить путь в жизни, встретить свою любовь, ну и так далее. Все это я сделал. Испытал все, к чему стремился. Всего достиг. И теперь для меня все кончено. Все кончено.
– В двадцать шесть лет?…
– Не думай, что я ленив, Дживана. Ты ведь почти и не видела меня за работой. Когда мне было нужно, я трудился не покладая рук. Но вся работа сделана. Я, конечно, мог бы вернуться в Красной или поехать в какой-нибудь другой город, писать всякие статьи и этим зарабатывать себе на хлеб, стараясь принимать жизнь такой, какая она есть, – так поступает большинство людей. Я мог бы жениться и жить своим домом лет пятьдесят, если меня будет устраивать этот брак и такая жизнь. Да, я все это вполне способен понять, но я не верю в возможность такой жизни для себя. Я не представляю своей будущей жизни, я ее не вижу. Наверное, я ее уже прожил, и поэтому все кажется мне таким бессмысленным. Ты понимаешь, что я имею в виду? Вот ты, например, представляешь себе – хоть как-то – свою будущую жизнь, верно?
– До сих пор совершенно не представляла. Только сейчас, с тех пор, как жду ребенка, стала немного представлять ее себе. Я вижу вещи… словно глазами моего будущего малыша, словно во сне… Летний вечер, и мы с малышом стоим вон там, под осокорем, и ждем – видимо, когда Ладис приедет домой верхом на своем коне… И это такой прелестный летний вечер, но немного печальный… потому что дует ветер… – Дживана улыбнулась. – И потому что я уже стала гораздо старше.
– А я в твоих снах тоже приезжаю верхом вместе с Ладисом?
– Тебе виднее.
Они давно забыли о гостях; Дживана говорила совершенно свободно, ничуть не заботясь об условностях и приличиях. Голос Амадея звучал резко и одновременно умоляюще:
– Но я же не могу увидеть твое будущее! Я и своего-то не вижу. Я ничего не вижу впереди. Будущее невозможно увидеть собственными глазами. Ты правильно сказала: это твой малыш, которого ты носишь во чреве, дает тебе возможность видеть истину, видеть будущее, ибо он сам и есть твое будущее, а я… я потерял свой путь… я его больше не вижу.
– Ты всегда так много работал! Ты просто устал, измотался, ты же сам говорил об этом. Просто нужно немного отдохнуть, подождать… Это как зимой, когда все отдыхает и ждет весны. – Она говорила убежденно, искренне, страстно желая внушить ему эту мысль.
Паводки начались рано, да и снег больше не выпадал с конца января. В феврале, когда почта наконец добралась до Колейи, Амадей получил первые письма: два письма от Карантая – одно было датировано началом декабря, и в нем Карантай спрашивал, нет ли у Амадея вестей от Итале, а второй конверт оказался пуст, и печать была сломана. Кроме того, пришла посылка из издательского дома «Рочой» – экземпляры нового романа Эстенскара «Дживан Фоген». Амадей подарил одну книжку брату, сказав: «Прочитаешь следующей зимой!» – потому что Ладислас был по уши занят: у овец начался окот, и он по двадцать часов в сутки пропадал в овчарнях, а иногда и по два-три дня подряд домой не показывался.
– Нет, где-нибудь через недельку непременно прочитаю, – серьезно ответил Ладислас. – Но лучше подари свою книжку Дживане. Ей будет приятно.
– Хорошо. А ты куда сейчас?
– На южные выгоны.
– Я с тобой.
– Ладно, догоняй, – и Ладислас, махнув на прощанье рукой, толкнул в бока свою невысокую ладную лошадку и уехал. Амадей нашел Дживану в саду, с западной стороны дома. День был холодный, дул не очень сильный, но какой-то пронзительный ветер; в воздухе еще висела легкая дымка, оставшаяся после недавних дождей, солнце так и сверкало в огромных лужах на черной, еще не просохшей земле. Дживана сидела на корточках возле какой-то клумбы; в беспокойном солнечном свете и на ветру она показалась Амадею особенно хрупкой и уязвимой.
– Мои крокусы проросли! – гордо сообщила она. – Вон, уже целых два, видишь?
– А у меня книга вышла – видишь?
Она взяла книгу, прочитала название, полистала ее, но явно не знала, что ему сказать. Он показал ей форзац, где отвратительным пером и грязными чернилами еще на почте в Колейи написал: «Дживане и Ладисласу от любящего брата Амадея». Она прочитала надпись и снова задумалась. Вдруг на ее губах солнечным лучиком вспыхнула улыбка, словно прорвавшись сквозь пелену стеснительности, и она сказала:
– Прочитай мне что-нибудь отсюда! Пожалуйста! – И уселась на садовую скамейку, поставив ноги на бордюрный камень и оберегая их от сырости.
– Прямо сейчас?
– Сейчас, – сказала она, и в голосе ее послышались повелительные нотки.
Стоя перед ней в слепящем солнечном свете, Амадей открыл книгу и прочитал вслух первую страницу; потом помолчал и закрыл книгу.
– Словно написано много лет назад и не мной, а кем-то другим…
– Читай дальше, – потребовала Дживана.
– Не могу.
– А чем кончается?
– Зачем заглядывать в конец, пока не прочла всю книгу?
– Я всегда сперва смотрю в конец!
Он быстро глянул на нее, уютно устроившуюся на скамейке, открыл последнюю страницу и прочитал своим ломким голосом:
– «Дживан не отвечал по меньшей мере несколько минут. Он молча стоял, опершись о перила моста, и просто смотрел на реку, что быстро бежала под ними, пенистая, вздувшаяся от весеннего паводка, с мутной желтоватой водой. Наконец он поднял голову и сказал: «Если жизнь – это нечто большее, чем всего лишь краткое изгнание из тех краев, что лежат за пределами царства Смерти…»
Не дочитав до конца, Амадей вдруг умолк. Закрыл книгу и решительно положил ее на скамью рядом с Дживаной. Она беспомощно на него посмотрела. Дул ветер, солнце сияло в небе, обесцвечивая бледный холм, нависавший над домом.
– Это очень мрачная книга, – сказал Амадей, глядя Дживане прямо в глаза.
– Амадей, ты возвращаешься в Красной, верно? Он покачал головой.
– Но здесь же тебе совершенно нечего…
– Мое царство – здесь. И так было всегда. – Сунув руки в карманы, он резко повернулся и быстро пошел к воротам; но у ворот снова обернулся, словно желая что-то еще сказать ей, улыбнулся мимолетной извиняющейся улыбкой, пожал плечами и пошел прочь.
Дживана вскоре тоже ушла в дом; ей стало холодно на этом ветру; она чувствовала себя усталой и подавленной. Она прилегла у себя в комнате, скрючившись в какой-то неудобной позе, и сквозь наплывавшую дрему слышала голос Амадея во дворе, топот лошадиных копыт, потом по крыше и по окнам застучал дождь, и она крепко уснула.
– Может быть, он поехал в лес на охоту? – предположила Дживана поздним вечером, поскольку Амадей так и не вернулся. Ладислас, поглощенный долгожданным и слишком поздним ужином, кивнул и продолжал есть. Наконец он отложил нож и вилку.
– Уже два часа, как стемнело, – сказал он и встал. – Может, у него с лошадью что случилось?
Дживана только посмотрела на измученного мужа, но ничего не сказала.
Из лесу Ладислас вернулся уже после полуночи.
– Жиль решил с фонарем проехать дальше, до Колейи, – устало сказал он, и Дживана помогла ему стащить промокшие грязные сапоги. Разувшись, Ладислас устроился в кресле у самого огня и почти сразу уснул, так и не добравшись до постели. Страдая от бессонницы, связанной с ее беременностью, Дживана долго еще сидела рядом с мужем, подбрасывая в камин дрова; старый дворецкий принес несколько пледов и помог ей устроить Ладисласа поудобнее. Он проспал там почти до рассвета, проснувшись вдруг, точно от толчка. Дживана спала, свернувшись в соседнем кресле. В камине еще горел огонь. Ладислас, неслышно ступая, поднялся в комнату брата, убедился, что там никого нет, надел сапоги и вышел на крыльцо, навстречу белому ледяному рассвету. Из-за вершины холма, нависшего над домом, уже показался золотой краешек солнца; конюшни, двор, дом, деревья – все казалось мертвенно-бледным и каким-то застывшим в холодном утреннем свете. Ладислас поднял воротник, застегнулся и пошел на конюшню. Мальчишка-конюх спустился с сеновала ему навстречу.
– А где та уздечка, что я в Ракаве купил? – спросил у него Ладислас хриплым со сна и от холода голосом. – Ее что, дом Амадей взял?
– Да. И кобылу тоже.
– Ладно. Я съезжу в сторону Фонте по старой дороге, посмотрю. А ты скажи там, в доме.
Он вывел из конюшни свою небольшую вороную лошадку и двинулся через заиндевелый лесок вверх по склону горы; теперь восточные бока окрестных холмов были освещены уже полностью, и башня Радико золотилась в лучах солнца, бивших прямо из-за нее. Преодолев последний подъем и выехав на равнину, раскинувшуюся перед крепостью, Ладислас увидел кобылу Амадея, которая стояла примерно на середине того расстояния, что оставалось проехать до башни. Он подъехал ближе, и кобыла испуганно шарахнулась в сторону; поводья ее волочились по земле. Сделав несколько шагов, она наступила на поводья и остановилась, вопросительно повернув свою темную голову в сторону Ладисласа, нервно прядая ушами и искоса наблюдая за ним. Он не стал ее ловить и проехал мимо нее вверх по склону, прямо через разрушенную стену замка, потом спешился и поднялся по аппарели на второй этаж башни. Амадей был там. Он выстрелил себе в грудь, приставив охотничье ружье прямо к сердцу, и лежал навзничь, раскинув руки и чуть повернув голову набок. Его пальто было насквозь мокрым от дождя; волосы казались черными. Ладислас коснулся его руки, перепачканной землей; она была холодна – как эта земля, как этот дождь. А ветер все продолжал дуть среди холмов, над которыми высилась башня Радико, как и вчера, как и всегда прежде. Глаза Амадея были открыты; казалось, он смотрит куда-то на запад поверх разрушенной стены и холмов – куда-то в небо, где рассвет для него так и не наступил, а ночь все продолжалась.








