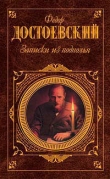Текст книги "Без наставника"
Автор книги: Томас Валентин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 18 страниц)
Ворча что-то себе под нос, Бекман спустился с крыльца. Он взял у Шанко сигарету и сунул ее себе за ухо.
– Только чтоб сами не смели курить!
– Боже сохрани! Мы держим сигареты только для вас!
Пес тем временем подполз под лестницу, где были сложены брикеты угля, и торопливо проглотил колбасу.
…если только это не рак. Врачу я не доверяю. Что значит опухоль? Метастазы. Я должен настаивать на том, чтобы ее перевезли в университетскую клинику. Прямо на этой неделе. Там более современные методы. Обстрел электронами. Сколько это будет стоить? В крайнем случае можно взять государственную ссуду. Если только это не рак. Сорок четыре года – в наше время для женщины это еще не старость. И надо же, чтобы это случилось именно теперь, когда парни стали, наконец, зарабатывать, и неплохо. А до последнего времени она ни разу не болела. Боже меня сохрани показать, какие меня иногда мучают страхи. Пятый урок – неужели этот чертов пятый урок нельзя отменить? Тогда бы я мог хоть раз попасть в клинику утром. 6-й «Б» – что я давал им на прошлой неделе? Понятия не имею. Просто ужас, сколько они задают вопросов. Если только это не…
– Здравствуйте!
– Здравствуйте, господин Куддевёрде!
– Садитесь! Фарвик, чем мы занимались на последнем уроке рисования?
– Протокол вел Тиц, господин Куддевёрде!
– Хорошо! Тиц, читай, пожалуйста.
– Тиц не может читать, господин Куддевёрде!
– Почему не может? Ну, я спрашиваю, почему Тиц не может читать?
– Потому что он отсутствует, господин Куддевёрде!
– Ага! Он отсутствует. Значит, Тиц отсутствует. Довольно часто, как я замечаю. А причина? Староста!
– Справки еще нет, господин Куддевёрде, – сказал Клаусен. – Тиц отсутствует сегодня первый день.
– Ну, тогда пусть читает… Мицкат!
– Не моя очередь, господин Куддевёрде.
– Не твоя очередь? Что это еще значит – не твоя очередь? У меня каждый всегда на очереди.
– Но я не записывал.
– Что ж, тогда устно. Давай рассказывай.
– Значит, так. Сначала, после перемены, мы пошли в рисовальный зал и расселись там. На передних местах всего несколько человек, большинство – на задних. Потом явился господин Куддевёрде, наш художественный воспитатель, и стал что-то рассказывать нам о рисунках пером. Но вскоре он прервал свой рассказ и призвал нас взяться за работу. Тема была: вестфальский фахверковый дом. Кто забыл дома перо, должен был набросать эскиз плаката. Тема – реклама. Я нарисовал эскиз: «Носи пуловер, как у Лолло, и у тебя не будет прыщей». Но преподаватель так же мало интересовался моим прелестным эскизом, как мало интересуется сейчас моим замечательным докладом, потому что он изо дня в день делает одно и то же: изучает расписание автобусов.
– Громче, Мицкат. Никто не может разобрать, что ты там бормочешь!
– Хорошо, господин Куддевёрде! Мы продолжали, значит, прилежно трудиться, делая уроки, как на всех уроках. Некоторые особенно проворные ребята в конце первого часа даже сдали свои рисунки учителю. Господин учитель сказал: «Если будете продолжать в том же духе, то сможете получить в аттестате четверку». В течение второго часа господин преподаватель сначала показал нам рисунки пером некоторых бывших учеников этого заведения – все они вышли из школы почти гениями. Прирожденные художники-перовики. Раньше люди были хоть и глупее, чем в нашу проклятую эпоху, зато куда серьезней. Поэтому мы должны прилежанием возместить то, чего не хватает нашим учителям по части интеллекта.
– Михалек, Ремхельд, Муль, что здесь смешного! Хамье бестолковое! Мицкат, я же тебе сказал, перестань мямлить.
– …и вот, в течение второго часа рисования, который называется у нас рабочим часом, все очень напряженно трудились, потому что глава о белках совсем не маленькая.
– Громче! Не цеди сквозь зубы, мальчик!
– Мы быстро навели последний глянец на свою работу, которой угрожала опасность в виде бесценных советов нашего преподавателя.
– Перестань чепуху молоть, Мицкат!
– Вскоре особа учителя покинула нас на довольно долгое время по причине какого-то важного заседания. Начался весьма пикантный разговорчик о нашем предстоящем классном вечере. Ах ты черт, что тут только не говорилось про девочек с изюминкой, дешевых куколок и про ценные кадры. Когда господин преподаватель, наконец, все-таки вернулся, он нашел, что мы слишком уж расшумелись.
– Рассказывай дальше, я тут недалеко. Дверь не закрывать!
– Впрочем, он скоро успокоился, потому что по натуре он человек добродушный. Зазвенел звонок и грубо оборвал дальнейший подъем нашей многообещающей деятельности. Прежде чем мы устремились из рисовального зала в бурную жизнь, господин учитель рисования напутствовал нас крылатыми словами: «Ребята, поставьте стулья на столы!» Мы повиновались, но при этом не обошлось без шума, который наш преподаватель готов был истолковать как недисциплинированность. Однако мы счастливо избежали его гнева.
Итак, мы продолжали трудиться…
…если я кончу на пять минут раньше, то успею на автобус двенадцать семнадцать. Нет, надо еще зайти в цветочный магазин. Розы. Когда я в последний раз покупал ей розы? В Финале Лигуре. Мы отдыхали в Финале Лигуре, и у нее как раз был день рождения. В пятьдесят восьмом. Нет, в пятьдесят седьмом, в пятьдесят восьмом мы строились. Тогда ей исполнилось тридцать восемь. Розы. Красные или желтые? Поеду автобусом двенадцать тридцать семь. На этот я еще попаду. Изотопы. Сможет ли Хюбенталь мне все это объяснить? Физики должны кое-что в этом смыслить. Я не понял ни слова из того, что мне говорил профессор. Если только это не рак. Гамма-лучи? Что за белиберду несет этот Мицкат? Он думает, я не слушаю. Он прав: я не слушаю…
– Говори громче, Мицкат! Никто же не понимает, что ты там бормочешь!
– Хорошо, господин Куддевёрде. Итак, мы продолжали прилежно трудиться, делая уроки, как на всех уроках…
…вот наглость. Надо принять решительные меры. Этот Мицкат – один из худших. Прислали к нам из гимназии. Такие, как правило, никуда не годятся. Неудачники – люди опасные. Где классный журнал? Я еще не взял его из учительской. Пойти и записать этого Мицката. Замечание за наглое поведение, подпись: Куддевёрде. Три замечания – посылается извещение родителям. Семь замечаний – consilium abeundi[27]. Это действует. Надо записать его! Если я не опоздаю на автобус двенадцать тридцать семь, то в час буду уже в больнице, в ее отделении. Сестры не очень-то любят, когда я прихожу в это время. Мертвый час. Что за гвалт поднимают эти архаровцы, как только повернешься к ним спиной. Здорово я их посадил. Им и сказать нечего. Только за уход – тридцать пять марок. Сколько может запросить врач? А эта штука, как ее – микроволновая спектроскопия, или что-то в этом роде. Наверно, дорого. – Громче, Мицкат! – Запишу его. Нельзя допускать, чтобы мой авторитет подрывали еще и здесь. Изотопы. Спросить Хюбенталя! Да нет, он только делает вид, что знает, важничает. Хвастун! И болтает всякий вздор. В большом Брокгаузе наверняка есть статья об этом, а Брокгауз имеется у нас здесь, в школе. Но стоит в кабинете у шефа. Ерунда, только окончательно потеряю покой. Двенадцать тридцать семь…
– Господин Куддевёрде, у меня все.
– Хорошо, садись. Достаньте тушь и перья. Сегодня мы будем рисовать доменную печь. В чем дело, Шанко?
– А можно нарисовать абстрактную доменную печь, господин Куддевёрде?
– Ну что ж, пожалуйста. Но только как следует. Приступайте. Курафейский, что тебе еще надо?
– Что значит абстрактный, господин Куддевёрде?
– Я же вам сто раз объяснял!
– Но я не понял, господин Куддевёрде!
– Беспредметный. Абстрактный – значит то же, что беспредметный.
– Разве может быть беспредметная доменная печь?
– Нет, не может. Конечно, нет. Балбес! Курафейский, ты великовозрастный балбес! Садись, наконец, за стол и принимайся за работу! В чем дело, Гукке?
– Как вы считаете, господин Куддевёрде, Пикассо действительно пишет абстрактные картины?
– Пикассо? Да, можно сказать, что он пишет абстрактные картины. Но не всегда – время от времени. Только мы не будем сейчас говорить о Пикассо. Муль?
– А какого вы, собственно, мнения о Пикассо, господин Куддевёрде?
– Это я вам скажу, когда мы будем заниматься Пикассо. Сегодня мы им не занимаемся! Сегодня мы рисуем доменную печь. Ну-ка поживее!
– Мой отец говорит, что картины Пикассо ни на что не похожи!
– Он ненормальный!
– Шизофреник!
– Кривое зеркало!
– Выродившееся искусство.
– Сжечь!
– Кастрировать!
– Тихо, тихо! Если вы сейчас же не замолчите, я приму меры! Так и быть, скажу вам несколько слов о Пикассо, раз он вас так интересует. Но потом мы будем рисовать доменную печь! На следующем уроке вы сдадите мне рисунки. Все как один. Фарвик, ты соберешь работы. Так что сказал твой отец, Муль?
– Он считает, что Пикассо совершенно не умеет рисовать, его картины ни на что не похожи.
– Не похожи? Да, можно сказать и так. Искусствоведы называют это безнатурностью. Утрата чувства симметрии. В конце нашего курса мы еще вернемся к этому вопросу. А может быть, кто-нибудь хочет сделать доклад о Пикассо? Фарвик? Хорошо! Я уже подумываю о том, чтобы поставить тебе четверку, а может быть, и пятерку.
– Когда я должен буду сделать доклад, господин Куддевёрде?
– Ну, скажем, через неделю. Задача нелегкая. Ну да ты справишься! Есть у тебя «Энциклопедия современной живописи»? Хорошо. А то я бы мог одолжить тебе свою. Так, а теперь принимайтесь за доменную печь! Вспомните Дортмунд, Бохум, Ваттеншейд! Кто бывал в этих городах? Девять человек. Хорошо. Кто у вас староста?
– Рулль!
– Хорошо. Рулль, садись сюда, за кафедру. Будешь следить за порядком. Мне придется уйти на несколько минут раньше. Но берегитесь, если я услышу хоть слово! Я приму свои меры. Итак, начинайте!
…вот уж действительно Нуль! Старый хрыч! «Энциклопедия современной живописи»! Предложил бы мне хотя бы Гафтмана. Да у него и у самого нет. Он даже не знает, что это такое. Дальше Гогена и Ван-Гога – ни шагу. В лучшем случае добрался до Марка. Где уж там! Небось дальше Мака не двинулся! Как мои старики. Может быть, все-таки дошел до Марка. А в гостиной у него, конечно, висит «Башня голубых коней»[28]. Чтобы все сразу увидели: он на уровне. Но в спальне – три квадратных метра душеспасительной мазни «Господь мой пастырь». Лоснится от елея. Обераммергау[29]. Духовная олимпиада. Я ему такой доклад отгрохаю, что он ни слова не поймет! Джонни опять устроил отличный спектакль! Надо напомнить ему о вечеринке. Jazz, poetry and painting[30]. Пластинка – восторг. Дэйв Брабек. Джей Джей Джонсон. Бенн. Только где я достану подходящий фильм о Пикассо? Можно будет здорово пошуметь! Джонни, Лорд, Трепло, Бродяга, Пигаль et moi[31]. А Фавн? Нет, тот решает мировые проблемы. Зато парочка кадришек. Рената не придет. Ее увел этот шейх – Пижон. Габи, Лолло, Муха, Пикки, Лейла. Может быть, еще Карин. Да ну ее, эту жизнерадостную кретинку. Но музыка будет играть дольше, чем идет фильм. Ладно. Da capo![32] Это как раз то, что надо. Без конца, без начала. А соберемся у Джонни, в летнем домике. Вилла, «На холме»! Если мне не удастся раздобыть подходящий фильм, я буду импровизировать углем! Black and White[33]. Должно получиться. Абстрактные нагие тела. В качестве натурщицы – Лолло! Неужели Трепло вчера с ней… Вранье! Мне она врезала, когда я вчера сунулся к ней. Нуль и правда опять смывается. Вот это работяга…
– Да заткнитесь вы, – рявкнул Рулль. – Если сюда заглянет шеф, он вкатит нам пять страниц английского, и будем сидеть до вечера.
– Знаете вы этого господина?
Годелунд протянул д-ру Немитцу через стол какую-то фотографию.
– Нет. Кто это? Киноактер?
– Я не знаю. Его фамилия мне ничего не говорит.
– А у кого вы отобрали этот снимок?
– В шестом «Б» на прошлой неделе.
– Это же пресловутый американский тенор, – сказал Нонненрот и передал фотографию дальше. – Джимми – Карузо современных дикарей.
– Ну и физиономия! – заявил Харрах и поднял очки на лоб. – И такой тип – кумир нынешней молодежи.
– Вы верите, что это действительно так? – спросил Годелунд.
– Уважаемый коллега, однажды случайно я оказался во Франкфурте, когда этот халтурщик давал, не знаю, как это назвать, концерт – не скажешь…
– Show, – сказал Кнеч.
– Да, как будто бы теперь это называется именно так. Значит, давал представление. Перед – чтобы не соврать, – перед пятью тысячами юнцов!
– Полузрелых!
– Этого слова, коллега Нонненрот, я из педагогических соображений никогда не употребляю! Но вы, конечно, правы.
– А к концу в зале не осталось ни одного целого стула!
– Я как раз и хотел это рассказать! Вы тоже слышали об этом?
– Это был не Джимми Робинсон, – сказал Виолат. – Тот жил в Федеративной республике только в качестве GI. Наверное, вы слушали кого-то другого.
– Вы удивительно хорошо осведомлены об этом выдающемся артисте, уважаемый коллега!
– У всех этих дергунчиков – золото в коленной чашечке, – изрек Нонненрот.
– Когда вы назвали это имя, я вспомнил другой случай, хотя он произошел несколько лет назад, – сказал Хюбенталь. – Тогда один из этих, пожалуй, психологически правильнее будет сказать «полузеленых», – так вот, один из них написал мелом на стене Бамбергского собора…
– «Моего бога зовут Джимми» – я тоже читал об этом, – сообщил Харрах. – Это даже была девчонка.
– Разве это не кошмар?
– Ужасно. Но симптоматично.
– И это народ поэтов и мыслителей!
– Ничего удивительного, господа, – сказал Матушат, – что дисциплина, производительность труда, нравственный уровень год от года все падает.
– При таких-то образцах!
– Но неужели у нашей молодежи действительно нет других идеалов, кроме этого печально знаменитого тенора и ему подобных? – спросил Хюбенталь и с возмущением оглядел присутствующих.
– Альберт Швейцер! – предположил Годелунд.
– Да, для безмолвных созерцателей. Но где они теперь?
– Разве интересы этих юнцов не сосредоточены целиком на девчонках?
– Ну конечно. Неужели вы думаете, что в нашем шестом «Б» кто-нибудь возводит в идеал Альберта Швейцера? Уве Зеелера – еще пожалуй или, если брать повыше, Вернера фон Брауна…
– Или Бриджит Бардо!
– Господин Нонненрот, господин Нонненрот, – произнес Годелунд.
– Скажите, это правда, что Альберт Швейцер больше уже не немец? – спросил Матушат.
– Швейцер не немец? То есть как?
– Говорят, он принял французское подданство.
– Когда?
– После первой мировой войны.
– Первый раз слышу, – сказал Годелунд. – Моя жена обязательно бы мне рассказала. Она с юных лет занимается Альбертом Швейцером.
– Вам это сообщил какой-нибудь француз? – Хюбенталь никак не мог примириться с новостью.
– Нет. По-моему, это было в «Шпигеле».
– Мерзкий журнал! Не читаю из принципа.
– Поверьте, господа, там сотрудничают одни подонки. А широкие массы интеллигенции попадаются на их удочку.
– Подрывная тактика!
– Не знаю, что думаете по этому поводу вы, но если всякий паршивый журнальчик может забрасывать правительство грязью…
– Демократия, уважаемый коллега!
– Да, но к чему мы придем?
– Уж это мы увидим! Увидим здесь, на школьном фронте, скорее, чем кто-либо другой.
– И прежде всего в шестом «Б»!
– Что опять натворил шестой «Б»? – спросил Криспенховен, входя в учительскую.
Годелунд молча протянул ему снимок, который только что обошел вокруг стола.
– Кто принес это?
Годелунд с улыбкой пожал плечами.
– Ну, я полагаю, что хоть классного руководителя они должны были посвятить, – коротко сказал Випенкатен.
– Нусбаум!
– Ну, тогда я ничему не удивляюсь! – Нонненрот вошел в раж. – Парень таращит на тебя глаза, словно только что глотнул святого духа, но я уверен – этот посланец крестьянской бедноты все время держит кукиш в кармане!
– Мальчишка распущен до предела! Как только он ступит за порог школы, он даже Не плюнет в нашу сторону!
– У мальчика нет отца, – сказал Криспенховен.
– Разве Нусбаум потерял отца? – спросил Годелунд.
– Да. На фронте.
– Ну, пожизненного права на хамство это все-таки не дает, – вставил Хюбенталь.
– Большой драмы в том, что мальчуган принес в школу этот снимок, я не вижу.
Випенкатен с минуту пристально смотрел на Виолата.
– Драмы? Драмы, уважаемый коллега, здесь, может быть, еще и нет. Но одно тянет за собой другое! Я бы мог кое-что сказать вам относительно характера этого ученика! Проработав педагогом тридцать три года, видишь глубже, чем когда только понюхаешь школы. Не примите это как выпад против молодых коллег или – тем более – против вас лично, уважаемый коллега Виолат! Кроме всего прочего, успеваемость Нусбаума по моему предмету – по стенографии – в последней четверти угрожающе снизилась.
– Аналогичный случай в моем секторе.
– Вы позволите мне взять эту фотографию? – спросил Криспенховен. – Я хотел бы побеседовать с парнем.
– Ради бога – если вы находите это целесообразным, вы же классный руководитель.
– Побеседовать с парнем! – ворчал Випенкатен. – Вот увидите, к чему приведет вся эта мягкотелость.
В дверь настойчиво постучали.
– Это шеф! – сказал Криспенховен. – Он хотел нам что-то сообщить.
Директор Гнуц обошел вокруг стола и каждому из присутствующих пожал руку – крепко, до боли. Затем он сел в кресло во главе стола, которое пустовало в ожидании директора – длинный, худой, изможденный желудочной болезнью.
– Господа! Завтра к нам прибывает новый коллега – преподаватель английского языка и истории господин Йоттгримм. Я позволю себе сказать, что мы сделали удачный выбор. Капитан-лейтенант, с высшим образованием, – подчеркивая это, я отнюдь не хочу ущемить коллег, которые пришли к нам из начальной школы и, так сказать, выбились из низов. Мы рады каждому, кто исполняет свои обязанности с воодушевлением, преданностью и от всего сердца. Я хотел только сказать: у нашего нового коллеги превосходная репутация! А что касается его педагогических возможностей, то здесь я мог бы уже высказать свое суждение – ведь мы с ним ведем один и тот же предмет, – при первом знакомстве он произвел наилучшее впечатление! В полном смысле слова. Полагаю, я не встречу возражений с вашей стороны, если предложу, чтобы мы собрались здесь завтра после пятого урока как бы для введения его в должность. Нам нужно еще обсудить кое-какие вопросы нашего школьного распорядка – это можно объединить. Да, коллега Матцольф?
– Я позволю себе спросить – что, наш уважаемый коллега католик или евангелического вероисповедания?
– Евангелического. Но какое это имеет значение? Ведь вряд ли у вас, уважаемый коллега, сложилось впечатление, что при моей системе пропорция…
– Я только позволил себе спросить, господин директор. Благодарю вас!
– Странно! Ну что ж, теперь снова за работу! Всего доброго, господа! – Директор Гнуц четким и гневным шагом покинул учительскую, не закрыв за собою дверь.
– У меня есть для тебя новый анекдот про Эйхмана! – сказал Михалек.
– Это будет номер семьдесят восемь. Когда у меня наберется сотня, папаша купит мне самый маленький японский транзистор, четыре диапазона.
Муль вытащил из кармана джинсов записную книжку.
– Валяй!
– Эйхман пришел к апостолу Петру…
– Во-от такая борода, – проворчал Муль.
– Знаю другой: Эйхман перед повешением принял еврейство.
– Зачем?
– Затем, чтобы на виселице по крайней мере болтался еврей!
– Сила.
Муль записал.
– Еще один?
– Еще два. Что я буду с этого иметь?
– Три гвоздика.
– Четыре!
– О’кэй!
– В своей будущей жизни Эйхман должен стать генеральным секретарем Организации Объединенных Наций.
– Почему?
– Кроме него, никто не сможет решить проблему беженцев!
– Крепко.
– Что общего между Эйхманом и Иисусом Христом?
– По-моему, этот у нас уже есть, – сказал Муль. – Сейчас посмотрю!
Чтобы не прогадать, он дал Михалеку пока только две сигареты.
…мне бы их заботы. Педагогическое лицемерие. Нет, пожалуй, еще хуже: искренняя убежденность. Гораздо хуже! Но в одном им надо отдать справедливость: у них есть точка зрения. А у меня нет. Утратил в возрасте двадцати лет. Оберюнгбаннфюрер Виолат. В России. И окончательно на Кубани, у предмостного укрепления. Anno diaboli 1943[34]. Те залегли высоко – мы карабкались, как на учениях в казарменном дворе. В шесть-семь заходов. Но они стреляли все снова и снова, когда ты этого уже не ждал. И вот кончились патроны. Или пулемет заклинило. Жарко пришлось. Но позицию мы не сдали! Дрались до последнего человека. По твоему приказу, обер-лейтенант Виолат! Последний человек уцелел, и это был ты. Новенький дослужился до капитан-лейтенанта. Наверное, вступит в кружок ветеранов. У них тоже есть точка зрения. Сегодня ночью я опять утопил весь дом в слезах. Как сказал министр: «Старый дурак – не может удержать слезы и не спит по ночам, когда думает о Хиросиме!» Про кого же он это сказал? Про Альберта Швейцера или Отто Гана? С меня хватит Кубани. До последнего человека, обер-лейтенант Виолат! Я так и не смог через это перешагнуть. Слишком ты мягок, обер-лейтенант Виолат! Спустя восемнадцать лет твой проклятый долг и обязанность – окончательно списать войну со счета. И маршировать дальше. Нет, только не это! Значит, быстро включиться в восстановление. Мы никогда не сдаемся. Вперед по могилам! Кроме того, у нас есть точка зрения, есть убежденность. Есть у Хюбенталя, у Випенкатена, у Годелунда, у Матушата, у Гнуца – этого Дуболома. У Нонненрота точки зрения нет. Почему же, есть – наплевизм. Тоже ведь точка зрения. Его точка зрения – не иметь точки зрения. А Криспенховен? Этот уволен вчистую. Видно по нему. Пал и воскрес. В России лежит под землей, здесь же только на побывке. На пасхальные каникулы опять поеду в Париж. Один. Нечего сказать, счастливый брак!
Rue Abukir: chez Akli. «Fais la terrasse! Comment ça va, mon cher?» – «Ah, il marche encore, mon copain!» – «Qu’est-ce-que tu bois? Du rouge?» – «Mais oui, toujours, toujours!» – «Allez, le grand Rouge. Lentement, lentement! Tu bois comme un trou! J’ai un nouveau disque – ah, voilà mon ami pour la vie: Georges Brassens. L’artiste! Ecoute! C’est magnifique:
…mais bêtement
même en orage
les routes vont
vers des pays…
– Bonjours, messieurs!
– Bonjours, monsieur Violat!
– Asseyez-vous! Commencez à lire, Adlum![35]
– Материал последнего урока: «Une esquisse biographique»[36].
На перемене наш товарищ Клаусен выписал на доску из учебника полную биографию одного человека. Мосье Виолат велел стереть имя этого человека, дату его рождения, адрес, данные о родителях, избранную им профессию и так далее и вписать соответствующие данные трех наших учеников. На следующий, то есть сегодняшний, урок мы получили задание написать une esquisse biographique про самого себя и сдать его преподавателю, переписав начисто на листе формата ДИН А-4. Клаусену поручено собрать работы.
– C’est tout, mon cher?
– C’est tout, monsieur Violât!
– Très court, n’est-ce pas, mon ami?
– Je regrette, monsieur Violât!
– Quant à moi: je l’espère, je l’espère![37] Курафейский?
– В биографии, которую мы писали на уроках немецкого, требуется указать вероисповедание. Зачем?
– Не обязательно. Но так принято. Зачем, спрашивается? Клаусен!
– Я полагаю, что от католического предприятия нельзя требовать, чтобы оно приняло на работу ученика евангелического вероисповедания, если оно может взять не менее способного католика! И наоборот, конечно.
– Ого!
– Ты, как видно, другого мнения, Курафейский?
– Этого теперь не может себе позволить ни одно предприятие, – запротестовал Муль. – Теперь главное – качество работы.
– А ученики столь же редки, как девственницы! – добавил Мицкат.
Виолат три раза постучал по кафедре шариковой ручкой.
Слова попросил Затемин.
– Разве взгляды Клаусена на этот вопрос не противоречат конституции? Никто не должен терпеть ущерба по причине своего вероисповедания или расовой принадлежности – ведь так, кажется, там сказано!
– Я разделяю твое мнение, Затемин, но я не преподаватель истории!
– А к какой расе и какой церкви, собственно говоря, принадлежит господин Грёневольд? – спросил Гукке.
– Господин Грёневольд евангелического вероисповедания. Ты же это знаешь, Гукке!
– Да, но я слышал…
– Что?
– Я бы не хотел говорить это при всех.
– Его отец сказал, что господин Грёневольд еврей, – пояснил Муль.
– Ну и что же? Если для тебя, Гукке, это такая важная проблема, то лучше всего тебе поговорить об этом с самим господином Грёневольдом! Я уверен – у него найдется что сказать тебе по этому поводу! Шанко!
– Меня гораздо больше интересует, почему в биографии, которую мы пишем на немецком, надо указывать еще профессию отца!
– Консервативный капитализм! – сказал Затемин.
Виолат трижды постучал по кафедре шариковой ручкой.
– Ну, когда мы знаем, из какой семьи вышел человек, это нам все-таки кое-что дает.
– Неужели вы действительно думаете, господин Виолат, что из так называемого добропорядочного буржуазного дома всегда выходят более стоящие люди, чем из общежитий пролетариев?
– Нет, Затемин, этого я, конечно, не думаю. Ну вот, мы с вами уже почти что влезли в политическую дискуссию! Почему же вы не спросили обо всем этом у доктора Немитца?
– Ему некогда, он должен читать свою «АДЦ»! – сказал Рулль.
– Silence, mes amis, silence![38]
– Здесь вообще можно разговаривать только с тремя учителями, – сказал Рулль. – Для остальных мы всего только материал!
– Merde![39] – четко произнес Курафейский и продолжал дальше вырезать на крышке стола свои инициалы.
Виолат спустился с кафедры.
– Fini![40] Дебаты окончены! – коротко сказал он. – А ты, Рулль, и также Курафейский, Шанко, Затемин, Мицкат и прочие, вы все-таки еще подумайте, верно ли то, что вы здесь говорили насчет материала и т. д. Несправедливыми могут быть не только учителя! Так. Сегодня я принес вам несколько пластинок…
В дверь тихонько постучали.
Стуча каблучками, вошла фрейлейн Хробок, залилась краской и сказала:
– Извините, пожалуйста…
Класс встал, как один человек.
– …дело в том, что получено срочное распоряжение правительства – представить данные о выборе профессии!
– Садитесь! – сказал Виолат и с минуту изучал анкету.
– Мицкат, не таращь глаза, как сова! Присядьте, пожалуйста, на минутку, фрейлейн Хробок! Да, вот сюда, за кафедру! Так. Теперь пусть каждый из вас четко и ясно скажет мне, чем он собирается заниматься после пасхи. Я буду записывать, в алфавитном порядке: Адлум?
– Работа по социальному обеспечению.
– Клаусен?
– Миссионер.
– Скушай еще ложечку у доброго миссионера, Лумумба! – пропищал Мицкат.
– Перестань кривляться, Мицкат, не то получишь затрещину! Фариан?
– Полиция.
– Фарвик?
– Школа прикладного искусства.
– Фейгеншпан?
– Бундесвер.
– Хельфант?
– Книготорговец.
– Гукке?
– Автомеханик.
– Курафейский?
– Clochard[41].
– Ребята, ну не валяйте же дурака! Вы доведете меня до того, что я перестану быть учителем и стану долбилой.
– Честное слово, господин Виолат, я бы охотнее всего стал clochard’oм.
– А чем ты будешь en rèalitè?[42]
– Банковским служащим, – сдался Курафейский.
Фрейлейн Хробок взглянула на свои наручные часы и откинула со лба челку.
– Лабус?
– Магистрат.
– Лепан?
– Городская больничная касса.
– Михалек?
– Инженер-электрик.
– Мицкат?
– Торговое училище.
– Муль?
– Гимназия.
– Нусбаум?
– Сапожник-ортопед.
Фрейлейн Хробок вдруг рассмеялась на неожиданно низких нотах и поспешно прикрыла рот ладонью.
– Петри?
– Бундесвер.
– Ремхельд?
– Продавец. В магазине у родителей.
– Рулль?
– Еще не знаю.
– За месяц до окончания? Ты что, еще не нашел себе места?
– Место есть.
– Так что же?
– Я еще не знаю, пойду ли я туда.
– Куда именно?
– На машиностроительный завод.
– Верный кусок хлеба! Это отец нашел для тебя, так ведь?
– Да.
– Ну, а ты кем хочешь быть?
– Учителем, – сказал Рулль.
Виолат покачал головой.
– Подумай хорошенько, – сказал он. – Я бы теперь не пошел в учителя.
– Долбила.
– Родился, ушел на каникулы и умер!
Фрейлейн Хробок снова засмеялась.
– Silence! – крикнул Виолат.
– Пока напишем «механик». D’accord[43], Рулль?
– А может быть, я вообще не буду ни тем, ни другим, – пробормотал Рулль.
– Ну ладно. Затемин?
– Редактор.
– Шанко?
– Инженер-строитель.
– Тиц?
– Его нет.
– Кто-нибудь знает, кем он хочет стать?
– Сборщиком конского навоза на автостраде!
Виолат решительно направился к Мицкату, но не мог удержаться от смеха и сказал:
– Возьмешь на себя протокол сегодняшнего урока – не меньше трех страниц, понял?
– Pardon, oui![44]
– Тиц хочет в уголовную полицию, – сообщил Адлум.
Виолат пополнил статистику недостающими сведениями и отдал фрейлейн Хробок. Класс поднялся вместе с ней.
– Asseyez-vous, filous![45]
Фрейлейн Хробок выплыла из класса.
Мицкат поглядел ей вслед и хотел что-то сказать, но, встретив взгляд Виолата, ограничился ухмылкой знатока.
Виолат с минуту смотрел в окно.
– Вы требуете, чтобы с вами прилично обращались, – сказал он, стоя вполоборота к классу. – Тогда извольте вести себя соответственно. Мицкат, включи проигрыватель! Сегодня мы займемся французскими chansons. Что мы понимаем под словом chanson?
…он должен был дать Мицкату по морде. Но мосье Брассанс не способен на крутые меры, слишком мягок. Смешно: старики непробиваемы как танк, а те, что помоложе, сразу раскисают, стоит нашему брату только пикнуть. Что-то неладно – и у тех и у других. Одни ничего не понимают, другие – все. Может быть, причина в этом. Муль опять поддел его на удочку и валяет дурака. Неужели тот ничего не замечает? Никогда не поверю. Ведь он малый умный. И тем не менее он глотает все, любую наживку. Рулль не треплется. И Анти – тоже нет. Они говорят, что думают. Вот безмозглые! Здорово мне повезло, что я взял себе в отцы Адлума-старшего. Он тоже все понимает, но не киснет, а твердо стоит на своем и всегда знает, на что решиться. Во время этой их идиотской войны, которая меня ни капельки не интересует, он нисколько не утратил способности к суждению. Все здешние учителя где-то остановились в своем развитии. Гнуц, Випенкатен, Риклинг и Годелунд – в 1918 году. Хюбенталь, Нонненрот и Матушат – в 1945-м. В субботу вечером мы с господином Адлумом-старшим опять отправимся в «Гильду»! Он совсем отпустил вожжи. А ведь я мог бы пойти по плохой дорожке! Но не пошел. Доверие облагораживает! А вера в себя подстегивает. Правда ли, что Грёневольд еврей? Мне это безразлично. Но тогда ему следовало бы преподавать здесь что угодно – только не историю. Надо потолковать об этом с моим стариком. На него самого донес еврей-капо за то, что он, когда ехал в отпуск с фронта, бросил из вагона пачку сигарет в колонну заключенных какого-то концлагеря! Это было, кажется, в Польше. У Дина вообще нет отца. Поэтому он так злится из-за автобиографии. А учителишки ничего не замечают. Его мамаша работала санитаркой. Может быть, она еще и в лапы к русским попала. Так или иначе, его здорово заносит влево. Исключительно из духа противоречия. Вот Лумумба – фанатик. Я думаю, он добьется своего и уедет туда. И пусть! Я не знаю ни одного человека из наших мест, который захотел бы туда вернуться. А вот здесь, на Западе, все еще попадаются чокнутые красные крикуны. Фавн опять психует по поводу учителей. Он принимает их чересчур всерьез: это просто функционеры профсоюза «Наука и воспитание». И несколько унтеров от педагогики. И несостоявшихся художников. И два-три неудачника, выбитые из колеи войной. Как этот мосье Виолат. Виолат терпеливо сносит все, что бы с ним ни проделывали. Интересно, он хоть к чему-нибудь еще относится серьезно? К себе самому наверняка нет. Все понимать и при этом сохранить точку зрения – этот несложный фокус ему не под силу…