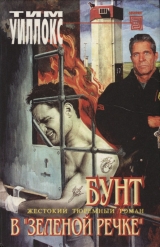
Текст книги "Бунт в "Зеленой Речке""
Автор книги: Тим Уиллокс
Жанр:
Боевики
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 25 страниц)
Ее идеей было заглянуть в психологию больных СПИДом, содержащихся в двух разных больницах. Первая группа пациентов проходила курс лечения в Университетском медицинском центре Хьюстона; вторая – в лазарете государственного исправительного учреждения „Зеленая Речка“. Исключительно для этого Девлин отобрала два специальных вопросника для определения состояния ментального здоровья пациентов с упором на депрессивные состояния и сама разработала третий, который почти наугад назвала „Исследованием Травматизма Существования“. Вопросники предложили обеим изучаемым группам. Для сравнения были отобраны дополнительные контрольные группы пациентов, страдающих от несмертельных болезней. Группы же больных СПИДом были обречены. Но кто встретит смерть достойнее? И как именно? И почему?
Больные в Хьюстоне получали медпомощь по высшему разряду, равно как и первоклассную психологическую поддержку, но им предстояло расстаться с жизнью, по общепринятым меркам, „хорошей“: свободной, сытой, полной надежд. По сравнению с ними обитатели тюремного лазарета находились в кошмарной обстановке, зато теряли они не так много. Большой мир за стенами тюрьмы оценивал их жизни по минимуму и заботился только о том, чтобы проводить их в мир иной по возможности тише и дешевле. Ключевой вопрос был в том, как на это смотрят сами больные. Тяжелее ли расставаться с жизнью „хорошей“, чем с жалкой и убогой? Чья жизнь для кого дороже? Для кого смерть страшнее? Легче ли умирать отбросам общества в „Зеленой Речке“, чем свободным людям в шикарной клинике Хьюстона? Девлин хотела научно определить границу, за которой начиналась философия. Возможно ли сформулировать и ответить на эти вопросы путем, который имеет отношение к науке?
– …Наверняка можно утверждать только одно, – сказал как-то Клейн во время одной из многочисленных дискуссий с Девлин.
– Что именно? – спросила Девлин.
Клейн отошел к двери кабинета и посмотрел вдоль коридора в сторону палат:
– Никто не сошьет лоскутного одеяла в память этих парней.
– А как насчет вас, Клейн? – спросила Девлин.
Клейн фыркнул и ответил:
– Лично я просто отбываю свой срок так, как мне легче.
Девлин ему не поверила. Она была уверена, что для него работа значит так много, как и для нее. И даже больше – много больше. Но Клейн упорно прятался за фасадом цинизма, и чем сильнее Девлин на него давала, тем упорней он утверждал обратное.
Размышления Девлин были прерваны скрипом двери: в кабинет просунулась голова Коули и повела на гостью недобрыми желтыми глазами.
– Привет, Коули, – сказала Девлин.
Коули ответил торжественно-унылым кивком:
– А, докта Девлин! А мы вас сегодня не ждали.
– Знаю: я хотела вас удивить.
– Во, черт! – сказал Коули. – Отче небесный, как я удивлен!
Девлин никак не могла сориентироваться, злиться ей или смеяться над манерой Коули разговаривать с ней, подобно дяде Тому упорно называть ее „доктор“, отлично зная, что она предпочитает обращение по имени. Сегодня Девлин хотелось рассмеяться, но вместо этого она сказала:
– Козел вы, Коули!
– Как скажете, докта!
– Как там ваши подопечные? – спросила она.
– Как всегда, – ответил негр. – То есть половина их умирает, а половина нет.
– А где Клейн?
– Пошел навестить начальника тюрьмы, – ответил Коули. – Уж и не знаю, когда вернется.
– А зачем он пошел к Хоббсу?
– Узнать, удовлетворила ли комиссия его ходатайство об освобождении.
– А уже было слушание?
Девлин постаралась, чтобы вопрос прозвучал небрежно, но на самом деле она обиделась на Клейна. Честно говоря, она просто исходила яростью, хотя это, несомненно, было абсурдом. Коули из-под нависших бровей молча следил за ней, и Девлин ощущала себя тем, кем и была на самом деле – чужаком.
Затем негр кивнул:
– Ага, на прошлой неделе. – Он сделал паузу, исподлобья глядя на Девлин, затем спросил: – Вы полагаете, что имели право знать?
Девлин дернула плечом и отвернулась.
– С его стороны было бы очень любезно, но в конце концов это не мое дело.
Коули покачал головой:
– Мне он тоже ничего не говорил, пока не состоялось заседание комиссии. Знай я об этом раньше, черта бы лысого у него что-нибудь получилось.
Девлин повернулась и уставилась на негра:
– Вы бы помешали его освобождению?
– Можете не сомневаться.
– Не могу вам поверить.
Коули спокойно выдержал ее взгляд:
– А вы полагаете, что я хочу заправлять этим заведением один? Думаете, я управлюсь? А как насчет того, чтобы пойти ко мне в помощники после того, как Клейн свалит?
– Я не верю, что вы могли бы так с ним поступить.
– А вы по-прежнему не понимаете, каково нам здесь, докта Девлин? Вам бы только вопросники заполнять, до сути вам и дела нет. Думаете, здесь все реально, но это не так: все это игра. И если вздумаешь жить здесь по законам реального мира, ты погибнешь. Принимай условия игры и получишь шанс. А этот ваш Клейн научился играть хорошо. Сыграйте с ним и увидите, как он вас раскрутит. Вы же девушка азартная, должны понимать…
– И все же не понимаю, – ответила Девлин.
– Видел я, как вы на него смотрели, – сказал Коули.
Девлин сжалась; неожиданно ей показалось, что голова ее стала прозрачной, и Коули может читать ее самые потаенные мысли. Тем не менее она постаралась выдержать взгляд негра.
– У человека здесь единственный долг, – продолжал тот, – это его долг перед самим собой. И не надо требовать того, чего он дать не может.
Чувствуя себя глупой и косноязычной, Девлин кивнула. Коули был прав. Она сглотнула слюну:
– Его освободят?
Коули медленно моргнул и кивнул:
– „Пи Вайн Спешл“ отходит от вокзала. Как я уже сказал, Клейн по натуре игрок.
– А как же все это? – спросила Девлин. – Я хочу сказать, а как же со всем этим?
Коули озадачено взглянул на нее:
– Вы это о чем, докта?
– А как же его работа, которую он делал с вами для этих несчастных людей?
– Вы что, думаете, Клейн предпочел бы вкалывать на сверлильном станке? Или штамповать пряжки для ремней? Это просто еще одна роль.
– Я в это не верю, – сказала Девлин, чувствуя дрожь в своем голосе.
Коули пожал плечами:
– Вы, как и все остальные, можете верить во что хотите. – Он повернулся к двери. – Если хотите, подождите здесь – он скоро придет.
– Коули!
Негр снова просунул голову в кабинет.
– Мне нужно вам кое-что показать, – сказала она. – Это важно.
Коули выгнул бровь:
– Позовите, когда понадоблюсь. Я буду здесь рядом. – Он остановился. – Я вам тоже кое-что скажу – на случай, если вы сами еще не знаете.
– Что именно?
– Ваш Клейн выглядит очень неплохо разоблачившись.
Девлин не поняла, покраснела она или нет.
– Чего-чего?
– Без рубашки, – пояснил Коули. – Да и петушок у него для белого – дай Боже. Правда, старого Лягушатника он близко не подпускает, но может быть, вам удастся приманить его чем-нибудь, чего у меня нет.
Теперь до Девлин дошло, что ее лицо просто пылает. Коули похабно хохотнул.
– Коули, вы козел, – произнесла Девлин.
Негр ухмыльнулся:
– Не обращайте на меня внимания, докта Девлин.
Девлин обнаружила, что против своей воли улыбается.
– Желаю вам выиграть сегодняшнее пари, – пожелал ей Коули.
Девлин поставила на то, что сегодня „Лейкерс“ побьют „Нике“ с разницей более чем в шесть очков. По ее наблюдениям, ее склонность к азартным играм – единственное, что в ней нравилось Коули.
– Ага, – ответила она. – Спасибо.
Голова Коули исчезла, и дверь захлопнулась. Девлин присела на краешек стола: известие о возможности освобождения Рея Клейна поразило ее. Внутри все сжалось: в ней жила вера в то, что приглушенные интеллектом и знаниями инстинкты не обманывают. Согласно теории Коули насчет игры и реальности освобождение Клейна представало в новом свете. А то, что Девлин хотела Клейна – ноющая боль внизу живота подтверждала это, – было новой игрой, в которой она отнюдь не являлась экспертом. Девушка открыла чемоданчик и достала пачку „Уинстон Лейте“. Затянувшись и насытив кровь никотином, она почувствовала себя лучше. Нет смысла обманывать себя: она не хотела терять Клейна. Другой вопрос: как его удержать? По этому поводу у Девлин была парочка идей. Следующее: а на кой черт она вообще нужна Клейну? Девлин затянулась еще раз. Последний вопрос пока остался без ответа, но она постарается что-нибудь придумать…
Глава 8
Рей Клейн прикидывал, сидя на деревянной скамье на первом этаже административной башни, будут ли раздражать начальника тюрьмы широкие темные полосы пота на его, Клейна, рабочей рубахе. Дабы не опоздать, он преодолел четыреста метров от лазарета до башни бегом и, конечно, вот уже двадцать минут ждал, обливаясь потом. А вдруг Хоббс решит, что он вспотел от нервного напряжения? Если Клейн разобрался в начальнике, тот не был любителем подхалимажа. Ну и хрен с ним – все равно уже ничего не поделаешь. В памяти всплыл непрошеный куплет старой песенки:
Когда я был ребенком просто,
Спрашивал у матери: дай-ка мне ответ,
Буду я богатым? А какого роста?
И давала мама мне такой совет…
Клейн невольно затрясся от смеха: в голове звучал голос Дорис Дей. Нет, подумать только: он сидит здесь, в гнусной клоаке общества, прокручивая в своей черепушке невесть откуда взявшуюся в памяти песенку тридцатилетней давности. Буду я богатым? А какого роста?.. Клейн будто наяву услышал, как Дорис Дей набирает в легкие воздух и выдает припев: „Que sera sera! Будь что будет!“ В наши дни в этих виршах звучит что-то подрывное, какой-то неостоицизм, если не сказать неомарксизм. Интересно, подумал Клейн, сколько мальчишек в свое время онанировали, мечтая о Дорис Дей? Миллионы, наверное… Кажется, и он, Клейн, как-то пытался… Его сексуальным фантазиям не помешает некоторая новизна. Клейн вдруг удивился своей эрекции…
– Что это вас так развеселило, Клейн?
Вскочив с места, Клейн стер улыбку и поднял глаза: в дверях приемной стоял, как всегда, мрачный капитан Клетус. Поскольку капитана все боялись и ненавидели, он, по понятным причинам, развил в себе манию преследования и любую ухмылку принимал на свой счет. Бенсон из блока „A“ провел как-то целую неделю в карцере только за то, что употребил сравнение – „широкий, как жопа Клетуса“. Клейн решил, что лучший способ убедить капитана в отсутствии злостных намерений – честно объяснить причины своего веселья, и встал по стойке „смирно“.
– Я думал о Дорис Дей, капитан, сэр! – доложил доктор.
Клетус подошел вплотную и, казалось, целую вечность смотрел на Клейна, нос к носу.
– Дорис Дей? – переспросил он наконец.
– Да, сэр, – подтвердил Клейн.
Клетус продолжал молча смотреть на доктора.
– Я вспомнил песню „Что будет, то будет“, сэр, – пояснил тот. – Знаете, „Que sera sera“…
– Que sera sera, – повторил Клетус.
– Да, сэр. Будь что будет, знаете ли…
– А не слишком ли ты умный, Клейн?
– Надеюсь, что нет, сэр! – ответил доктор.
В первый раз за три года Клейн удостоился чести видеть на лице капитана улыбку.
– Ты ведь пришел сюда для встречи с начальником тюрьмы?
– Так точно, сэр!
Клетус снова помолчал, не отрывая взгляда от лица Клейна.
– Иди за мной, – приказал он наконец.
Взмокнув еще сильнее, Клейн последовал за капитаном по лестнице, ведущей в башню. Глядя на маячившую перед носом здоровую задницу Клетуса, Рей крыл себя на чем свет стоит за то, что позволил расслабиться и впустить предательский голос Дорис Дей. Миновав четвертый лестничный марш, Клетус остановился в начале короткого коридора, у обшитой деревом стены. В другом конце коридора находился кабинет Хоббса. Капитан повернулся к Клейну.
– Теперь пой, – предложил он.
Клейн перевел взгляд с Клетуса на дверь кабинета начальника тюрьмы и обратно.
– Сэр? – переспросил он, сглотнув.
– „Que sera sera“, – напомнил Клетус. – Пой.
– Я не помню слов, – сказал Клейн.
– Уж и не знаю, как там решила распорядиться твоей паршивой задницей комиссия по освобождению, – сказал Клетус, – но покуда ты не вышел за ворота, она находится в полном моем распоряжении. И если я прямо сейчас, здесь, наложу на тебя взыскание, комиссия ведь может и пересмотреть свое решение…
Ну, тварь, подумал Клейн, старательно избегая глаз капитана, чтобы не выказать во взгляде все, что он о нем думает.
– Послушайте, – начал Клейн, кашлянув. – Если я нечаянно произвел на вас впечатление большого умника, то, уверяю вас, у меня и в мыслях ничего подобного не было, и я прошу у вас, капитан, прощения и приношу вам свои глубокие извинения безо всяких задних мыслей…
– Пой, – повторил Клетус.
На этот раз Клейн позволил себе взглянуть этому сукиному сыну в глаза: Клетус опять ухмыльнулся. Интересно, подумал Клейн, набирая в грудь побольше воздуха, наверное, избивая Уилсона в карцере, этот гад так же ухмылялся.
– Только погромче, – предупредил Клетус. – Так, чтобы слышалось твое пение даже на нижней площадке лестницы.
Клейн выпустил из легких воздух.
– Должен вам сказать, – сказал он, – что я никогда не предполагал, что вы настолько изобретательны.
Клетус приблизил губы к самому уху Клейну:
– Когда я был пацаном, я привык дрочить, глядя фильмы с участием Дорис Дей.
Клейн взглянул на него.
– А ведь вы правы, – сказал он. – Я и в самом деле слишком умный.
Клетус кивнул:
– И все-таки я хочу услышать эту песню в твоем исполнении.
Ну и подавись, решил Клейн и приступил к делу:
– Когда я был ребенком просто, спрашивал у матери: дай-ка мне ответ…
Клетус, хохоча, исчез из виду, а Клейн продолжал горланить:
– Буду я богатым? И какого роста? И давала мама мне такой совет…
Голос доктора раскатился по маленькому коридорчику. Черт с ним… Клейн перевел дыхание и выдал коронное:
– Que sera sera! Будь что будет…
Не успел он допеть, как дверь кабинета Хоббса распахнулась настежь. Клейн со стуком закрыл рот: из дверей выглядывал сам Хоббс, поблескивая лысиной и беспокойно шаря глазами из-под нависших бровей. Если Клейну и приходилось когда-либо чувствовать себя большим идиотом, чем сейчас, то припомнить этого он не мог. Все, что ему оставалось, – вымученное молчание.
– Клейн?
Легкие доктора были раздуты от воздуха, но перевести дыхание не удалось, и его голос вырвался хриплым шепотом:
– Да, сэр… – Остаток воздуха остался в легких.
Хоббс в спокойном недоумении смотрел на Клейна, словно устроенное тем жалкое представление с трудом доходило до его сознания, отвлекая от дел несравненно более важных. Из своих весьма немногочисленных встреч с начальником тюрьмы Клейн вынес лишь одно: весьма загадочная личность. Что-то в манере держаться и разговаривать придавало Хоббсу облик человека не от мира сего. Его будто забросили в наше время из времени давно ушедшего, как и подчиненное ему учреждение. Построенная в девятнадцатом веке тюрьма с трудом переживала последние годы века двадцатого. По своей скромности, а может, по глупости Клейн часто чувствовал себя не в своей тарелке в присутствии человека с интеллектом более обширным и глубоким, чем его собственный. Хоббс таким интеллектом обладал. Если же в данный момент начальник тюрьмы и не проник в мысли Клейна, это, казалось, его вовсе не тревожило.
– Входите, – пригласил Хоббс и исчез в кабинете.
Клейн выпустил наконец воздух, который уж начинал угрожать кровеносным сосудам его лица. Собрав все свое достоинство, он направился по коридору к двери кабинета.
Тот занимал всю ширину башни с севера на юг и был обставлен с аскетической простотой: книжный шкаф, старый дубовый стол под стеклом да три стула. Над столом крутились деревянные лопасти вентилятора. На одной из стен висел аттестат доктора философии из Корнелля. Прямо напротив двери на деревянном выступе стены стоял бронзовый бюст Джереми Бентама[4]4
Джереми (Иеремия) Бентам, 1748-1832, англ. философ, социолог, юрист. Основатель философии утилитаризма. – Примеч. пер.
[Закрыть]. О том, что это Бентам, Клейн узнал от Джульетты Девлин: если бы не она, доктор принял бы его за генерала конфедератов или кого-нибудь в этом роде. Не считая бюста, Хоббс, как и сам Клейн, был чистокровным янки.
Прикрыв дверь, Клейн уставился прямо в бронзовые бельма Бентама. Видимо, его глаза выглядели примерно так же.
По комнате раскатился голос Хоббса:
– Последний человек, занимавший приличное положение и посвятивший себя проблеме исправительных учреждений.
У Клейна голова пошла кругом. О чем это он? Уж наверняка не о Дорис Дей… Рей посмотрел на начальника и переспросил:
– Прошу прощения, сэр?
Хоббс наклонил голову в сторону бронзового бюста:
– Бентам…
– Да, сэр! – Клейн снова ощутил себя в седле и, быстренько кое-что прикинув в уме, добавил: – Паноптицизм,
Густые брови Хоббса приподнялись на пару сантиметров:
– О, вы меня удивляете! Проходите, присаживайтесь.
Хоббс указал на стул перед своим креслом, и Клейн прошел в кабинет. Под толстым стеклом на столе лежала старая строительная калька с планом здания тюрьмы и стен. Окно, выходящее на юг, находилось у Хоббса за спиной; таким образом его лицо оставалось в тени, – без сомнения, так и было задумано. Присаживаясь к столу, Клейн заметил лежавшую на столешнице зеленую картонную папку с его, Клейна, именем и номером на обложке.
– Итак, что для вас значит концепция паноптицизма? – спросил Хоббс.
Клейн оторвал взгляд от папки, где ждала его судьба; он снова ощутил себя девятнадцатилетним юнцом, пытающимся на экзамене по анатомии вспомнить расположение грудобрюшного нерва:
– Бентам был всецело поглощен идеей того, что, если постоянно наблюдать за кем-нибудь или, во всяком случае, внушить человеку, что он находится под непрерывным наблюдением, это изменит его личность в лучшую сторону, вынудит критически относится к своей персоне. Ну, что-то в этом роде…
– Что-то в этом роде, – повторил Хоббс. – И что лично вы думаете об этой теории?
– Лично я полагаю, что все зависит от личности того, кто наблюдает, и того, за кем наблюдают, – ответил Клейн.
Хоббс кивнул:
– Очень верно подмечено. – Похоже, ответ Клейна начальнику понравился. – Не все люди в состоянии извлечь пользу от изучения паноптической машины. Они просто не выдерживают исходящий от этой идеи свет. А еще меньше они готовы вынести свет самопознания.
– Принуждение людей к самопознанию может оказаться опасным занятием, – заметил Клейн.
– Отчего же? – спросил Хоббс.
У Клейна не было ни малейшего желания провоцировать Хоббса. Не собирался он и вылизывать начальству задницу – хотя бы потому, что Хоббс не из тех, кому это нравится. А впрочем, какая разница? Судьба Клейна все равно уже решена… Раз уж Хоббс пережил песню Дорис Дей в исполнении Клейна, то цитата из Платона его тоже не разъярит.
– Вы помните подземную пещеру, описанную в „Республике“ Платона? Ну, сон Сократа?
Хоббс подался вперед.
– Седьмая Книга, – сказал он. Брови начальника разгладились от возбуждения: казалось, он задержал дыхание. – Поясните вашу мысль.
Клейн проглотил слюну.
– В глубокой пещере, вдали от солнечного света, прикованы люди. Их головы зафиксированы так, что они видят только свои собственные тени, отбрасываемые на стену пламенем костра. Перед теми, кто вступает с ними в разговор, эти пленники отчаянно защищают свое незнание мира, и Сократ спрашивает: „Если бы им в руки попался человек, собирающийся снять с них цепи и вывести на солнечный свет, не убили бы они его?“
Хоббс выпустил воздух из легких так, что, казалось, он вздохнул.
– А вы бы убили его? – спросил он.
Клейн посмотрел на Хоббса долгим взглядом.
– Не знаю, – сказал он наконец. – Если смотреть на солнце слишком долго, можно ослепнуть.
– И все же никто не видел будущего лучше слепого прорицателя Тиресия: существуют истины, которые можно познать только во тьме.
– Да, сэр. Возможно, в этом и состоит проблема вашей паноптической машины.
Хоббс выгнул бровь:
– Моей машины?
Клейн промолчал.
– А вы храбрый человек, Клейн.
– Я просто хочу выбраться отсюда и получить возможность глядеть на срою тень на стене…
– Человек вашего типа должен бы научиться здесь многому.
– Человек моего типа? – переспросил Клейн и пожал плечами. – Может, только отсюда тени и кажутся такими привлекательными. Вы представляете себе их тем, чем на самом деле они не являются…
Но Хоббс не собирался отпускать Клейна так просто.
– А почему вы считаете, что с вами дело обстоит не так?
Шел бы ты, подумал Клейн, а вслух сказал:
– Не хотелось бы, чтобы у вас сложилось обо мне превратное впечатление: я всего-навсего обычный зэк, мечтающий о том, чтобы перед ним поскорее распахнулись ворота тюрьмы.
– Вы уклоняетесь от ответа.
– Даже самые храбрые из нас, – ответил Клейн, – редко набираются отваги для признания существующей реальности.
Веки Хоббса дрогнули: на мгновение Клейну показалось, что начальник сейчас обойдет угол своего стола и заключит его, Клейна, в объятия.
– Virescit vulnere virtus, – произнес Хоббс.
– Боюсь, моя латынь не столь хороша, – признался Клейн.
– Кажется, это переводится как „Сила восстанавливается травмами“.
Клейн подумал о своих травмах – о муках любви, о липовом обвинении в изнасиловании, вследствие чего его и занесло в этот кабинет.
Стал ли он сильнее или просто прибавилось косности и цинизма?
– Это справедливо лишь в том случае, если вы уже были достаточно сильны, – сказал он.
Хоббс торжествующе кивнул:
– Может быть, может быть… Но если дух крепок, отчего не рискнуть?
– Наверное, вы правы, – согласился Клейн. – Вопрос только в том, какой риск и какие травмы.
– Вы полагаете, у вас есть выбор? – спросил Хоббс.
На его лице появилось выражение тоски и отчаяния, что заставило Клейна вспомнить, ради чего он пришел сюда – всего-то и дел, что узнать, предстоит ли ему еще один год отсидки или ждет отеческое напутствие и крепкое рукопожатие на дорожку. А вместо стандартной тюремной процедуры он битый час наблюдает безымянный ужас, весьма смахивающий на безумие, в черных колодцах глаз Хоббса.
– Опять же, – ответил врач, – только иногда.
– Даже у приговоренного к смерти есть выбор, – возразил Хоббс. – Упасть на колени перед палачами или отказаться от повязки на глазах и умереть стоя.
Хоббс, по-видимому, как раз из таких людей. Как врач Рей ощущал сильное желание исследовать состояние начальника, как Марлоу у своего Куртца, и ругал себя за то, что зашел слишком далеко. Но в Хоббсе было что-то гипнотическое. Тем не менее Клейн – всего-навсего заключенный, интересующийся ответом на свое ходатайство об освобождении. И этот заключенный посоветовал врачу осадить назад.
– Да, сэр, – сказал Клейн, – вы абсолютно правы.
Хоббс почуял отступление и, дважды моргнув, откинулся на спинку кресла. Казалось, разговор с Клейном потряс его. Засунув руку в карман, он сжал что-то в кулаке – Клейн понятия не имел, что именно. Будто преследуя отступающего, Хоббс кивнул в сторону бронзового бюста за спиной Клейна и спросил:
– Откуда вы так много знаете о Бентаме?
Клейн прикинул, не заявить ли, что изучает философию кумира Хоббса всю свою сознательную жизнь, но решил, что это слишком опасно: после нескольких десятков лет работы в этой системе Хоббс мог почуять враля с другой стороны тюремного двора.
– От доктора Девлин, – признался он. – Знаете, она судебный психиатр…
– Большинство судебных психиатров не видят разницы между Джереми Бентамом и Джеком Бенни.
Клейн не улыбнулся:
– А доктор Девлин знает, сэр.
Хоббс кивнул головой, успокоившись:
– Необыкновенная женщина. Ваша совместная с ней работа оказалась плодотворной?
– Она написала статью в „Америкен Джорнел оф Психиатри“.
– И ее напечатали?
– Доктор Девлин пока об этом ничего не говорила.
Хоббс фыркнул:
– Знаете, когда Бентам умер, его тело в соответствии с завещанием забальзамировали и поместили в стеклянный ящик. В Лондоне. Кажется, он и по сей день там.
– Да, сэр, – подтвердил Клейн. – И выставлен на всеобщее обозрение. Отныне и навеки.
Зрачки Хоббса снова расширились, и в глазах появилось то самое выражение, от которого у Клейна внутри все сжималось от скверного предчувствия. Начальник, казалось, говорил: „Пойми меня. Будь со мной рядом. Не оставляй меня одного здесь…“ Клейн слышал подобное много раз от родителей, женщин, соседей по блоку; ото всех, кто нуждался в сочувствии и поддержке. Он слышал этот голос от своей бывшей подруги, обрекшей его на все эти мучения. „Дай мне больше, чем ты можешь“, – просили его. К этому голосу примешивался его собственный внутренний голос: „Вали отсюда поскорее, парень“… Сразу вспомнился лозунг Коули: НЕ МОЕ СОБАЧЬЕ ДЕЛО!
– Прекрасно, – сказал Хоббс. – Просто прекрасно. Ирония бентамовского наследия никогда раньше до меня не доходила. Очень вам признателен за неожиданный взгляд на вещи.
– За это я снова должен благодарить доктора Девлин.
А вот это не было правдой: смысл завещания Бентама Клейн постиг сам, но, как говаривал Клетус, не надо сильно умничать – не стоит позволять щупальцам взаимопонимания объединять зэка и начальника тюрьмы. Хватит, и без того много крови из него попили. Пациенты, женщины… Бывшая любовь, а теперь вот Хоббс. Или он, доктор Рей Клейн, становится параноиком? Хоббс внезапно выдернул руку из кармана и поставил перед Клейном бутылочку с пилюлями.
– Врач посоветовал мне принимать эти пилюли три раза в день. Я думаю, он глуп. А что вы на это скажете?
Клейн взял бутылочку в руку и прочитал этикетку: карбонат лития, 400 мг. Голова внезапно опустела: мозг безо всяких эмоций зафиксировал, что Хоббс принимал таблетки, предназначенные почти исключительно для лечения маниакально-депрессивных психозов, которые, образно говоря, являются своеобразными шварцинеггерами среди прочих умственных расстройств.
Вступив в маниакальную фазу, сопровождаемую манией величия и полным отсутствием тормозов, страдающие этой болезнью часто перестают принимать лекарства, что сейчас и продемонстрировал сам Хоббс. Вообще-то словом „маньяк“ в последнее время стали сильно злоупотреблять, но, судя по коричневой бутылочке в руке Клейна, Хоббс по меньшей мере претендовал на этот диагноз. Вот только в отличие от подавляющего большинства других маньяков ему удалось сосредоточить в руках абсолютную власть над множеством человеческих жизней. Клейн взглянул прямо в глаза начальнику тюрьмы; странно, впервые с той минуты, как доктор переступил порог этого кабинета, он был спокоен и уверен в себе. Хоббс вовсе не строил ему ловушек – он на самом деле был безумен.
Хоббс кивнул на зажатую в руке доктора бутылочку:
– Вы мне так и не ответили.
Клейн поставил таблетки на стеклянную поверхность стола.
– Думаю, вам лучше справиться у вашего лечащего врача.
Хоббс нахмурился.
– Но будь я на вашем месте, – продолжил Клейн, – я бы поступил так, как считаю нужным.
Глаза Хоббса переполнились эмоциями. Он кивнул:
– Человек, который поступает иначе, гроша ломаного не стоит. – И, схватив со стола бутылочку, швырнул ее под стол в алюминиевую корзину для мусора.
Бутылочка упала с металлическим звяканьем. После этого в кабинете повисла тишина. Клейн снова перевел глаза на зеленую папку. Проследив за направлением его взгляда, Хоббс притянул папку к себе и раскрыл ее:
– Устроенное вами представление произвело на комиссию благоприятное впечатление, – сказал он.
Клейн промолчал. Хоббс пролистал содержимое папки.
– Знаете, это же идиоты – стоит привести в своем ходатайстве строчку из Нового Завета, предпочтительно такую, которая была бы им знакома, и они тают. Имя Иисуса на них всегда хорошо действует. Поэтому-то вы и пролетели в прошлом году. Не ту позицию заняли.
– Сэр? – не понял Клейн.
– Упрямство, – произнес Хоббс.
– Прошу прощения, сэр, я старался быть достаточно гибким, чтобы принять здешние правила.
– Конечно, и, надо признать, весьма в этом преуспели. Но у каждой медали две стороны, не так ли?
– Да, сэр.
Хоббс заглянул в папку:
– Например, вы лечите людей, и, судя по всему, неплохо; во всяком случае, многие предпочитают покупать вашу помощь, чем получать ее бесплатно от доктора Бара, и я не могу никого за это винить. Как, однако, это контрастирует с произведенной Майрону Пинкли лоботомией…
Клейн надеялся, что его лицо осталось каменным.
– Вы понимаете, что я имею в виду, не так ли? – спросил Хоббс.
– Если вы имеете в виду идею двойственности человеческой натуры, то да, сэр, понимаю.
В лицо доктору ударила кровь, и его охватила неудержимая злость на Хоббса за те издевательства, которым Рей подвергался; на самого себя за то, что он еще надеялся, за то, что стоял здесь, за то, что вообще дышал, за то, что был слишком большим умником для того, чтобы перепрыгнуть через стол и оторвать Хоббсу башку к чертовой матери. Ярость вопила: „Да подавитесь вы своей свободой, мне она на хрен не нужна, я ее и так никогда не имел!“ Голос благоразумия протестовал: именно потому и нужна, что до сих пор у тебя не было возможности ею насладиться. Да и теперь, освободят тебя или нет, свободы тебе не видать.
Голос ярости утих так же неожиданно, как и зазвучал, оставив после себя пустоту. Клейн задрожал от ветерка, нагнетаемого потолочным вентилятором. Рубашку можно было выжимать. Хоббс со шлепком захлопнул зеленую папку.
– Вы свободны, Клейн, – сказал он.
Клейн молча уставился на него.
– Комиссия согласилась с моими рекомендациями. Завтра в двенадцать дня вас передадут на попечение вашего инспектора по надзору.
Хоббс встал и протянул Клейну руку. Клейн тоже поднялся на ноги и пожал руку начальника.
– Спасибо, сэр.
– Теперь можно и улыбнуться, Клейн.
– Да, сэр.
Но Клейн не улыбался: ощущение пустоты не исчезало. Доктор знал, что если ей предстоит заполниться, то не весельем и радостью, а мучительной болью утраты, и боялся этого. На том и стой, приказал он себе, пока не окажешься в безопасном месте. Клейн отпустил руку Хоббса.
– Восемьдесят девять процентов освобожденных рано или поздно вновь попадают в эти стены, – добавил Хоббс. – Не окажитесь в их числе.
– Не окажусь.
– Могу ли я что-нибудь для вас сделать? – спросил Хоббс.
Клейн замялся. Все, что ему оставалось сделать – все! – это выйти из этого кабинета и пересидеть где-нибудь в укромном уголке предстоящие Двадцать четыре часа, а после можно хоть на пляж отправляться в Галвестон-Бей. Сама мысль о свободе внезапно вселила в него страх, что вот сейчас, накануне освобождения, он чем-либо рассердит Хоббса. Клейн припомнил слова Клетуса насчет того, что задница доктора останется в распоряжении капитана до тех пор, пока Клейн не выйдет за ворота.
– Не стесняйтесь, говорите, – подбадривал Хоббс.
Клейн взглянул на него:
– При существующем положении вещей Коули не сможет один управляться в лазарете.
– Доктор Девлин неоднократно ставила меня об этом в известность. Ничего, скоро все изменится.
Клейн не смог удержаться:
– Прошу прощения, сэр, но лазарет – наш общий стыд.
Хоббс выпрямил плечи:
– Тюремная больница – это мой позор, доктор Клейн. – Сумасшествие, выглядывающее из зрачков Хоббса, стало заметнее. – И ваши, если не мои собственные жалобы были услышаны. Уверяю вас, что на фоне событий, в преддверии которых мы находимся, обстановка в лазарете может считаться несущественной.






