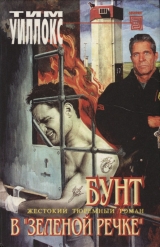
Текст книги "Бунт в "Зеленой Речке""
Автор книги: Тим Уиллокс
Жанр:
Боевики
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 25 страниц)
Потом Эгри пожал руку Гектору Грауэрхольцу, глядя прямо в его похожие на блестящие пуговицы глаза, абсолютно лишенные каких-либо эмоций. Грауэрхольц был худощавым, невысоким, задиристым и даже по меркам Эгри опасно ненормальным. Ему было всего двадцать четыре года и остаток жизни предстояло провести в тюрьме за невероятное количество полностью доказанных убийств: восемнадцать на воле и три в тюрьме. Разрешая некий конфликт с торговцами наркотиками, он забросал зажигательными бомбами фабрику по производству „крэка“ и, находясь снаружи с „узи“ наперевес, расстреливал на месте всякого, кто пытался спастись от огня. Фабрика располагалась на первом этаже жилого дома в районе „Дип Элем“, и среди погибших оказались семеро спящих детей и три женщины. Несмотря на то что все жертвы имели темный цвет кожи, присяжных настолько поразила вопиющая неспособность подсудимого испытывать что-либо, хоть отдаленно напоминающее муки совести, что они единодушно закатали ему две тысячи двадцать пять лет. Такой срок являлся предметом гордости Грауэрхольца.
У Грауэрхольца было открытое, младенчески невинное лицо; волосы он стриг очень коротко и, по мнению Эгри, выглядел как молодой монах, готовящийся принять постриг. В „Речке“ Гектор сплотил разное хулиганье, „Ангелов Ада“, наркоманов, панков и прочих подонков из зэков помоложе в небольшую, но серьезную группу, специализирующуюся на наркоте и мордобое. За ангельским личиком Грауэрхольца скрывалась неукротимая жажда разрушения, которая – если Грауэрхольцу не предоставляли отдушины – могла спровоцировать беспощадное кровопролитие. Эгри предоставлял Гектору такую отдушину, равно как и уважение и власть, дабы Грауэрхольц смирился с потерей свободы. Грауэрхольц был ребенком, способным уничтожить весь мир лишь для того, чтобы посмотреть на искорки, которые при этом полетят. Но помощь он мог оказать существенную. Эгри задержал его руку на секунду дольше.
– Я слыхал, Нев, что мы вроде как собираемся спеть что-то типа „Уанг-Данг Дудль“, – сказал Грауэрхольц.
– На всю ночь, – ответил Эгри.
Лицо Грауэрхольца расплылось в приятнейшей улыбке.
– Будем развлекаться так долго, насколько у твоих ребят силенок хватит, – добавил Эгри.
– Шутишь, кореш?
Эгри ухмыльнулся. Грауэрхольц втянул щеки, пискнул сквозь губы и шагнул назад.
Но ни Грауэрхольц, ни Терри не были главной заботой Эгри. Его беспокоил Ларри Дюбуа. Эгри пожал мягкую, влажную руку Ларри.
– Ларри, – произнес он.
– Ты уверен, что выбрал подходящее время для заварухи, Нев? – спросил тот.
Эгри попытался поймать взгляд Дюбуа, но так и не смог. Ларри был весьма тучен – весом этак килограммов сто пятьдесят – и имел привычку смотреть куда-то поверх головы собеседника, опуская глаза только в самый последний момент.
– Уилсон в больнице, – сказал Эгри, – а черномазые в блоке „В“ стоят раком, варясь в собственном поту уже две недели. Никогда не будет более удобной ситуации. – Он помолчал. – А что?
Дюбуа приподнял и опустил брови.
– Я просто хочу убедиться, что это… – он наконец опустил глаза, встретившись с Эгри взглядом, – не личное дело.
Эгри почувствовал, как внутри словно заструилась ледяная вода. Сальный, похотливый и хитрый Дюбуа в своей камере в блоке „А“ держал двух жен – пуэрториканцев. Поговаривали – но только шепотом и только когда Ларри не было рядом, – что тот время от времени развлекался, давая Синди, той из своих жен, что посветлее, трахать себя в задницу, пока другая, по имени Паула, втирала в его гениталии тухлый куриный жир. Это уже считалось опасным приближением к педерастии, считавшейся по нормам тюремной морали недопустимым извращением, но у Ларри хватало власти, чтобы стоять над законом. В прежние времена – до появления в „Зеленой Речке“ Эгри – Дюбуа слыл здесь самым грозным убийцей. А до того он сделал карьеру от сявки до босса, контролирующего порнобизнес и перевоз наркотиков между Хуаресом и Эль-Пасо. Их с Эгри борьба за власть осталась далеко позади, сменившись взаимовыгодным мирным сосуществованием. Но Неву то и дело в голову приходила мысль, не проверить ли брюхо Дюбуа на прочность. А сейчас оскорбительный смысл его, Дюбуа, намека на „личные обстоятельства“ не оставлял сомнений. В груди Эгри запылал зловещий огонь, и он с трудом сдерживался, чтобы не выпотрошить жирного козла на месте. Ничего, как-нибудь в ближайшее время он аккуратно вырежет Синди ее петушок и подаст Дюбуа на тарелочке, обложив куриными крылышками… Эгри с усилием подавил ярость и дружелюбно спросил:
– Полагаешь, чтобы вернуть Клодину, мне нужна посторонняя помощь?
Дюбуа отвел глаза:
– Я просто думаю о людях, Нев: кое-что их касается, а кое-что – нет.
Эгри почувствовал, как злоба раздирает его изнутри; ее подхлестывало и действие героина. Жирный ублюдок в присутствии Грауэрхольца и Терри посмел утверждать, что он, Нев Эгри, не в состоянии удержать свою собственную паршивую жену! Краем глаза Эгри заметил, что Грауэрхольц следит за их с Дюбуа пикировкой с блестящими глазками, и, насилуя вопящие о кровавой мести клетки своего мозга, попробовал еще раз.
– Мы с этим сталкивались и раньше, Ларри, – сказал он. – Нигеры слишком много о себе возомнили. А сколько их сейчас? Сорок процентов? Пятьдесят? Да если они не испытают силу нашего стального кулака прямо сейчас… – Эгри выдержал драматическую паузу, – …через пять лет мы будем драить им сортиры и мыть полы вместе с латиносами.
– Мне почаще приходилось иметь с ними дело, – ответил Дюбуа. – Черные – это хороший рынок сбыта. Анаша, героин, кокаин, „крэк“… Надо просто понять их психологию. У них не хватит мозгов, чтобы самим заправлять делами. Взгляни на округ Колумбия, Атланту или там Детройт: эти недоделки не в состоянии управлять даже своими городами. В этой тюряге поначалу было всего десять белых, и знаешь, кто здесь всем заправлял? – Дюбуа ткнул себя пальцем в грудь и покачал головой. – Отнюдь не черномазые, кореш. И ты об этом знаешь.
– Мы долго готовились, – настаивал Эгри. – Можем начать сейчас…
– Извини, Невилль.
Глаза Эгри внезапно застлало красной пеленой: лишь Клодине, да и то только в самые интимные минуты, позволялось называть его полным именем. К тому же Дюбуа произнес его имя так, что оно рифмовалось, например, с именем „Люсиль“, то есть позволил себе гнусный намек на то, что он, Нев Эгри, гомосек… Остальные слова Дюбуа доносились до Эгри будто издалека.
– …Не вижу причин поддерживать тебя в этом деле, – продолжал толстяк. – Это не в моих интересах.
Значит, открытая война. Несомненно, она планировалась уже давно. Жирный прыщ решил высмеять Эгри, рассчитывая, что тот без него не обойдется. На лице Эгри появилось такое выражение, что Грауэрхольц на шаг отошел назад, а Деннис Терри – на два. Дюбуа остался на месте, но левый глаз его нервно задергался. Эгри наклонился к нему.
– Знаешь, что мешает тебе жить, Ларри? – зловеще спросил Эгри и, помолчав, сам же ответил: – У тебя на брюхе болтается слишком много вонючего сала.
– Полегче, Нев, – внезапно побледнел Дюбуа и перенес вес тела на пятки.
Эгри взглянул на Грауэрхольца:
– Что скажешь, Гек?
Лицо подонка сияло ярче обычного. Переведя взгляд с Дюбуа на Эгри, он ответил:
– Скажу, что нигеров пора поставить на место.
– Так тому и быть, – сказал Эгри и ткнул растопыренными пальцами левой руки в глаза Дюбуа.
Ларри отреагировал неплохо, хотя он уже не был таким шустрым, как в борделях Хуареса. Ногти Эгри скользнули по его векам: Нев собирался вырвать противнику глаза, но толстяк грациозно отскочил назад, оттолкнув нападавшего левой рукой и одновременно запустив правую себе под рубашку. У Эгри в руке блеснуло лезвие опасной бритвы. Дюбуа, смахнув слезы с глаз, отступил дальше, выдергивая из-за пояса короткоствольный револьвер.
– Ну, жирный педрила!..
Резко взмахнув бритвой, Эгри распахал живот Дюбуа от левого бедра до правого.
Над поясом Ларри бесстыдно раскрылись, выворачиваясь наружу и набухая кровью, две огромные губки желтого жира. Спрятанные глубоко под салом мышцы брюшного пресса не пострадали. Дюбуа взревел и качнулся в сторону, пытаясь найти цель стволом револьвера и зажимая левой рукой зияющую рану на животе.
Эгри подскочил к толстяку слева и сбил его с ног подсечкой.
С громким паническим блеянием Дюбуа грохнулся лицом вниз, прижав своей тушей левую руку. В ту же секунду Эгри прижал его правую руку к полу и, уткнув колено в сальный затылок поверженного врага, перенес на него всю тяжесть своего тела. Затем чиркнул бритвой по сгибу правого локтя Дюбуа, перерезав сухожилия и артерию. Дюбуа взвыл и забарахтался, пытаясь оторвать голову от пола. Эгри навалился еще сильнее и засунул лезвие бритвы прямо под лоснящиеся брыла Ларри. При каждом новом крике изо рта и ноздрей толстяка стали вылетать брызги крови; он забился еще отчаяннее. Голова заскользила по окровавленному полу. Эгри погрузил бритву еще глубже, почти по самую рукоятку, отыскивая в истерзанной шее сонную артерию. Когда голова Дюбуа выскользнула наконец из-под колена Эгри и Ларри попытался встать, Нев нашарил лезвием то, что искал, и поднялся на ноги.
– Класс! – захлебнулся восторгом Грауэрхольц.
Денниса Терри вырвало прямо в тележку с бельем.
Эгри сгреб кипу полотенец и вывалил их на кровавый фонтан, бьющий из тела Дюбуа. Жирный козел давно на это напрашивался… Эгри ощущал потрясающее спокойствие: все внутреннее напряжение рассосалось. Он вытер руку и бритву об одно из полотенец. Рубашка Нева насквозь промокла от крови. Расстегивая ее на ходу, он шагнул было к полкам, чтобы подобрать себе чистую, но остановился на полпути, поднял револьвер Дюбуа – „Смит и Вессон Спешл“ тридцать восьмого калибра – и задумчиво подбросил его на ладони. Вертухаи не должны прознать о смерти Дюбуа по меньшей мере до следующего развода и переклички. Водостойкие часы на запястье Эгри показывали два. Нев обернулся.
– Гек, – позвал он.
Грауэрхольц, напевая себе под нос, глядел на заваленный окровавленными полотенцами труп Дюбуа, словно на произведение искусства. Подняв глаза на Эгри, он увидел в протянутой руке револьвер.
– Давай-ка споем боевую песню, корешок.
Грауэрхольц вцепился в оружие, восторженно глядя на вороненый металл. Даже Санта-Клаус не приносил ему ничего более желанного. Прижав револьвер к груди, он уставился на Эгри с таким обожанием, что Нев понял: угодил. Если в эту минуту он приказал бы Грауэрхольцу отстрелить себе яйцо, тот спросил бы только какое: левое или правое?
– Что делать теперь, мистер Эгри? – спросил Гектор.
Эгри глубоко вздохнул: власть кружила голову. Пришло время посчитаться за все. Он взглянул на Терри: тот стоял с посеревшим лицом; в глазах Денниса застыл ужас.
Эгри отвернулся к Грауэрхольцу:
– До третьей переклички нам предстоит сделать уйму дел. Пока Джонсон и его прихлебалы чавкают в блоке „В“, твои ребята должны отсечь столовую от строймастерских. Надо как-то отвлечь внимание нигеров.
Глаза Грауэрхольца вылезали из орбит от воодушевления.
– Верно, – сказал он. – Отвлечем, будет сделано.
– В мехмастерской и гараже у нас припрятан бензин, но о нем позаботятся уже мои люди. – Эгри повернулся к Терри: – Деннис, ты с Тони Шокнером займешься главным контрольным центром: я хочу отрезать его от главных ворот. Поможешь Тони, я знаю, у тебя получится.
Терри побледнел еще сильнее. Он попытался было что-то сказать, но не смог и, сглотнув слюну, попробовал еще раз:
– Так вы хотите… Я имею в виду…
– Точно так, Деннис, – сказал Эгри. – Это война. „Удар грома“, „Буря в пустыне“, „Блицкриг“. Называй как хочешь: нигерам предстоит получить свое, а заодно и всем тем, кто встанет у нас на пути.
Терри не смог выдержать взгляда Эгри дольше секунды.
Эгри кивнул на толстый труп Дюбуа и взглянул на Грауэрхольца:
– Пускай твои ребята здесь приберутся.
– О чем речь, мистер Эгри.
Грауэрхольц вприпрыжку направился было к выходу, но Эгри окликнул его.
– А потом найди Теда Сприггса, – приказал он, – и скажи, что нигеры только что пришили Ларри Дюбуа…
Эгри скривил губы в благородном возмущении. Поднял сжатый кулак:
– …И мы намерены заставить гадов заплатить за это!
Глава 7
Двойные, подбитые металлом двери захлопнулись, и Джульетта Девлин шагнула на ничейную землю между свободой и наказанием. Малую толику этой ничейной земли она, как всегда, прихватит в тюремный хаос. А сейчас еще несколько секунд она оставалась одна.
Яркий свет флуоресцентных ламп под сводом тоннеля резал глаза. Прямо перед Девлин находилась глухая стальная дверь, достаточно большая, чтобы пропустить внутрь пожарную машину, и достаточно массивная, чтобы выдержать прямое попадание из гранатомета. Девлин знала, что по ту сторону двери сейчас кто-то следит за ее изображением на экране телевизионного монитора. Наблюдатель, несомненно, мужчина, а когда она пройдет внутрь, на нее будет направлено еще множество мужских глаз. Никогда прежде ей не приходилось так остро чувствовать свой пол, свою чужеродность – чужеродность женщины в абсолютно мужском мире. Более того, в этом мире обретались мужчины, принесшие – и теперь сами испытывающие – неизмеримые страдания. По крайней мере, одна из разновидностей этих страданий и привела ее сюда, поскольку Девлин поставила перед собой задачу измерить малую толику тех мучений, меры которым не было, и таким образом постичь сердца и души людей.
Дожидаясь здесь открытия дверей, Девлин испытывала труднообъяснимое чувство сродни тревоге и возбуждению. Это чувство каким-то образом связано с нарушением правил, с выполнением действий, которые она не собиралась делать, в месте, где она не собиралась находиться. Возбуждение это своими истоками уходило в запретное и происходило, таким образом, из чувства вины и страха. Сама тюрьма была монументом вины и страха и обуславливала эти чувства подобно тому, как готический собор благоговение. Но для Девлин этим все не ограничивалось: во-первых, исправительные учреждения всегда вызывали в ее памяти призрак ее отца, Майкла Девлина; во-вторых, там, в тюрьме, находился Рей Клейн.
Отец Девлин, отдалившись сейчас от дел и постоянно проживая на маленьком ранчо неподалеку от Санта-Фе, в свое время был управляющим федеральной тюрьмы в Нью-Мексико, и его дочь, образно говоря, выросла под сенью заведения, подобного тому, где сейчас находилась. Девлин-старший был убежденным демократом, категорическим сторонником отмены смертной казни и человеком, предельно уставшим от неспособности Великого Общества удержать себя от сползания в антагонизм и хаос. Ко времени его отставки Пенитенциарное Бюро официально отказалось от проведения политики реабилитации и исправления, и количество рецидивистов подскочило до девяносто двух процентов. Вину за эту неудачу Майкл Девлин возлагал и на себя. Отцом он считался либеральным, хотя на самом деле был эгоистичным и требовательным; он не удостоил своих детей похвалы ни за одно из их достижений. Во всяком случае, если он и гордился Джульеттой, то успешно это скрывал. Вдобавок ко всему он как ирландский католик питал страстную любовь к Джеймисоновскому виски. Но, выпив, он не буянил и никогда не поднимал на домочадцев руку, поэтому для Джульетты не имело большого значения, что он порой бывал и свинтусом и лицемером. Она все равно любила его.
Временами она спрашивала себя, не связано ли ее появление в „Зеленой Речке“ с желанием что-то доказать отцу, но оказалось, что это не так. Эдак можно всю жизнь продоказывать, а отец все равно останется в полной уверенности, что она ненормальная. Правда, возможно, налицо попытка наказать отца. Майкл Девлин никогда не рассказывал дочери о тюрьме, и постепенно в ее представлении она приобрела загадочность и очарование заколдованного сказочного леса. Здесь тоже можно докопаться до истины, преодолевая при этом страшные опасности. Отец предполагал, что дочура станет изучать предменструальные неврозы, или депрессии матерей-одиночек, или еще какую-нибудь ерунду, подобно многим из ее друзей-психологов, искренне недоумевавших, чего ради ей тратить время среди насильников и убийц. Ее занятия были своего рода большим кукишем всему свету. Да кто они такие, чтобы в ней разочаровываться? Ладно, как бы то ни было, сейчас Девлин здесь и под едким светом флуоресцентных ламп ждет позволения войти в темный лес под названием „Зеленая Речка“.
Девлин – она предпочитала такое обращение, а не по имени – изучала медицину и психологию в Тьюлейне. Коэффициент ее интеллекта был достаточно высок, чтобы ПРИНЯТЬ ДОСТАТОЧНО ТАБЛЕТОК, ЧТОБЫ ЗАПОЛНИТЬ СУПЕРДОМ и затрахать насмерть пеструю коллекцию плейбоев и сорвиголов из Крещент-Сити, не завалив при этом ни одного экзамена. В Нью-Орлеане же обнаружилась азартность ее натуры и склонность к этому. Ординатура в психиатрической клинике слегка охладила ее, но разумная карьера – если под этим понимать что-то спокойное и денежное типа психотерапии – ее особо не прельщала. Здорово раздражало ее и то, что парням, точно как в кино, достаются самые интересные роли, вроде перегона автоцистерны нитроглицерина через горный перевал, охраняемый врагами, в то время как девушкам остается только ныть на обочине. И когда тюремная психиатрия заявила о себе как самая крутая область психологии, Девлин поспешила забить себе местечко. Интеллектуальный уровень коллег, по ее мнению, был прискорбно низок, а ее исследования в „Зеленой Речке“ прецедентов не имели и удостоились похвалы нескольких весьма известных специалистов в этой области. Девлин чувствовала, что попала в точку.
За стенами тоннеля послышался скрежет шестеренок и завывание привода, и Девлин вернулась к действительности. Стальная дверь в пазу дернулась перед ее носом и откатилась в сторону.
К радости Девлин, с той стороны ее поджидал сержант Виктор Галиндес. Как и в любом другом учреждении, охранники „Зеленой Речки“ относились к привилегированным чужакам, вроде Девлин, с недоверием и подозрением, но Галиндес был более приветлив, чем остальные. Поздоровавшись, он проводил девушку в приемное отделение, где она оставила свои ключи и книжку в бумажной обложке, расписалась в книге посетителей, ознакомившись с правилами поведения в тюрьме. Галиндес быстро осмотрел содержимое ее чемоданчика и вывел через вторые кованые ворота во внутренний двор.
Сегодня Девлин надела белую хлопчатобумажную блузку, застегнув ее до горла, потертые черные „Левис“ и ковбойские сапоги. Под джинсами, по давней привычке, на ней были „джи-стринг“ – узенькие трусики, ничего не прикрывавшие сзади, под блузкой плотно обтягивающий бюстгальтер, в котором она занималась гимнастикой: в нем грудь не раскачивалась в такт движениям и соски не натягивали ткань блузки. Девлин не боялась спровоцировать нападение, но хотела избавить заключенных от мучительного желания недостижимого. Возможно, несмотря на терзания, они бы предпочли увидеть побольше, но определенно она сказать не могла, а желание не выглядеть суетной помешало спросить об этом у Клейна. Она даже не знала, хочет ли увидеть побольше сам Клейн. Он с самого начала держал некоторую дистанцию, и Девлин никак не удавалось навести мосты. Она никогда не считала себя особо привлекательной: да, выглядела неплохо, но, в общем, ничего особенного. Высокого роста – сто семьдесят три сантиметра – и довольно стройная, но руки и ноги у нее были великоваты, а лицо – слишком мальчишеским для девушки. Густые черные волосы сейчас она коротко подстригала с боков и сзади. Девлин иногда машинально желала, чтобы ее груди стали побольше, а попа – поменьше, но теперь как серьезное официальное лицо она оставила подобные заботы. В общем и целом ей это удалось, хотя она по-прежнему носила под джинсами „джи-стринг“ и время от времени задумывалась, что почувствовал бы Рей Клейн, положив ей руку на попочку. До сих пор ничего подобного не происходило, и Девлин в голову не приходило развлекаться в рабочей обстановке, но в более подходящее время и в другом месте она бы только обрадовалась подобной инициативе со стороны доктора.
Честно говоря, она уже исповедалась Катрин, своей подруге, что не прочь сделать Клейну минет и потрахаться на палубе катера для ловли креветок, стоя к Рею задом и лаская рукой его яйца. Реакция Катрин заставила Девлин задуматься о том, трахалась ли та когда-нибудь так, как ей хотелось, или она так же сексуально неудовлетворена, как и большинство ее одногодок. Катрин, которая черпала свое мнение большей частью из дамских журнальчиков второй свежести, заявила, что подобные фантазии унижают ее, и на самом деле ей нужен чуткий мужчина, раскрывающий таящуюся внутри него женственность. Под таковым понимался индивидуум, способный, лежа с тобой в постели и испытывая эрекцию, понимающе и нежно улыбнуться и заняться йогой или еще чем-нибудь в случае отсутствия у тебя настроения для секса. Девлин претила подобная чушь. В ней не наблюдалось ничего мужского – ни внутри, ни снаружи. А если порой и просыпалась амбициозность и решимость, источник находился где угодно, но только не в неком таящемся в ней мужчине. То же самое относительно ее уязвимости и желания опереться на чье-нибудь плечо. Это было ее личное, и она не видела причин, почему для парней что-то должно быть по-другому. Ей нравилось быть рядом с кем-то, кто вел себя как мужчина, выражал себя как мужчина и даже в минуты уязвимости и нежности уязвим и нежен, как мужчина. И у него должны существовать мужские причуды и фантазии типа желания трахать ее в лодке для ловли креветок, в то время как она будет ласкать его яйца. Для нее это звучало неплохо: слишком много парней в наше время читает те же журналы, что и Катрин. Не хочется думать об этом, но большинство приличных ребят ее, Девлин, возраста, предпочитали мастурбацию унылой перспективе обсуждения их сексуальных отношений с женщинами. Впрочем, возможно, Девлин просто вращалась не в тех кругах. Хотя как минимум один круг, хотя и круг ада, был тем, что надо: больница тюрьмы „Зеленая Речка“, где Девлин познакомилась с Клейном.
В некотором смысле Девлин прекрасно узнала Клейна, наблюдая за его работой; в некотором же не имела о нем ни малейшего представления. О его прошлом известно только то, что он родом из Нью-Джерси, а учился в Нью-Йорке. Перед отсидкой он работал хирургом-ортопедом в городской больнице Галвестона. Немного странно – составлять мнение о человеке на основании только своих впечатлений, не опираясь на цепочку известных фактов его жизни. Где-то даже страшновато. Девлин и представления не имела, за что именно Клейн попал в „Зеленую Речку“. Она как-то спросила об этом у Коули, но негр только мрачно ответил, что такие вопросы здесь задавать не принято. Захочет – скажет сам, а любопытных здесь не любят. Девлин почти не сомневалась, что, спроси она самого Клейна, тот сказал бы ей правду, но ей не хотелось выглядеть в его глазах любопытной дурой, относящейся к неписаным законам этого темного мира без должного уважения. Конечно, она могла узнать все от Хоббса или любого охранника, но это смахивало на предательство.
Галиндес вывел ее из ворот приемного отделения. За двором и его проволочными изгородями виднелся главный тюремный комплекс: шесть огромных блоков, под углом расходящихся в стороны от крытой центральной башни. Раскинутые щупальца блоков производили гнетущее впечатление, и на мгновение Девлин представила, что они вытягиваются, охватывая весь земной шар до тех пор, пока снова не сходятся на другой стороне планеты в подобный этому узел, а заключенные всего мира слоняются по бесконечным коридорам, не имея представления о том, где находятся. Впрочем, как знать, может быть, все люди, включая и ее самое, бродят вот так по коридорам бесконечного мира… Галиндес свернул влево и зашагал по бетонной дорожке под отвесной наружной стеной.
Каждая сторона гигантского шестиугольника, усаженного по верхней кромке кольцами колючей проволоки, достигала метров четырехсот пятидесяти длиной. Девлин нутром ощущала на себе перекрестие взглядов охранников сторожевых вышек. Две секции периметра у главных ворот представляли собой голые стены безо всяких пристроек. К четырем другим секциям прилепились мастерские, комнаты посещений и карцер для штрафников и особого контингента преступников. С западной стороны ближе всего к воротам стоял лазарет. „Качалки“, как всегда в это время суток, были пусты. Из столярной мастерской доносился пронзительный визг циркулярной пилы. В тени тюремной стены было прохладно, но, подняв голову, Девлин видела, как солнце превращает стеклянную кровлю тюрьмы в плиты сияющего золота, спаянные друг с другом черными стальными фермами. Под стеклом не было так прохладно; Девлин поймала на себе взгляд Галиндеса и мотнула головой вверх.
– Зачем здесь так много стекла? – спросила она.
Худые щеки Галиндеса были испещрены шрамиками от перенесенной в детстве оспы. Охранник носил пышные усы. Лицо, обычно спокойное и хмурое, почти печальное, озарила улыбка:
– Начальник тюрьмы говорит, чтобы Бог мог беспрепятственно взирать с небес на заключенных. Хотя, по-моему, они ему до лампочки.
Охранник надолго замолчал, и Девлин обрадовалась, когда они наконец дошли до лазарета. У входа Девлин повернулась к Галиндесу, чтобы поблагодарить.
– Женщине здесь работать не очень-то пристало, – заметил Галиндес.
Девлин не ответила: оспаривать каждое замечание на эту тему – для работы времени не останется. Это, видимо, читалось на ее лице, поскольку Галиндес добавил:
– Да и мужчине, признаться, тоже.
– Почему же вы здесь? – поинтересовалась Девлин.
Галиндес улыбнулся, и Девлин устыдилась своей наивности.
– Платят здесь хорошо. А для эмигранта из Латинской Америки – так даже очень хорошо.
– А откуда вы родом?
– Из Сальвадора.
– У вас там родственники?
– Разве что на кладбище, – ответил охранник. – Там я тоже находился в тюрьме, – правда, в другом качестве.
Девлин вспыхнула до корней волос, ощутив неловкость. Там у Галиндеса что было, то было. Впрочем, раз он так лихо справляется с ее вопросами, она не менее лихо распорядится его ответами.
– За что?
Охранник пожал плечами:
– За то, что ходил не в ту церковь, читал не те газеты, заводил не тех друзей – обычный набор.
Девлин с радостью бы отвела взгляд, но не могла. А Галиндес продолжал:
– Поначалу мне в вашей стране пришлось тяжело. Я, конечно, не против и здесь работать школьным учителем, но оказалось, что это невозможно. Я начал работать здесь, и моей жене теперь не приходится мыть людям полы – и то слава Богу.
Девлин кивнула. Она не знала, как ответить, чувствуя, что любые слова прозвучат неуместно и фальшиво.
Галиндес прикоснулся к козырьку фуражки:
– Когда понадобится проводить вас обратно, позвоните в приемное отделение и вызовите меня.
– Спасибо.
Какое-то время Девлин смотрела, как охранник идет по двору, затем развернулась и вошла в лазарет. Несмотря на многие годы работы в разных больницах, смешанный запах дезинфекции и зловония отравленных болезнью человеческих выделений на секунду вызвал приступ тошноты. Но, миновав Сяня и войдя в кабинет врача, она уже не воспринимала запах так остро. Девлин пристроила свой чемоданчик на захламленный стол. Лягушатника-Коули поблизости не видно, да она об этом и не жалела, поскольку питала к нему смешанные чувства, как, очевидно, и он к ней. Язык у негра без костей, к тому же ниспосланные судьбой испытания наделили его уверенностью в себе и духовной силой. Она, Девлин, подобной силой никогда не обладала. По сравнению с Коули ее судьба досталась ей задешево, и поэтому для нее не секрет, почему люди вроде Коули испытывали к ней не самые добрые чувства. К тому же негр, по-видимому, ощущал некую угрозу для себя: ведь у них с Клейном – за плечами сходный профессиональный опыт, хотя, с другой стороны, у Девлин есть повод завидовать близости Коули и Клейна. Эти двое были друг для друга наставниками. Во всяком случае, Девлин чувствовала, что Коули никогда не принимал ее всерьез. Возможно, сегодня она исправит это положение: в сумочке лежали первые плоды их работы в лазарете – свежий номер „Америкен Джорнел оф Психиатри“ с напечатанной там статьей на основе их совместных исследований.
Такого рода исследование возникло из необходимости ответа на вопрос, которым Девлин задавалась много лет: является ли трагедия смерти, а таким образом, и жизни неотъемлемым правом всех без исключения мужчин и женщин? Или это просто предмет потребления, отпускаемый согласно некоему табелю о рангах на основе совокупности социальных критериев? На первый взгляд в широком смысле верна последняя точка зрения. Если, допустим, завтра Девлин погибнет в автомобильной катастрофе, трагедия станет всеобщим достоянием: молодой талантливый психиатр, погибший в самом расцвете… и т. д. и т. п. А вот если Коули поскользнется на лестнице лазарета и свернет себе шею, мир мало что заметит, а уж расстроится и того меньше. По мнению Девлин, эта система оценки намертво запечатлена во всех реалиях нашей жизни: в законе, в здравоохранении, в кровавой каше войны, да что там говорить – даже в наклейках на автомобильные бамперы, призывающих спасти китов. Почему именно китов, а не каракатиц или не гиен? Подобная избирательная система ценностей вкупе со многим другим заставляла ее порой представлять себя карабкающейся вверх по бесконечной лестнице вплоть до самой смерти или, во всяком случае, до тех пор, пока возраст, болячки, седые волосы и отвисшие груди не заставят гнилые ступеньки крошиться под ее ногами.
Эту теорию поддерживало абсолютное равнодушие вселенной, где вращался этот засиженный мухами мир. Девлин наизусть помнила отрывок из „Критики правосудия“ Канта:
„Обман, зависть и насилие вокруг него были делом привычным, хотя сам он был честным, миролюбивым и добрым; да и другие люди, которых он встречал на своем пути, вне зависимости оттого, насколько они того заслуживали, были самой природой так же подвержены несчастьям, тщете, болезням и безвременной смерти, как и любые другие животные на Земле. И так будет продолжаться до тех пор, пока одна разверстая могила не поглотит всех – чистых и нечистых, поскольку могиле до этого дела нет, – и не зашвырнет обратно, в бездну бесцельного хаоса, из которой эти люди были выхвачены; тех самых людей, которые были способны поверить, что именно они на самом деле венец творения…“
„Это про нас, это мы верим, что мы – венец творения“, – подумала Девлин и мысленно вернулась к предмету своего исследования: индивидууму, запертому в камере своей личности. Вложена ли в нас одинаковая система ценностей и судим ли мы себя с той же беспристрастностью, что и других? Девлин пыталась найти ответ.







