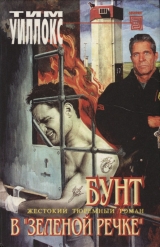
Текст книги "Бунт в "Зеленой Речке""
Автор книги: Тим Уиллокс
Жанр:
Боевики
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 25 страниц)
Глава 19
Мысли неуклюже кувыркались в гравитационном поле сознания Хоббса, как кирпичи, падая со стены. Прежде чем он успевал от них увернуться, они неожиданно наваливались на него и так же неожиданно отступали.
Сердце начальника ныло от жалости, такой глубокой и всеобъемлющей, что она граничила с любовью. В конце концов заключенные, так безжалостно запертые в кипятильне из стекла и гранита, были его подопечными, и он должен был заботиться об их быте и воспитании. К тому же некоторыми из них придется пожертвовать, чтобы проломить стену ханжества и преступной халатности, вставшую на пути реформации старой и неэффективной системы перевоспитания. Сознание этого тоже причиняло Хоббсу немалую боль.
Хоббс посвятил этим самым никчемным людям всю свою жизнь – всю жизнь! Он перелопатил гору книг по пенологии, психопатологии, социологии; он стал специалистом в области образования, психологии и философии; он бросил на решение одной задачи все силы своего интеллекта, по меньшей мере, весьма значительные. Хоббс неустанно зондировал свое сердце и душу, чтобы поддерживать в себе надежду на лучшие времена. Порой депрессия наваливалась на него с такой силой, что он падал на колени и молил Бога, в которого не верил, о милосердной смерти. Нет, он никогда не стремился как можно выше подняться по служебной лестнице и занять пост, более соответствующий его выдающимся способностям. Наоборот, ради должности начальника „Зеленой Речки“ и превращения ее в выдающееся учреждение Хоббс добровольно оставил пост начальника современно оборудованной федеральной тюрьмы штата Иллинойс.
И вот сейчас действительность оказалась настолько далека от реформ и социальной перестройки, предвидение которых вдохновляло Хоббса все эти годы, что он не мог вот так, с ходу, припомнить ни одной новаторской идеи из тех, что пылали в его воображении четверть века назад. Он смутно припоминал что-то о людях, возвращающихся в лоно общества после очистительного огня наказания, и какие-то юношеские фантазии насчет восстановления гражданского достоинства в заблудших душах. Разве стал бы он вкладывать в это авантюрное мероприятие энергию всей своей жизни, если бы знал, что в конце все обернется чем-то вроде почетной сдачи крепости преступнику? Хоббс сник от горечи. А ведь он мог стать кем угодно: врачом, как Клейн, судьей, академиком… Как бы это звучало: доктор Кемпбелл Хоббс! Или профессор Кемпбелл Хоббс. А вместо этого он ввязался в бюрократические игры, более запутанные и зловонные, чем канализационная система „Зеленой Речки“.
Хоббс стоял у северного окна кабинета на фоне алого зарева, полыхавшего на западном горизонте, и его плечи подрагивали от сдерживаемой ярости и горечи. Он был сыном солнца, но солнце не угаснет еще миллиарды лет, а жизнь Хоббса промелькнет, как искорка от костра. Это несправедливо. Его обманывали на каждом шагу. Никто на самом деле не то что не заботился о справедливости, но даже не знал правильного смысла этого слова. Все эти приговоры и досрочные освобождения были не более чем соломинкой на ветру, испускаемому задницами политиканов. Бюджет Хоббса постоянно урезали; его программы отказывались финансировать; камеры его тюрьмы набивали до предела. Тюремная охрана, поставщики и договорники, инспектора по надзору – все прогнили до предела, а на высшем уровне на это закрывали глаза – лишь бы колесики вертелись. Лишь бы заключенные вели себя тихо и послушно. А если при этом контингент постоянно оглушал себя контрабандными наркотиками, оплачивая их из своего собственного кармана, так это даже лучше. Так же равнодушно высшее начальство реагировало и на вспышку СПИДа. Государственный инспектор по тюрьмам все эти годы считал Хоббса слабаком с восточного побережья, слишком мягко относившимся к уголовникам и гомосекам. Если полтюрьмы вымрет от СПИДа, никто не заплачет. На предположение Хоббса о том, что заключенные представляют собой разносчиков заразы для гражданского населения штата, ответили, что распространяется болезнь в первую очередь среди нигеров, мексикашек и прочей сволочи, предел мечтаний которой – пособие по безработице. Приличному человеку нет дела до этого отребья и их семей. И раз уж на то пошло, белый человек, трахающийся с Нигером, особенно без презерватива, тоже заслуживает позорной смерти. И уж тем более заслуживает ее спящая с Нигером белая женщина или педик.
В глазах Хоббса все эти начальники давно утратили моральный авторитет, необходимый для того, чтобы стоять на страже справедливости. А в последнее время с идеей немедленной и радикальной революции Хоббс пришел к мысли о том, что и сам он является рабом своего жалкого тщеславия. Уверенность в том, что он сможет добиться чего-либо сам, происходила от повышенного самомнения и желания сорвать аплодисменты тех, кого он так искренне презирал. Хватит привносить в великое дело что-то личное. Необходимо прекратить это летаргическое самоубийство этих последних лет. Пора осветить свою судьбу и судьбы всех его людей торжествующим светом невосполнимой утраты.
Хоббс взглянул на столб черного дыма, все еще висевший во влажном воздухе над задними воротами блока „B“. Когда он увидел, насколько далеко решился зайти Эгри, его охватил такой ужас, что ему пришлось мобилизовать всю свою волю. Это ему удалось: он отменил вызов пожарных, запретил какие бы то ни было попытки спасти заключенных, отозвал всех охранников и запретил все контакты с тюрьмой. Если история чему-нибудь и учит, так только тому, что серьезные изменения достигаются лишь путем страшного кровопролития и значительных жертв: и чем эти жертвы бессмысленнее, тем лучше. Из истории человечества Хоббс постиг, что развитие цивилизации возможно лишь за счет вселенских катаклизмов. А все потуги в поисках истоков и причин гроша ломаного не стоили и ничем не отличались от попытки обезьяны вырыть неуклюжими лапами жемчужное зерно из навозной кучи. Имели смысл только социальные спазмы, вновь и вновь подтверждавшие тщетность деятельности всех гуманистов и их жалких институций. Сила восстанавливается травмами. Virescit vulnere virtus. И может быть, здесь, на этом заболоченном клочке техасской земли, будет дан новый старт человеческим отношениям; здесь, где Хоббс освободит наконец из плена примитивную страсть уничтожать, восстановив древнюю как мир реальность. Джон Кемпбелл Хоббс отбросил забытые причины, мотивы или истоки и шагнул прямо в историю.
В дверь постучали. Хоббс повернулся.
– Войдите, – пригласил он.
Дверь открылась, и через порог, затянув свои дебелые телеса в черный костюм десантника, переступил капитан Билл Клетус, увешанный рацией, баллоном „мейс“, дубинкой, наручниками, автоматическим „браунингом“ и прочим. Капитан отдал честь.
– Сэр! – приветствовал он Хоббса.
Тот кивнул и, направляясь к своему покрытому стеклом столу, указал на кресло:
– Присаживайтесь, капитан.
Сам Хоббс опустился на свой стул. Электричество в комнате не горело, и она освещалась только неясным отсветом заходящего солнца, заглядывавшего в окно южной стороны прямо за спиной Хоббса.
Клетус, крепко сбитый мужчина лет сорока с небольшим, свыше двадцати из них провел, общаясь с отъявленными подонками. Лицо капитана обгорело на солнце и было отшлифовано многолетним равнодушием к чужим бедствиям. Неудивительно – отказать ли заключенному в посещении умирающего родственника, или тащить упиравшегося в штрафной изолятор, или отдирать от булыжников и везти в морг тело выбросившегося из окна – Билл Клетус был тут как тут. Даже сам Хоббс знал его душу не лучше, чем в первый день работы Клетуса – дембеля-пехотинца, прошедшего Вьетнам. Жалобам на действия капитана и его людей – а их было полным-полно – Хоббс никогда не давал хода. Это было условием их негласного договора, и Хоббс свои обязательства всегда выполнял. Ответит ли теперь ему тем же и Клетус?.. Хоббс достал из ящика стола стеклянную пепельницу и поставил на стол.
– Можете курить, – предложил он.
– Спасибо, сэр, – поблагодарил Клетус.
– Как там ваши люди? – поинтересовался Хоббс.
– Нормально, – ответил капитан. – Они у меня службу знают.
– А как заключенные?
Клетус пожал плечами:
– По нашим сведениям, блок „C“ по-прежнему заперт еще со времени полуденной проверки. Там одни мексиканцы и чернокожие, так что Эгри, скорее всего, держит их взаперти. Остальные буйствуют вовсю. Все кабели, кроме подводок к больнице и к мастерским, перерезаны. Как вы приказали, мы усилили информационную блокаду и не станем включать электрический генератор до тех пор, пока не сочтем нужным. В основном контингент предоставлен сам себе, и сегодняшняя ночь обещает быть темной, душной и кровавой. К утру большинство заключенных будут ползать на брюхе и просить развести их по камерам.
– Нам тут почетная капитуляция не нужна, – сказал Хоббс. – Или они сдаются все вместе, или будут сидеть во всем этом и дальше.
– Согласен с вами. Это все стадный инстинкт: сейчас он требует крови, а позже повернет зэков против своих же заправил. Я не хочу, чтобы моим людям пришлось иметь дело с тремя-четырьмя десятками озверевших психов, а то все это растянется на неделю.
– Вы подсчитали точное количество заложников?
– Да, сэр. В основном здании остались тринадцать человек.
– А что с ранеными?
– В основном не очень серьезные колотые раны и синяки, но офицера Перкинса пришлось отправить в ожоговый центр в Бомоне. Если он переживет эту ночь, то ему, возможно, удастся выкарабкаться. Сяню, который вытащил Перкинса на себе, камнем проломили голову. Еще днем ему вычистили внутричерепную гематому, и все должно обойтись благополучно. В мастерских, насколько мы знаем, заложников нет. – Клетус достал пачку „Кэмел“ без фильтра. – По всем показателям процедура эвакуации выполнена безукоризненно. – Он вытряхнул сигарету и сунул ее в рот.
– А что с больницей? – поинтересовался Хоббс.
– Там из персонала нет никого. Только Коули и другие заключенные.
– А не может случиться так, что кто-нибудь из офицеров обожжен и остался внутри здания?
– Насколько мы знаем, нет. Правда, сержант Галиндес нарушил приказ об эвакуации и вернулся в блок „B“.
– Пошел прямо в огонь? – удивился Хоббс.
– Разблокировал замки дверей камер, чтобы выпустить заключенных. Он один из оставшихся внутри тринадцати. заложников. Красович видел, как его ударили дубиной по голове, но не смог к нему прорваться. Никто не знает, насколько серьезно он ранен.
– Он, должно быть, спас много жизней, – сказал Хоббс.
– Он нарушил приказ, – поправил Клетус. – И оставил Сяня и Перкинса в критическую минуту.
– И все же это был доблестный поступок, – оценил Хоббс.
– Если он останется в живых, – заявил Клетус, – я отдам его под суд.
Хоббс решил не спорить. Он знал, что для Клетуса все две с половиной тысячи заключенных не стоили жизни одного охранника. А вся процедура эвакуации персонала была разработана на горьком опыте тюрем Аттики, Нью-Мексико и Атланты: когда бунт достигает определенного пика, дальнейшие меры по наведению порядка не представляются действенными и охранники должны покинуть территорию тюрьмы. Так или иначе порядок восстановят, но при этом лучше избежать лишних жертв.
– Как люди реагируют на проблему заложников?
Клетус закурил.
– Ясное дело, стремятся их выручить, но верят, что я лучше знаю, как и когда это нужно делать. Никто не хочет, чтобы у нас повторилось то же самое, что и в Уако. По поводу ребят, что остались там, что ж: их готовили и к такому повороту событий.
Последняя фраза прозвучала с некоторой гордостью: Клетус регулярно посылал подчиненных на семинары по психологической подготовке к критическим обстоятельствам. Вообще-то, охранников в качестве заложников убивали редко. Бунтовщики в первую очередь увлекались резней на расовой почве. Даже в полном хаосе мятежа государственная власть, воплощенная в форме цвета хаки, продолжала вызывать у заключенных уважение и опаску. Плененные офицеры проходили через ад, но смертельный исход был маловероятен, если только самых свирепых мятежников не спровоцировали или не напугали несвоевременной попыткой спасения заложников.
– Какова позиция губернатора? – поинтересовался Клетус.
Хоббс посмотрел ему прямо в глаза:
– Он поддерживает нас на все сто процентов. По его требованию Национальная Гвардия приведена в боевую готовность, но губернатор согласен со мной, что пока вводить ее в действие преждевременно. В первую очередь он, как и я, озабочен тем, чтобы информационная блокада продлилась как можно дольше.
Изо всей этой тирады правдивой была только последняя фраза. Хоббс вообще не извещал губернатора штата и не собирался связываться с ним до самой последней минуты. Губернатора это дело не касается.
– Так что я настаиваю сосредоточить ваши усилия на соблюдении информационной блокады, – продолжал Хоббс. – И не хочу, чтобы телевизионщики летали у нас над головами на своих вертолетах.
– Я тоже, – согласился Клетус.
– Я не хочу, чтобы из „Зеленой Речки“ устроили балаган; здесь вам не Лос-Анджелес. Это паноптическая машина, и наш долг – дисциплинировать и наказывать, а не устраивать цирк на потеху отсталых слоев населения. Здесь место страданий и боли, посторонним нечего совать сюда свой нос. – Хоббс остановился и стер с губ капельки слюны. – Это не их дело.
– Согласен, сэр, – поддакнул Клетус.
Пыхнув сигаретой, капитан скрылся за плотным облаком дыма. Хоббса охватило сомнение: а не издевается ли над ним охранник? Может, он его держит за дурака и, спускаясь по лестнице, будет хихикать за спиной начальника? Хоббс страдал от невозможности поведать другому человеку хотя бы ничтожную долю распиравшей его идеи, монументальной, как сами стены тюрьмы. Был бы здесь Клейн… Тот, по мнению Хоббса, мог понять его, мог увидеть в непроглядной тьме слабо мерцающий впереди огонек маяка… Но Клейн тоже заперт в тюрьме. А ведь если бы не нетерпение Эгри, завтра он мог бы быть на свободе. Впрочем, какой смысл рассуждать над беспощадными шутками судьбы? Все равно, секрет власти таится в кризисах.
– Вы знаете, что значит слово „кризис“? – поинтересовался Хоббс у Клетуса.
Клетус нахмурился:
– Думаю, что да, сэр.
– Греческий корень этого слова означает „решать“, – пояснил Хоббс. – Но в китайском языке это понятие представлено лучше, двумя иероглифами, первый из которых значит „опасность“, а второй – „удобный случай“. Улавливаете мою мысль?
– Боюсь, что не совсем, – признался Клетус из-за дымной пелены.
– Для того чтобы реализовать удобный случай, чтобы принять решение, человек должен погрузиться в водоророт опасности и сдаться на милость его течения.
Клетус долго смотрел на начальника.
– Вы говорите так, будто этот наш мятеж – как раз то, что доктор прописал, – выдавил он наконец.
Хоббс остановился. В полумраке в глазах Клетуса трудно было что-то прочитать. Способен ли он понять?.. Скорее всего, нет. Стоит ли пробовать?
– В городе под названием „справедливость“, – начал Хоббс, – мы представляем собой канализацию, самое темное место. Организация, несущая карательные функции, не смеет лишний раз напоминать о себе людям, которым служит. Дальше терпеть грязь невозможно, но у нас не хватает силы воли смыть ее. И мы не врачи, изучающие тело больного для установления диагноза. Не являясь, таким образом, ни чистильщиками сортиров, ни докторами, мы тем не менее имеем дело с горами дерьма. Разве это подходящая работа для таких людей, как мы, капитан? Дерьмо-то собирать, а?
– Это, конечно, плохо, я понимаю, но должен же кто-то и это делать! – ответил Клетус.
Хоббса даже качнуло от накатившей на него дурноты. Он закрыл глаза:
– А ведь было время, когда лучшие умы человечества отдавали весь жар своей души для решения проблемы перевоспитания: Де Токвилль, Бентам, Серван… Мы сдались, Клетус. Это конец эры и утрата идеалов.
– С вами все в порядке, сэр?
Господи, как глупо было хоть на минуту предположить, что этот хам сможет что-то понять?.. Хоббс открыл глаза.
– Когда правосудие изменяет моральным и рациональным принципам, которым обязано своим авторитетом, наступает время передать тюрьму своим заключенным. Пусть они породят новую мораль, более соответствующую нынешним временам.
– Я только хочу переправить моих людей в безопасное место, – сказал Клетус. – Все прочее меня не заботит.
– Ваша жена, кажется, родила еще одного, Билл?
Клетус пожал плечами и приподнял руку с дымящейся в ней сигаретой:
– Она не разрешает мне курить дома, если вы об этом.
– Тогда вы должны знать, что на этом свете безопасных мест нет. Да и на том, возможно, тоже. Ведь даже самые умные из ангелов Божьих иногда падают. Единственное безопасное место – это преисподняя, откуда падать уже некуда.
– Я в богословии не особо силен, – ответил Клетус, – но думаю, что тех животных, что сидят у нас в тюрьме, Бог послал нам для испытания. Как говорится, здесь мы недолго, а там навсегда. Думаю, рано или поздно всем над придется делать то, что мы считаем правильным.
Хоббс мрачно кивнул:
– Немногие из нас удостоены чести встретить свою судьбу лицом к лицу. Большинство избегают этого даже у смертного одра.
– Именно это я и хотел сказать, – согласился Клетус.
Солнце совсем село, и они разговаривали в полной темноте, разбиваемой только тлеющим кончиком сигареты капитана, догоревшей почти до пальцев.
Клетус затянулся последний раз и, раздавив окурок в пепельнице, встал:
– С вашего разрешения, сэр, пойду-ка я к себе.
Хоббс тоже поднялся:
– Если бы я мог поменяться местами с вашими парнями, я бы не задумался ни на минуту.
Клетус прямо взглянул на него:
– Я знаю, сэр.
– Значит, мы понимаем друг друга, – заключил Хоббс.
Они пожали друг другу руки, и Клетус под взглядом начальника вышел из кабинета. Щелкнул замок, когда на Хоббса обрушилось ощущение полного одиночества. Кабинет представился ему самой вселенной с одним-единственным обитателем – им самим… Как там сказал утром Клейн: „Даже храбрейшие из нас…“ Хоббс не мог вспомнить все слова врача, и это его раздражало. Зато откуда-то всплыла мелодия невыразимой примитивности:
Когда я был ребенком просто,
Я просил у матери: „Дай-ка мне ответ…
Хоббс сел в самом центре своей вселенной и прислушался к отвратительной песне, перемалывающей внутренности его черепа.
Глава 20
Древнее, как мир, насилие катилось по тюрьме „Зеленая Речка“, подобно тропическому урагану, то затихая, то неожиданно вспыхивая с новой силой. Его мощь выдергивала людей из безопасных камер и бросала в вихрь огня и стали, беспощадно выставляя напоказ мерзость и подлость человека во всей их неприглядности. А в стороне от бури страстей, поджидая, пока обстоятельства станут более благоприятными, лежал на своей койке доктор Рей Клейн.
Дверь его камеры была прикрыта, но не заперта. Будь у Рея сварочный аппарат, он, не задумываясь, заварил бы ее намертво. А так ему пришлось ограничиться оловянной кружкой на нитке, которая должна упасть на пол и зазвенеть, если кто-нибудь попытается войти. А если неизвестный гость заметит кружку и тихонько ее снимет? Нет, спать нельзя. Стараясь расслабиться, доктор прикрыл глаза и стал мечтать о свободной жизни: вот он читает „Нью-Йорк таймс“ и пьет за обедом свежий апельсиновый сок; ложится в постель в три утра, а встает в десять; везет Девлин по шоссе № 190 в Новый Орлеан и в дешевом мотеле со слабым кондиционером, не способным высушить пот на их телах, трахает ее всю ночь напролет… Интересно, а что сейчас делает Девлин? Наверное, отмокает в ванне или ест в прохладном кафе салат с козьим сыром… Нет, она сидит и смотрит матч с участием „Лейкерс“… Удержат ли „Никс“ разницу в шесть очков?
Ничто не помогало.
Ни одна из этих мыслей не могла отвлечь Клейна от бушевавших за дверью его камеры боли и насилия.
Первые часы своего владычества мятежники посвятили слепому разрушению. Все, что могло ломаться, разбиваться, отрываться или разливаться, было сломано и разлито. Все, что можно было обратить в кучу хлама, было обращено. А поскольку перепуганные насмерть люди испражнялись и мочились прямо под себя, привычная вонь стала еще гнуснее и прилипчивее. Клейн вспомнил Людвига фон Больцмана и его теорию энтропии – вот что надо было подкинуть Хоббсу! Правда, он это, наверное, уже знал: хаос увеличивается в замкнутых системах.
С нижнего яруса из переносного магнитофона Нева Эгри раздался звук еще более противоестественный, чем размышления о Больцмане: аккомпанируя происходящему бедламу, в воздухе разливался сладкий голос Боба Уиллса и его „Тексас Плейбойз“:
…Видеть может только луна
Ту, кого мое сердце зовет,
Ведь мне нужна только Роза одна,
Чьи губы нежны и сладки как мед.
О Роза, Роза Сан-Антонио…
Под воркование „Плейбойз“ быстро садилось солнце, но освещения не дали. Электричества в блоке не было. Естественно, Эгри, единственный человек в тюрьме, который мог собрать преизрядный запас батареек, теперь травил всех своей чертовой музыкой. Он крутил эту песню чуть ли не с полудня. „В сердцё моем живет та мелодия…“ Тьфу, зараза. Еще немного, и Клейн выйдет к краю яруса и завопит свою коронную „Que Sera, Sera“. Где-то далеко, заглушая даже Боба Уиллса, время от времени начинал протяжно и жалобно кричать человек.
Клейн поймал себя на том, что не испытывал к кричавшему ни малейшей жалости. Скорее наоборот, он желал ему побыстрее заткнуться и отдать концы. Крик был блажью – если бы парню и в самом деле было плохо, у него бы не хватило сил вопить второй час подряд. Симулянт… Перерезал бы кто-нибудь ему глотку, что ли? Или хотя бы по роже дал… Конечно, может, бедолагу непрерывно насилуют целой компанией, но тогда, возможно, он вопит от извращенного удовольствия, вызванного свободой абсолютного подчинения, – такие случаи известны… Клейн приказал своим мыслям направиться в другое русло: ведь следующим может оказаться и он сам.
Сквозь стеклянный квадратик в задней стене камеры сочились последние чахлые лучики заходящего солнца; скоро совсем стемнеет, а между тем ни малейшего признака, что подача электричества возобновится.
Пока было относительно светло, карательные отряды заключенных рыскали по всем коридорам в поисках жертв и наркотиков. Поскольку Эгри обитал в блоке „D“, основные действия происходили за его пределами. Клейну стоило бы радоваться уже тому, что он находится сейчас в блоке „А“, а не внизу, в подземных переходах. Люди взбесились, стремясь свести старые счеты: непрерывные унижения в течение многих лет нашли выход в дикой вендетте. Мелкие и крупные долги возвращались большой кровью. Отвергнутые когда-то сексуальные домогательства сейчас претворялись в жизнь. Месть приобрела библейские масштабы. И каждый акт насилия провоцировала сама тюрьма; люди мстили друг другу за все: за годы взаперти, за переклички и вынужденное воздержание, за мучительное ожидание редких свиданий, за жен, добившихся развода и спящих с другими, за каждодневные унижения, за осточертевшую аммиачную вонь, за надутые хари членов комиссии по освобождению, за жалкие крохи наслаждений, получаемые в виде черствых пирожков, браги, выгнанной из хлебного мякиша, набитого в носок и опущенного в банку с прокисшими персиками, перемазанной фотографии распаленной шлюхи или тайного отсоса каким-нибудь жалким наркоманом, нуждающимся в наличных… За свой страх. За страх, не отпускающий ни днем, ни ночью. За страх каждую минуту, каждый день, месяц и год, терзающий артерии и нервы, пожирающий почки и сердце. „Не занял ли я в кинозале чужого места?“ Страх остаться в одиночестве и страх остаться в обществе. „А не настолько ли я молод и симпатичен, что меня могут затащить в общий сортир или распять на скамье в часовне и трахнуть по очереди, не забоять о вазелине?“ Страх просыпаться на рассвете каждого дня. Страх жизни и страх смерти. Вопли, что эхом кружились под стеклянной кровлей, звучали боевым гимном царства страха. Первобытного Страха, рвущегося из искалеченных душ тысяч людей.
Клейн постарался свернуть свой собственный страх в тугой комок и засунуть подальше, внушая себе, что он человек высокого интеллекта, склонный к холодному расчету и трезвому мышлению. Эти качества помогли ему прожить последние три года, помогут выжить и сейчас. Если во время бунта погибнет пятьдесят человек, это будет самый кровопролитный мятеж в истории тюрем США. А между тем шансы выжить при этом – примерно пятьдесят к одному. И если сидеть себе тихо в камере, а не шататься по тюрьме, шансы увеличатся. Пройдут два, ну пусть три дня, и зэкам все надоест. К тому же они проголодаются и начнут страдать от жары. Так что этот мятеж, как и все остальные, закончится обычно – безоговорочной капитуляцией. Клейну нужно просто оставаться в сторонке…
Неизвестный продолжал кричать. Возможно, это отходил от шока и страдал от невыносимой боли один из несчастных обожженных парней из блока „В“. Клейн не позволил себе раскиснуть: он не стал задаваться вопросом, чем можно помочь раненому, и не чувствовал в душе ни жалости, ни сострадания. Пусть эти люди молятся, если хотят, Богу, или наливаются самогоном и брагой, или обкалываются наркотой – Клейну не было до них дела. Стараясь отвлечься от жалобных криков, доктор сосредоточился на звуке капель воды из крана и веселых воплях бражников и попробовал мысленно подпевать бесконечной песенке, крутившейся на чертовом магнитофоне Эгри:
Здесь, около Аламо, я нашел
Очарование, невероятное, как неба глубина…
Внезапно из коридора послышался звук тяжелых шагов, шлепавших по заливавшей весь ярус воде. Клейн торопливо сел на койке и увидел в поставленном за решеткой зеркальце отражение двух рабочих ботинок. Клейн вскочил и выдернул из кармана револьвер. Не будучи большим спецом по оружию, он снова проверил барабан: боек по-прежнему рядом с пустым гнездом. Доктор опустил револьвер вниз; огромная фигура в дверном проеме камеры загородила собой остатки света, сочившиеся сквозь стеклянную крышу. Неизвестный, всматриваясь, опустил голову так, что стало видно его невыразительное длинное лицо.
– Доктор, – позвал Генри Эбботт.
– Я здесь, Генри, – отозвался Клейн.
Только испытав невероятное облегчение, он понял, как сильно испугался. Повернувшись боком, он постарался убрать револьвер с глаз Эбботта.
– Входите.
Эбботт отворил дверь; оловянная кружка со звоном полетела на каменный пол. Генри посмотрел на нее.
– Все нормально, – успокоил его Клейн.
Пока Эбботт протискивался в камеру, Клейн успел сунуть револьвер в карман.
– Присаживайтесь, – кивнул он гиганту.
– Вижу, вы последовали моему совету, – отметил Эбботт.
Клейн мысленно прокрутил в памяти события сегодняшнего дня, пытаясь припомнить, какой такой совет имеет в виду гигант. Так, последний раз они виделись за завтраком… Ага, Генри советовал ему избегать всяческих контактов.
– Ну да, я избегаю всяческих контактов, – подтвердил Клейн, садясь на стул напротив койки.
На лице Генри промелькнуло озабоченное выражение.
– Если хотите, я уйду, – произнес он.
Клейн знаком остановил его.
– Ну что вы, я очень рад оказаться в вашем обществе. – Он старался придать убедительное звучание своему голосу. – Я чувствую себя в большей безопасности.
– Почему? – спросил Эбботт.
Клейн на мгновение смешался. Эбботт, как малое дитя, порой задавал невообразимо конкретные вопросы, которые, тем не менее, казались глупыми только на первый взгляд.
– Полагаю, мы можем защитить друг друга в случае опасности.
Эбботт немного подумал, затем торжественно кивнул:
– Понимаю…
Лицо Эбботта будто слепили из самых простых элементов, вроде детских кубиков; на лбу ни единой морщины, а рот полностью никогда не закрывался. Те лекарства, которые гиганту кололи по настоянию Клейна, способствовали тому, что его лицо оставалось невыразительным и равнодушным, как маска, и посторонние вполне могли приписать его владельцу любые качества. Эбботт был свирепым, грубым, хитрым или звероподобным – одним словом, таким, каким вы не прочь его видеть. Самому Генри случай опровергнуть устоявшееся мнение о себе предоставлялся крайне редко, поскольку никому не приходило в голову заговорить с ним, – люди вообще предпочитали отводить глаза.
А глаза у Генри в определенном смысле были совершенством – в них ничего не отражалось. Из-за полной неподвижности его лица на коже не было ни морщинки, что в совокупности с отсутствием игры мускулов лишало глаза малейшей выразительности – просто серая с коричневыми прожилками радужка, грязноватая склера и глубокие глазницы.
Клейн кашлянул и перевел взгляд на капель с верхнего яруса. Странно – он делил свою камеру с психопатом-убийцей, который был выше его на пятнадцать сантиметров и тяжелее на сорок килограммов, и при этом чувствовал себя в большей безопасности.
– Для вас неприятности могут показаться более крупными, чем для меня, – сообщил Эбботт.
Вероятно, Эбботт каким-то образом прослышал о его несостоявшемся освобождении.
– Почему, Генри? – спросил Клейн.
– Потому что вы доктор, – ответил тот.
Порой нить рассуждений гиганта прослеживалась довольно трудно: он иногда находил между вещами странные связи.
– Не понимаю вас, – признался Клейн.
Гигант неторопливо кивнул на дверь:
– Там есть раненые. Я видел. Долг доктора в том, чтобы позаботиться о них, но вы сутра связаны моей рекомендацией избегать контактов. Вот я и пришел освободить вас от возложенных мною на обязательств…
Клейн уставился на сумасшедшего. Струйки пота, стекая по телу, щекотали кожу, как ползущие вниз вши.
– Очень мудро с вашей стороны, Генри, – выдавил он наконец, – но дело в том, что я остаюсь здесь в первую очередь потому, что не хочу быть убитым. – Клейн сделал паузу; Эбботт медленно моргнул. – Ваш совет был хорош. И ваше предчувствие было верным. Да, я знаю, что снаружи есть раненые, но я ничего им не должен. Понимаете? – На сей раз Эбботт не моргнул и не кивнул головой. Клейн заставил себя ожесточиться: – Это не моя война! Это не мои люди. То, что я обладаю нужными знаниями, еще не значит, что я должен подвергать свою жизнь риску. В другое время и в другом месте – да, очень может быть, но только не здесь и не сейчас.
Наступило долгое молчание. Эбботт, казалось, ушел в себя. Возможно, он прислушивается к голосу своих галлюцинаций, который называет „Словом“. Наблюдая и беседуя с гигантом в течение долгого периода, Клейн узнал, что Слово управляет Эббот-том примерно так, как взрослый направляет действия ребенка. И не просто взрослый, а ревнивый и непредсказуемый родитель. Весьма большой процент команд и предсказаний, продиктованных Эбботту Словом, были исполнены смысла, тем более что подавались в тюрьме, где паранойя являлась самой мудростью. Слово советовало гиганту, от каких вертухаев лучше держаться подальше, кому из персонала говорить „сэр“, как быстро нужно делать свою работу, когда приходить на разводы и поверки; когда, наконец, есть, а когда не есть овсянку.






